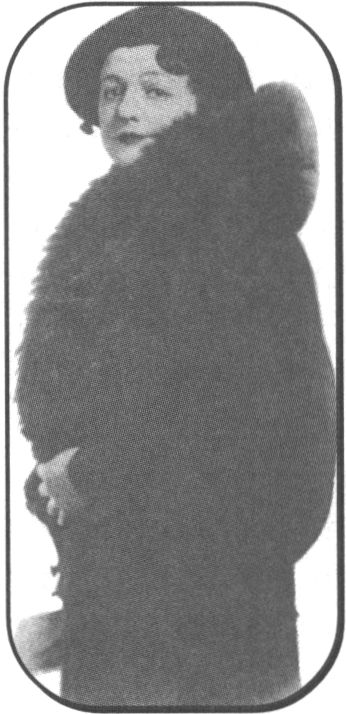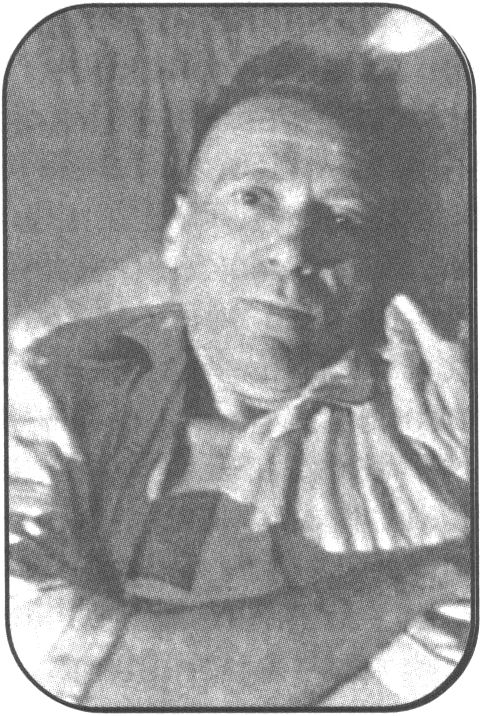Нюренберг Елена Сергеевна родилась 21 октября (2 ноября) 1893 г. в Риге. Ее отец, Сергей Маркович Нюренберг (см.), был сначала учителем, а позднее податным инспектором и юристом, имея классный чин коллежского советника. Одновременно сотрудничал в рижских газетах. Мать, Александра Александровна Горская (см.), в замужестве Нюренберг, была дочерью православного священника. В августе 1902 г. Елена Нюренберг поступила в рижскую Ломоносовскую женскую гимназию, но, не закончив ее, выбыла 21 октября 1909 г. «по желанию родителей» и занималась самообразованием вместе со старшей сестрой Ольгой, сначала в Риге, затем в Минске и Москве.
Первое предложение вступить в брак 19-летняя Елена получила в 1912 г. в Минске от военного офицера, поручика помещика Бокшанского, но уговорила его жениться на ее старшей сестре Ольге. В 1915 г. обе сестры пошли в Московский Художественный театр, но осталась там старшая — Ольга (см. Нюренберг (Бокшанская) Ольга Сергеевна), а Елена Сергеевна поступила в РОСТА, затем перешла в секретариат газеты «Известия». В декабре 1918 г. она выходит замуж за офицера, служащего одного из управлений РККА Юрия (Георгия) Мамонтовича Неелова, сына известного артиста-трагика Мамонта Дальского. Этот брак был непродолжителен. В 1920 г. Ю.М. Неелов переводится в другие места прохождения службы и больше со своей бывшей женой не встречается. С сентября 1921 г. Елена Сергеевна — жена сослуживца и бывшего начальника своего первого мужа, преподавателя Военной академии РККА Евгения Александровича Шиловского (см.). Вскоре у них рождаются сыновья — Евгений (1921) и Сергей (1926).
Но и этот, второй и, казалось бы, чрезвычайно благополучный, удачный и счастливый брак не оказался длительным. Окруженная заботой и живущая в достатке жена почти генерала, наделенная от природы деятельным активным характером, томилась от скуки. В 1923 г. она писала старшей сестре Ольге: «...иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается, я чувствую, что такая тихая семейная жизнь совсем не по мне. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но очень хочется. <...> Во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам... Я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или (в плохом настроении) сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или — когда солнце светит на улице и в моей душе — брожу одна по улицам». Забота о детях не могла целиком заполнить ее существование. В 1920-е гг. Шиловский был помощником начальника Академии Генштаба, в 1928—1931 гг. — начальником штаба Московского военного округа на генеральской должности, а в 1931 г. стал начальником кафедры в Академии Генштаба и преподавателем в Военно-воздушной академии. Он был очень занятым человеком, мало принадлежавшим себе...
Благодаря знакомству с Булгаковым, Елена Сергеевна погрузилась в естественную для нее атмосферу игры, веселья и развлечений московской литературно-театральной богемы. В 1961 и 1967 гг. она вспоминала об этом знакомстве, состоявшемся 28 февраля 1929 г. на квартире художников Моисеенко, киевских знакомых писателя, в доме 10 по Б. Гнездниковскому переулку: «Я была просто женой генерала Шиловского, прекрасного благородного человека. Это была, что называется, счастливая семья: муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее... Это было в 29-м году в феврале, на масляную. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия... В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь.
<...> Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие-то завязочки на рукаве, я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я и привязала его на всю жизнь. На самом деле, ему, конечно, больше всего понравилось, что я, вроде чеховского дьякона в «Дуэли», смотрела ему в рот и ждала, что он еще скажет смешного. Почувствовав такого благодарного слушателя, он развернулся вовсю и такое выдал, что все просто стонали. Выскакивал из-за стола, на рояле играл, пел, танцевал, словом, куражился вовсю. Глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты. Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная «Блокады», после этого — актерский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится. (Он играл ровнее Миши, — Миша иногда играл блестяще, а иногда мазал.) (Создавая образ безусловно художественно верный, Е.С. смешала события. Премьера «Блокады» Вс. Иванова во МХАТе состоялась 26 февраля 1929 г., генеральная, следовательно, была еще раньше, то есть задолго до масляной, а Маяковский еще 14 февраля выехал за границу и в Москву вернулся только 2 мая. — Примечания Л.М. Яновской).
Словом, мы встречались каждый день и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в девять часов. Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька (О.С. Бокшанская, сестра Елены Сергеевны, жившая в семье Шиловских. — Б.М.), которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону. Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова. Жил он в то время на Большой Пироговской, а мы на Большой Садовой, в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами, с кухней внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием, словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга. А он повторяет: «Выходите на крыльцо». Под Оленькино ворчание я оделась (командировка-то еще не кончилась!) и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко, Миша, белый в ее свете, стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит как пень. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. И опять — палец у рта, опять молчание. Потом также под руку ведет в какой-то дом у Патриарших, поднимаемся на третий этаж, он звонит. Открывает какой-то старик, роскошный старик, высоченного роста, красивый, с бородищей, в белой поддевке, в высоких сапогах. Потом выходит какой-то молодой, сын этого старика. Идем все в столовую. Горит камин, на столе — уха, икра, закуска, вино. Чудесно ужинаем, весело, интересно. Из каких-то слов понимаю, что старик в прошлом оптовый торговец, рыбопромышленник, был в ссылке, вернулся к сыну в Москву (а сам астраханский), привез всю эту рыбную снедь, которой его наградили в Астрахани бывшие приятели. А Миша был в приятельских отношениях с сыном его. Сидели до утра. Я сидела на ковре возле камина, старик чего-то ошалел: «Можно поцеловать вас?» — «Можно, говорю, целуйте в щеку». А он: «Ведьма! Ведьма! Приколдовала!» — «Тут я и понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!».
Пошли домой, и я так до сих пор не знаю, у кого это я была. Миша для таинственности не сказал фамилии и всегда и уверял, что все это мне приснилось. А может быть, и не рыбопромышленник, и не астраханский, и не был в ссылке, а это все это розыгрыш? Не знаю. Миша любил разыгрывать. <...> Потом пришла весна, за ней лето, я поехала в Ессентуки на месяц. Получила письма от Миши, в одном была засохшая роза и вместо фотографии — только глаза его, вырезанные из карточки. И писал, что приготовил для меня достойный подарок, чтобы я ехала скорее домой. А подарок был — что посвящает мне роман, показал черновик, тетрадь, на первой странице написано: «Тайному другу». Это черновик его романа «Записки покойника» — из театральной жизни. А на экземпляре книги «Дьяволиада» он написал в 33-м году: «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М. 21 мая». (День моих именин). С осени 1929 года, когда я вернулась, мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку, он в это время писал книгу «Жизнь господина де Мольера», и надо было выписывать из французов все, что было нужно ему. Он преклонялся перед Мольером. <...> Он так досконально изучил мольеровское время, что мог бы о каждом, даже о проходном персонаже рассказать всю биографию его. <...>».
Среди булгаковедов не сложилось единого мнения о том, как познакомились и когда Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна: уж очень много и совпадающих, и противоречащих друг другу фактов и сведений. Так биограф супругов Булгаковых, Л.М. Яновская, пишет: «...Как рассказывают домашние предания, в начале 1929 года, в Большом Ржевском переулке в Москве, группа военных осматривала только что отремонтированный прекрасный четырехэтажный дом (№ 11. — Б.М.) с колоннами, в котором им предстояло поселиться с семьями. Елена Сергеевна Шиловская сразу же облюбовала квартиру № 1 — в первом этаже, окнами на улицу. Е.А. Шиловский, незадолго перед этим назначенный начальником штаба Московского военного округа, попробовал ее остановить: дескать, неудобно, лучшая квартира в доме, ее, вероятно, займут Уборевичи. Но самоуверенная и хорошенькая Елена Сергеевна стояла на своем. Тридцатидвухлетний командующий округом Иероним Петрович Уборевич засмеялся и предложил так понравившуюся Елене Сергеевне квартиру Шиловским. Уборевичи, впрочем, тоже получили прекрасную и просторную квартиру — правда, в третьем этаже, окнами во двор.
Здесь, в Ржевском переулке, в квартире № 1, против густо затененной деревьями церкви Ржевской Божьей Матери, поселились Шиловские с двумя детьми, немкой-воспитательницей и домработницей. Ольга (О.С. Бокшанская, сестра Елены Сергеевны, жившая в семье Шиловских. — Б.М.) заняла небольшую, но очень уютную, украшенную коврами комнату с окном, романтически выходящим на цокольную площадку между двух колонн фасада... Но еще до переезда в этот дом — по-видимому, незадолго до переезда в этот надежный и удобный дом, который так часто будет упоминаться в ее дневниках, — Елена Сергеевна познакомилась с Михаилом Булгаковым. В ее дневниковой записи 4 января 1956 года есть такие строки: «Когда я с ними познакомилась (28 февраля 1928 г.)...». «С ними» — это с М.А. и Л.Е. Булгаковыми; единственный раз упомянуто, что при этом была и Любовь Евгеньевна, но ничего о месте встречи, но зато дата еще тверже: 28 февраля. Но масляная в 1929 году была не 28-го и даже не в феврале. Последний день масляной, или Прощенное Воскресенье, когда в России пекут блины, в тот год выпал на 17 марта. Когда же произошла встреча? На масляной? Или 28 февраля?
У Елены Сергеевны было природное, а в годы брака с Булгаковым необыкновенно обострившееся художественное восприятие событий жизни, художественное стремление сохранить не столько точность, сколько образ явления. И это ей блестяще удавалось. Вероятно, поэтому ее рассказы о том, что так сокровенно волновало ее — о ее первой встрече с Булгаковым, их любви, разлуке и счастливом соединении на горькую и радостную жизнь, — не только увлекательны, но загадочно противоречивы, в них есть несовпадения, недосказанность, оставляющая ощущение тайны, размытые места, перемещения событий и дат... Так рассказывался Еленой Сергеевной и такой вариант ее знакомства с Булгаковым: встретилось они у Уборевичей. «Я ведь у твоей мамы познакомилась с Михаилом Афанасьевичем», — говорила Елена Сергеевна Владимире Уборевич. К Владимире она относилась очень тепло — до конца дней. В голодном Ташкенте осенью 1942 года, когда дочь командарма оказалась на недолгой свободе, взяла ее к себе. <...> Известно, что на рубеже 20-х и 30-х годов у Уборевичей бывали музыкально-артистические вечера. Здесь встречались люди искусства и военные, молодой командующий округом любил музыку и танцы, случалось, несмотря на протесты жены, и сам присаживался к роялю. Жена Уборевича, Нина Владимировна, в прошлом актриса, очень близко дружила с Ольгой Бокшанской и однажды упросила Ольгу привести драматурга Булгакова, разумеется, с женой. Когда Булгаков бывал в ударе — а в этот вечер, в обстановке веселья и музыки, в окружении смеющихся милых женщин, он, надо думать, был в ударе, — его юмор фонтанировал, он непрерывно что-то сочинял, придумывал, устраивал, превращая вечер в феерический карнавал. Владимире Уборевич, который тогда было лет пять, он запомнился как что-то очень светлое в светлом луче — светлые волосы, светлый костюм... какие-то шарады... мама, на которой наверчено что-то невероятное... и Булгаков где-то высоко, кажется, на буфете, сидящий по-турецки и в чалме... и еще какая-то странная история о том, что жена Булгакова скакала куда-то на лошади, а Булгаков, ухватившись за хвост лошади, несся за нею на лыжах... Кстати, этот рассказ об увлекающейся конной ездой Л.Е. Белозерской и их общей любви к лыжным прогулкам может подтверждать, что было это зимой, и, вероятно, на исходе зимы 1929 года. <...> Как бы то ни было Булгаков и Елена Сергеевна познакомились... Е1о — взрослые, семейные люди — первое время они попытались не поверить в любовь, сами от себя укрывая ее под личиною дружбы. Булгаковы, оба, стали бывать у Шиловских. И Шиловские теперь бывали у Булгаковых».
Продолжим рассказ Елены Сергеевны: «Потом наступили гораздо более тяжелые времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась. И я не видела Булгакова восемнадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я в первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, что я, не знаю почему, приняла со смехом. Он мне сказал: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках!..» И я, смеясь, сказала: «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на...» Он сказал: «Я говорю очень серьезно, поклянись». И в результате я поклялась...».
В сентябре 1929 г. Булгаков посвятил Елене Сергеевне повесть «Тайному другу». В 1931 г. об их связи узнал Е.А. Шиловский. Произошло бурное объяснение, но чувства писателя и его возлюбленной оказались настолько сильны, что смогли преодолеть все препятствия: жилищные, бытовые, финансовые, житейские. Было преодолено резкое сопротивление Е.А. Шиловского. 3 октября 1932 г. прежний брак был расторгнут, а уже 4 октября заключен брак с Булгаковым.
Детей Шиловские «поделили». Старший, Женя, остался с отцом, младший, Сережа, — с матерью, и Булгаков, ставший фактически отчимом, полюбил его как родного. Е.А. Шиловский помогал бывшей жене и сыну, но с Булгаковым более никогда практически не встречался. С сентября 1933 г. Елена Сергеевна начала вести дневник, который является одним из наиболее важных источников биографии Булгакова, она становится литературным секретарем писателя, его советчиком и первым читателем. Становится собирателем и хранителем его творческого и биографического архива, переданного впоследствии в государственные хранилища. Этот дневник, в наиболее полном виде изданный в 1990 г., показывает и картину почти тотальной слежки за домом Булгакова: писатель был буквально окружен доносчиками, стукачами и осведомителями, добровольными и платными. Обнародованные в последнее время материалы отчетов этих «доброжелателей» и «источников» из рассекреченных лубянских архивов НКВД раскрывают печальные факты того, что вхожие в его дом журналисты К. Добраницкий и Э. Жуховицкий, театральный деятель Б. Штейгер были штатными сотрудниками органов Лубянки, приставленными к Булгакову (Штейгер, кстати, выведен в образе барона Майгеля, казненного в «Мастере и Маргарите»). Исследователи биографии писателя, проанализировав мемуарную литературу о нем, пришли к предположению, что могли порой выполнять такие фискальные функции как его друзья (Г. Конский, Е. Калужский, С. Ермолинский), так и самые близкие люди, вплоть до свояченицы (О.С. Бокшанской) и собственной жены. Вот и автор «Жизнеописания Михаила Булгакова» М.О. Чудакова в одной из своих статей приводит строки из адресованного ей письма старшей невестки Елены Сергеевны, Д.Э. Тубельской, которая... «и после развода (с Е.Е. Шиловским. — Б.М.) сохранила с бывшей свекровью достаточно близкие отношения»: «Сейчас произнесу крамольнейшую мысль, пришедшую мне в голову, — а не имела сама Елена Сергеевна особого задания? Вполне допускаю, что на первых порах она холодно принимала любовь М.А., выполняя некое задание, а затем искренне полюбила его сама и посвятила ему всю свою жизнь. Возникает ряд бытовых деталей. Откуда такая роскошь в ее жизни? Ведь временами М.А. почти ничего не зарабатывал. Откуда дорогие огромные флаконы Гэрлен и Шанель, когда их в Москве никто и не видывал? Откуда шубы и прекрасная одежда, обувь от Барковского? Откуда возможность прекрасно принимать многочисленных гостей? Откуда возможность посещать приемы в американском посольстве, принимать у себя дома американцев, да и тех же осведомителей? Откуда возможность подписывать какие-то договора на издания за границей? Почему так активно взяла она в руки все дела М.А. — переговоры с театрами, с издательствами и пр.? Почему, наконец, она так быстро покинула обеспеченный дом Шиловского, разделила сыновей и последовала за крайне сомнительным будущим с Булгаковым? Думаю, что у нее была уверенность в незыблемости ее собственных доходов. И необходимость следовать некоему приказу... И, наконец, почему после смерти М.А. так резко впервые в ее жизни наступили финансовые трудности? Не потому ли, что «объект» наблюдений скончался, и отпала необходимость в ее услугах?..».
Комментируя приведенный в статье фрагмент письма, его адресат пишет: «Уровень жизни в доме Булгаковых, с почти ежедневными приемами, резко отличался даже от весьма обеспеченных литературных домов. Д. Тубельская, близко связанная с домом Алексея Толстого (дочь Толстого Марианна во второй половине 1930-х годов вышла замуж за Е.А. Шиловского, покинутого Е.С., а Д. Тубельская была в то время женой сына Шиловского и жила в их доме), свидетельствует, что приемы у Толстого не достигали булгаковских... Но главное, конечно, — совершенно исключительное положение Булгакова в отношении постоянного «контакта с иностранцами»... Кто-то должен был давать постоянные сведения об этих контактах, а не эпизодические, как Жуховицкий или Штейгер, которые далеко не всегда были свидетелями этих встреч Булгакова с работниками посольств...». Завершает свой комментарий М.О. Чудакова так: «Когда в начале 1970-х годов до Москвы докатились странные соображения Соломона Иоффе о том, что сначала Бокшанская, а затем Е.С. были, и чуть ли не в 20-е еще годы, любовницами Сталина, и ко мне стали обращаться... Я отвечала, что... могу сказать лишь одно: в личности Е.С. не было противопоказаний и для такого рода предположений».
В дневниках Е.С. Нюренберг-Булгаковой иногда тоже проскальзывает мысль о бытовавшем в их доме шутливо-печальном суждении: спокойно относиться к назойливым и неизбежным «друзьям» — ведь через них возможна самая быстрая доставка просьбы наверх. На самый верх... Действительно, как показывают биографы писателя, самыми назойливыми «друзьями дома» у Булгаковых были штатные осведомители Лубянки Э.М. Жуховицкий, К.М. Добраницкий и позже Б.С. Штейгер, которые попали в роман «Мастер и Маргарита» в неприглядных образах доносчика Алоизия Могарыча и «наушника и шпиона» барона Майгеля. Про Эммануила Львовича Жуховицкого (1881—1937), писателя и переводчика, приведем мемуарный рассказ Е.С. Булгаковой, записанный осенью 1969 г. М.О. Чудаковой: «<...> Об Э. Жуховицком так Булгаков говорил: «Позвони этому подлецу» (он знал); как тот приходил — «толстый, плотоядный», — так Булгаков начинал с ним игру:
— Хочу за границу поехать. (Е.С. артистически разыгрывала мечтательно-беспечную к нему интонацию и мимику говорящего).
— Вы бы сначала, М.А., на заводы, написали бы о рабочем классе, а там уж и за границу.
— А я, знаете, решил наоборот — сначала за границу, а потом уж о рабочем классе. Вот вместе с Еленой Сергеевной поедем.
— Почему же с Еленой Сергеевной?..
— Да мы, знаете, привыкли как-то вдвоем по заграницам ездить.
— Нет, вам, наверное, дадут переводчика...
Когда Жуховицкий спешил уходить (являться куда следует), Булгаков нарочно его задерживал до 11-ти ночи... Потом говорил Елене Сергеевне, что больше не пустит его на порог:
— Ведь это надо! Кончил Оксфорд, чтобы потом... — и стучал по столу костяшками пальцев.
А через две-три недели опять хотелось ему чего-то острого, и он говорил:
— Ну, позови этого подлеца. <...>».
Да, осведомители, порой, докучали. Реальность же была такова: уже в марте 1933 г. Булгаков передает жене доверенность на заключение договоров с издательствами и театрами по поводу своих произведений, а также на получение авторских гонораров, сохраненные ею пожизненно и позже переданные по наследству внуку Сергею Сергеевичу Шиловскому... Свои дневники Елена Сергеевна вела и после смерти Михаила Афанасьевича. 4 января 1956 г. она вспомнила, как рассказывал ее муж о своем разговоре со Сталиным: «<...> Тогда он написал письмо Правительству. Сколько помню, разносили мы их (и печатала ему эти письма я, несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется адресатами были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (тогда нарком просвещения) и Ф. Кон. Письмо в окончательной форме было написано 28 марта, а разносили мы его 31-го и 1 апреля [1930 г.]. <...> А 18-го апреля часов в 6—7 вечера [Булгаков] прибежал, взволнованный в нашу квартиру [с Шиловским] в Большом Ржевском переулке и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба (Л.Е. Белозерская, тогда жена Булгакова. — Б.М.) его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. М.А. не поверил, решил, что розыгрыш (тогда это проделывалось), и взъерошенный, раздраженный взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Да, да.
— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:
— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или — Михаил Афанасьевич — не помню точно).
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — пустить вас за границу? Что — мы вам очень надоели?
М.А. сказал [мне], что настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил:
— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами...
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего. <...>.
На следующий день после разговора М.А. пошел во МХАТ, и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление...
— Да, боже ты мой! Да, пожалуйста!.. Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М.А. написал заявление). И его зачислили ассистентом-режиссером во МХАТ. <...>».
Ныне опубликованные «Дневники Елены Булгаковой» открывают и страницы творческой биографии писателя. Во время «премьерной горячки» выпуска во МХАТе спектакля о великом французском комедиографе Е.С. Булгакова записала 11 февраля 1936 г. в своем дневнике: «Сегодня смотрел «Мольера» секретарь Сталина Поскребышев. Оля (О.С. Бокшанская. — Б.М.), со слов директора, сказала, что ему очень понравился спектакль и что он говорил: «Надо непременно, чтобы И.В. (то есть И.В. Сталин. — Б.М.) посмотрел». Сегодня в «Советском искусстве» статья Литовского о «Мольере». Злобой дышит...» Итак, «король» направил на спектакль своего приближенного, а советская «Кабала» уже начала действовать. Тогдашний влиятельный театральный критик и руководитель Главреперткома О.С. Литовский (прототип критика О. Латунского в романе «Мастер и Маргарита»), убежденный враг Булгакова, писал: «Самый материал пьесы настолько недостоверный, что все усилия мхатовцев создать спектакль социально-страстный не могли увенчаться успехом <...>. Булгакову нельзя отказать в драматургическом таланте и сценической опытности. Эта опытность не спасает автора от примитива, который особенно чувствуется в социально-значимых сценах пьесы (например, заседания «Кабалы»). С булгаковским Мольером, в конце концов, «Кабале» незачем так упорно бороться и мобилизовывать столько сил. Он нисколько не опасен...». Таким образом, от имени Литовского прозвучал первый сигнал к травле и одновременно донос «королю». И лишь в одном, возможно, мог согласиться Булгаков со статьей критика Литовского, который заявлял: «Этот спектакль — без Мольера», имея в виду рисунок роли главного героя, который предлагал ее исполнитель В.Я. Станицин (Гёзе), артист комически-резонерского амплуа и уже выдохшийся в конце пятилетнего марафона репетиций. И на ведущее место в спектакле фактически претендовал Король в блестящем исполнении М.П. Болдумана, что, конечно, смещало художественные и идеологические акценты пьесы.
Главный же удар спектаклю был нанесен анонимной статьей газеты «Правда» (9 марта 1936 г.) «Внешний блеск и фальшивое содержание», подготовленной на основе закрытой справки П.М. Керженцева в ЦК (Сталину и Молотову). Основной акцент в справке и статье был сделан на политический смысл сочинения: «...Он (М.А. Булгаков. — Б.М.) хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем страны, в которой он живет и творит, пьесы которого запрещают. В таком плане и трактуется Булгаковым эта «историческая» пьеса из жизни Мольера. Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная «Кабала», руководимая попами, идеологами монархического режима. <...> Мольер произносит такие реплики: «Всю жизнь я ему (Королю) лизал шпоры и думал только одно: не раздави... И вот все-таки раздавил... Я, быть может, мало вам льстил? Я, может быть, мало ползал? Ваше величество, где же вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер? <...>Что я должен сделать, чтобы доказать, что я червь?». Эта сцена завершается возгласом: «Ненавижу бессудную тиранию!» (Репертком исправил: «королевскую»). Несмотря на всю затушеванность намеков, политический смысл, который Булгаков вкладывал в свое произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намеков и не заметит. Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV». <...> У Булгакова в лице Мольера «...показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих семейных делах. Интрига «Черной Кабалы», выведенной в пьесе по всем правилам драмодельских шпаргалок, не только не вяжется с исторической правдой, но и со здравым смыслом. Когда видишь заседание «Кабалы» или исповедь в соборе — просто не веришь, что все это происходит в филиале МХАТа, настолько низкопробно. Эта фальшивая, негодная пьеса идет решительно вразрез со всей творческой линией театра. Это урок для всех наших театров».
Как и предполагал П. Керженцев, руководство МХАТа (Станиславский, Немирович-Данченко, члены Дирекции) сняли «Мольера» чуть ли не в пожарном порядке, в день появления злосчастной статьи. Сам автор пьесы обвинял в этом еще и О.С. Бокшанскую и Е.В. Калужского — своих новых родственников, входящих в число администрации Художественного театра, а Е.С. Булгакова, суммируя отрицательные отзывы о «Мольере», записала в дневнике: «Участь Миши мне ясна, он будет одинок и затравлен до конца своих дней».
Младшего сына Елены Сергеевны, Сережу Шиловского, оставшегося в новой семье Булгаковых после ее развода с прежним мужем, писатель полюбил как родного, компенсируя этим отсутствие своих кровных детей. Сережа называл нового отца Потапом (видимо, по образу доброго медведя из детской сказки — Михайло Потапыча), сам Булгаков называл его по-разному, а в документах и пасынком, и даже сыном, хотя прямого усыновления (о чем писатель мечтал в последние дни своей жизни) не могло быть ни по юридическим (при живом и не отказывающемся от него родном отце — Е.А. Шиловском, помогающем бывшей жене и материально в виде добровольных алиментов), ни по морально-этическим законам. Называл и в связи с бытовыми обстоятельствами: например, в лечебной карточке на право пользования поликлиникой мединститута за счет Литфонда отмечен в разделе «прикрепления иждивенцев», кроме жены — «2. Булгаков Сергей. 10 лет. Сын». Сам Сережа шутливо на это отзывался, когда его именовали такой фамилией фактического отчима. Как бы комментируя эти события и естественно радуясь им, Елена Сергеевна писала матери в Ригу более открыто и раскованно, чем позволяла себе в дневнике: «Живем мы, поживаем, дружно, мирно, любовно. Сергей объявил, что скоро приходит срок — пять лет, как мы все трое вместе, и что теперь, как только пять лет пройдет, уж он становится сын Потапа (то есть Миши), и даже имеет право вписаться в его паспорт. Кроме того, он намерен переменить свое отчество и фамилию и называться: Сергей Михайлович Булгаков» (16 мая 1937 г.). «Женичка жил некоторое время у товарища своего в Ленинграде, а теперь живет под Москвой на даче. Мил, здоров, красив, очень очарователен, большой друг не только мне, но и дяде Мише. В последнее время мы занимались тем, что уверяли Мишу, что и Женичка тоже его сын, и Женя все время звал Мишу папой. На что Миша отмахивался, уверяя, что одного, Сергея, ему втерли и довольно» (19 июля 1937 г.).
Летом 1938 г. Сергей получил на отдыхе в Лебедяни такое послание от «Потапа»: «Секретное письмо. Одному Сергею. Дорогой Сергей! Спасибо тебе за письмо и рисунки! Пиши еще, а то мне будет скучно. Напиши мне по секрету, пожалуйста, как по твоему мнению, поправляется ли Мася, и пополнела ли она или нет? Целую тебя! Саше привет. Твой Дя Ми. 3 июня 1938 года». Расшифруем в этом письме два собственных имени: «Мася» — это Е.С. Булгакова, мать Сергея, а «Дя Ми» — это, безусловно, «Дядя Миша», — так, в этом случае, сделал Михаил Афанасьевич, самоназвавшись для «племянника»-пасынка. Шутливый же тон «секретного письма» и «секретная просьба» оценить состояние здоровья Елены Сергеевны были не случайны. В конце мая 1938 г. Е.С. Булгакова с сыном уехала на отдых в Лебедянь. По существу это была первая разлука писателя с новой женой со дня начала их совместной жизни. Отдых Елене Сергеевне был крайне необходим, поскольку жизнь в условиях постоянных потрясений привела ее к нервному истощению. Головные боли, бессонница (она страдала пороком сердца) стали практически постоянными. К тому же на ее плечи легли хозяйственные и деловые вопросы и заботы. Ее муж, как врач и превосходный психолог, прекрасно понимал ее состояние и решил отправить Елену Сергеевну с сыном в относительно спокойное место, подальше от той обстановки, что явилась причиной нервного переутомления. При этом он запретил ей употреблять какие-либо лекарства. Может быть, сам Булгаков еще больше нуждался в отдыхе (в середине лета он смог-таки на несколько недель вырваться в Лебедянь), но пока категорически отказался от этого по двум причинам: из-за крайне напряженной работы в Большом театре и в силу твердого желания непременно завершить в кратчайший срок основную свою работу — роман «Мастер и Маргарита».
В самом начале ноября 1938 г. Елена Сергеевна была вдохновителем и свидетелем подготовки и участия Булгакова в театрализованном поздравлении артистов Большого театра МХАТу по случаю его сорокалетия. Ее муж выступал в этом действии как конферансье. В дневнике Е.С. Булгакова записала: «2 ноября. М.А. в Большом — на репетиции шуточного поздравления МХАТа. <...> 3 ноября. М.А. на репетиции — днем. А вечером, прорепетировав в последний раз свою роль передо мной, М.А. в черном костюме пошел в Дом актера. <...> 4 ноября. Вчера М.А. вернулся в начале третьего с хризантемой в руке и с довольным выражением лица. Протомив меня до ужина, стал по порядку все рассказывать. Когда он вышел на эстраду, начался аплодисмент, продолжавшийся несколько минут и все усиливавшийся. Потом он произнес свой conferance, публика прерывала его смехом, весь юмор был понят и принят. Затем начался номер (выдумка М.А.) — солисты Большого театра на мотивы из разных опер пели тексты из мхатовских пьес («Вишневый сад», «Царь Федор», «Горячее сердце»). Все это было составлено в виде заседания по поводу мхатовского юбилея. Начиная с первых слов Рейзена: «Для важных дел, египтяне...» и кончая казачьей песней из «Целины» со специальным текстом для МХАТа — все имело шумный успех. Когда это кончилось, весь зал встал и, стоя, аплодировал, вызывая всех без конца. Тут Немирович, Москвин, Книппер пошли на сцену благодарить за поздравление, целовать и обнимать исполнителей; в частности, М. А-ча целовали Москвин и Немирович, а Книппер подставляла руку и восклицала: «Мхатчик! Мхатчик!» Публика кричала «автора». М. А-ча заставили выходить вперед. Он вывел Сахарова и Зимина (молодых дирижеров Большого, сделавших музыкальный монтаж по тексту М.А.), они показывали на М.А., он — на них. Кто-то из публики бросил М.А. хризантему. После чего М.А. вернулся домой, хотя его очень уговаривали остаться. Габтовцы, особенно молодежь, были очень довольны успехом номера, кто-то с восторгом сказал про М.А. — «вот ловко трепался!» (про речь). Сегодня с утра бенефис продолжается. Звонили <...> Оленьке (О.С. Бокшанская. — Б.М.). Оля (в диком восторге):
— Неужели Миша теперь не чувствует, какие волны нежности и любви неслись к нему вчера из зала от мхатовцев? Это было так неожиданно, что Миша вышел на эстраду... такой блистательный conference... у меня мелькала мысль о Мольере, вот так тот говорил, наверное... М.А. днем навещал Дмитриева (В.В. Дмитриев, художник МХАТа. — Б.М.) <...>, видел Ольгу Леонардовну (Книппер-Чехову. — Б.М.), та говорила: «Самый лучший номер! Блестяще! Вы оживили Большой театр!» <...>».
Упоминаемый «conferance» Булгакова был застенографирован, и стенограмма сохранилась в архиве Музея МХАТа: «Большой театр хочет выступить с дружественной большой программой, обращенной к Художественному театру по случаю его сорокалетнего юбилея... Начал гладко... а дальше будет хуже... Дело в том, что произошел скандал. В предъюбилейные дни мы так много говорили о Художественном театре, о том, что его надо поздравить, приветствовать, надо, надо, надо... и за этими разговорами программы не подготовили, собрания по этому вопросу не устроили... Положение наше вдвойне трудное: мы по чисто органическим качествам разговаривать как люди не умеем. Мы поем с утра до вечера и даже ночью. Мои товарищи, солисты, послали меня вперед и сказали: ты уладь это дело. Но я не могу уладить. Я могу спеть и на этом выскочить. Но сами понимаете, что это не способ. Поэтому я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой: разрешить нам здесь провести это собрание, заседание. Мы не будем вам мешать...».
Писательница Мария Ангарская, дочь издателя и общественного деятеля 1920-х гг. Н.С. Клестова-Ангарского, который напечатал в сборнике «Недра» повести Булгакова «Дьяволиада» и «Роковые яйца», собирался публиковать «Белую гвардию» и «Собачье сердце», — так вспоминает о встречах с булгаковской семьей: «...В тридцать четвертом я <...> переехала к Пречистенским воротам, туда, где неподалеку еще недавно возвышался Храм Христа Спасителя. У Пречистенских ворот жили и Булгаковы в доме писателей в Нащокинском переулке (ул. Фурманова). Живя по соседству, мы часто встречались на улице, в метро. Елена Сергеевна провожала Михаила Афанасьевича в Художественный театр, а иногда и в Большой, где он принимал участие в литературной части театра. Утром, торопясь, мы, дружелюбно приветствуя друг друга, обменивались несколькими фразами. А когда встречались после работы, Булгаковы гостеприимно приглашали меня к себе, угощали обедом.
Трехкомнатная квартира Булгаковых была очень красива, со вкусом обставлена. Главным образом мебелью красного дерева. На обеденном столе синий с позолотой старинный сервиз. Домработница Булгаковых была хорошей кулинаркой. Все блюда, закуски очень разнообразны, особенного приготовления. До сих пор запомнила маленькие пирожки с необыкновенно вкусной начинкой. Надо отметить, что Булгаковы жили широко, гостеприимно. Почти каждый день они кого-то принимали или сами уезжали в театры, на приемы, в гости. У Сережи была бонна, и, как я уже упоминала, была хорошая домработница. Елена Сергеевна занималась исключительно булгаковскими делами: вела дневник, переписывала его произведения. Много внимания уделяла своим туалетам, парикмахерским. Положение жены Булгакова ко многому обязывало, и она всем этим занималась с удовольствием и вкусом. Она была светской дамой с большим обаянием и тактом. Пожалуй, слишком светской. Ей нравилось принимать гостей, очаровывать их остроумной, непринужденной беседой, которая часто продолжалась до утра, конечно, с участием Михаила Афанасьевича, которому тоже нравилось принимать умных, талантливых друзей. Елена Сергеевна радовалась этому и порой забывала, что такой образ жизни может вредно сказаться на здоровье ее мужа, на его творчестве. И потом, что тоже существенно, нужны были деньги, и немалые. А пьесы порой не шли, практически все снималось, запрещалось. И потому Булгакову приходилось заниматься случайными заработками. <...>
...В начале сентября 1939 года я встретила Елену Сергеевну в аптеке, расположенной почти на углу Пречистенских ворот. Елена Сергеевна была очень грустна. Я спросила: чем она так опечалена? Михаил Афанасьевич в то время писал по договору с Художественным театром пьесу «Батум» о юности Сталина. Булгаковы и представители Художественного театра должны были ехать в Батуми, чтобы собрать кое-какие дополнительные материалы и тут же начать репетировать. Пьеса была уже принята и Художественным театром, и Комитетом по делам искусств.
— И вдруг, — рассказывала Елена Сергеевна, — едва мы приехали в Серпухов, как проводница зачитала телеграмму, посланную на имя Миши, чтобы возвращались срочно в Москву, постановка пьесы отменяется. Представляете наше состояние? Мишу это известие просто убило. Еле взяли такси и доехали до дома. Оказалось, что пьесу прочел ее герой и не позволил ставить. Это какой-то рок висит над нами! Сейчас находиться дома просто невозможно, — говорила Елена Сергеевна. — Надо хоть как-то отвлечь Мишу, куда-нибудь уехать. На юг не хочется после всей этой истории. Думаю уговорить его поехать на несколько дней в Ленинград. <...>
Решили ехать вместе: Елена Сергеевна с Михаилом Афанасьевичем и я с мужем, Леонидом Сергеевичем Ленчем. Остановились в гостинице «Астория». Наши номера были рядом. Мы стремились совершенно отключиться от всяких дел, неприятностей и наслаждались изумительными красотами города, его памятниками. Совершили поездку на катере по Неве. Михаил Афанасьевич с особым настроением задержался в квартире Пушкина на Мойке... Постепенно первые два дня Булгаков начал отходить от своего трагичного, депрессивного состояния. Заходя в магазины, приобрели несколько сувениров. Михаил Афанасьевич подарил мне на память несколько кувшинчиков. <...> Но дня через три у Булгакова начались боли в глазах, ухудшилось общее состояние. На четвертый или пятый день нашего пребывания мы с Ленчем поехали навестить наших родственников. А к вечеру, вернувшись, нашли записку. Булгаковы сообщали, что Михаил Афанасьевич плохо себя почувствовал, и они срочно возвращаются в Москву. На другой день мы с Ленчем также покинули Ленинград. По прибытии домой тут же позвонили Булгаковым. Елена Сергеевна сказала, что Михаил Афанасьевич лежит, плохо себя чувствует. Состояние его здоровья в течение нескольких месяцев менялось, иногда наступали просветы. И тогда Елена Сергеевна разрешала нам с Ленчем навестить Михаила Афанасьевича. Он с интересом расспрашивал Леонида Сергеевича обо всех новостях в области юмора, интересовался журналами «Крокодил» и «Огонек», где сотрудничал в то время Ленч. О своем здоровье Булгаков говорить не любил, и мы эту тему не затрагивали. Как-то, придя к Булгаковым, мы застали Михаила Афанасьевича в довольно приятном настроении. Он был разговорчив. Несмотря на то, что у нас был подписан пакт о ненападении с Риббентропом, Булгаков утверждал, что очень скоро начнется война. Наступит голод. Здесь, на Пречистенском и Никитском бульварах, будут сажать лук, морковь, картошку. Французы также начнут выращивать овощи на Елисейских полях. Бывали моменты, когда Булгаков начинал говорить о смерти, он чувствовал ее приближение и с долей сарказма представлял свои похороны. Например, почему-то упомянул о том, что когда будут выносить гроб с его телом, то он обязательно сильно стукнется на третьем этаже у квартиры Алексея Файко... Как же мы были поражены, когда именно так и произошло. <...>».
В обширной мемуарной литературе о Михаиле Афанасьевиче Булгакове встречаются описания тех «приемов» гостей, которые устраивала Елена Сергеевна. Но оценка их иная, чем в приведенном письме Д.Э. Тубельской и комментарии к нему. Вот несколько зарисовок из этого мемуарного полотна: «...Дома у него часто собирались друзья и близкие знакомые, Павел Марков, Виталий Виленкин, Сергей Ермолинский, Петр Вильямс, Борис Эрдман, Владимир Дмитриев, Павел Попов и еще кое-кто. Небольшая столовая, примыкавшая к кабинету хозяина, заполнялась целиком», — пишет драматург А.М. Файко. «В передней, над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой: «Водка — яд, сберкасса — друг». А на столе уже все было приготовлено — чтобы выпить и закусить, и обменяться сюжетами на острые злободневные темы. Слетала всякая шелуха, душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день, и всегда получалось весело», — вспоминает С.А. Ермолинский. А вот впечатления В.Я. Виленкина, бывшего тогда завлитом МХАТа: «В кабинете было множество книг, впрочем, как и в коридоре, столовой, — везде... а расходились мы уже под утро. Потому что всегда засиживались за ужином. Елена Сергеевна умела и любила принять, угостить, и Михаил Афанасьевич бывал за этим уютным круглым столом не только упоительным рассказчиком, но и заботливым гостеприимным хозяином. Правда, у меня в голове почему-то иной раз шевелилось грешное подозрение: а не придется ли им завтра что-нибудь снести в комиссионный магазин после таких роскошеств? Ведь жили они только на его зарплату, да и на авторские за «Турбиных», которые шли только во МХАТе и не так уж часто. Все мы, бывало, любовались прекрасной старинной люстрой, висевшей у них в столовой. Но фразочку: «Ничего, я люстру продам!» — слыхивал я в этом доме не раз, не при гостях, разумеется. Вообще что-то не совсем благополучное, как будто нависшее над этим домом, мерещилось мне всегда, как бы ни бывало мне здесь захватывающе интересно и весело...».
Главным делом для Елены Сергеевны в конце 1930-х гг. была помощь мужу в создании и завершении своего «закатного» романа. Об этом периоде жизни супругов Булгаковых написано достаточно. Здесь приведем малоизвестные воспоминания кинорежиссера А. Стефановича, недавно изданные в США: «...Он писал, она переписывал и так входила в процесс создания романа, зная многие вещи, которые оставались неизвестными писателю. Булгаков заканчивал роман, будучи уже смертельно больным, переделывал, вписывал какие-то строчки, и даже за несколько дней до смерти (почти за месяц: правка закончилась 13 февраля 1940 г. — Б.М.) надиктовывал ей какие-то страницы. Елена Сергеевна рассказывала о таком случае: когда один из вариантов романа был закончен, он собрал нескольких друзей, она накрыла стол, и в течение двух вечеров он прочитал им ключевые главы «Мастера и Маргариты». А когда захлопнул рукопись, то сказал:
— Ну, все, завтра иду сдавать в издательство.
И она говорит:
— Я вышла на кухню, ко мне подскочил кто-то из гостей и сказал: «Я вас умоляю! Ни под каким видом! Он что, сошел с ума? Он самоубийца, что ли? Его расстреляют сразу, как только им это покажет!».
А это была очередная шутка Булгакова. Но теми единственными слушателями романа — никаких других читателей у романа не было еще много-много лет — это его заявление было воспринято абсолютно всерьез, они переполошились. <...>».
Прервем на некоторое время воспоминания кинорежиссера А. Стефановича на середине 1939 г. В начале июля работа над пьесой «Батум» была в самом разгаре. Елена Сергеевна записала в дневнике: «3 июля. <...> Вечером у нас Хмелев, Калишьян, Ольга (Н.П. Хмелев — ведущий артист МХАТа, Г.М. Калишьян — и.о. директора МХАТа, Ольга — О.С. Бокшанская. — Б.М.). Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХАТе, о системе («театральной системе» К.С. Станиславского. — Б.М.). Разошлись, когда уж совсем солнце вставало. Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу. Утром звонок Ольги — необыкновенные отзывы о пьесе Калишьяна и Хмелева <...>». Сохранилось письмо Н.П. Хмелева жене — Н.С. Тополевой, которое он написал после прослушивания пьесы: «Был у Булгакова — слушал пьесу о Сталине — грандиозно! Это может перевернуть все вверх дном! Я до сих пор нахожусь под впечатлением и под обаянием этого произведения. 25 августа Булгаков сдает пьесу МХАТу в законченном виде. Утверждают, что Сталина должен играть я. Поживем — увидим. Заманчиво, необычайно интересно, сложно, дьявольски трудно, очень ответственно, радостно, страшно!».
Пьеса была закончена и сдана МХАТу досрочно, в начале августа, и Елена Сергеевна так писала об этом 11 августа своей матери в Ригу: «Мамочка, дорогая, давно уж собираюсь тебе написать, но занята была безумно. Миша закончил и сделал МХАТу пьесу. Диктовал он ее мне, так что, сама понимаешь, сидела за машинкой с утра до вечера. Устал он дьявольски, работа была напряженная, надо было ее сдать к сроку. Но усталость хорошая — работа была страшно интересная. По общим отзывам, это большая удача! Было несколько чтений — два официальных и другие — у нас на квартире, — и всегда большой успех. Пьеса называется «Батум». Теперь в связи с этой вещью МХАТ командирует бригаду под руководством Михаила Афанасьевича в Тбилиси и Батуми — для подготовительных работ к [постановке] этой пьесы. Едут два художника для зарисовок, помощник режиссера и пом. заведующего литературной частью для собирания музыки, наблюдения за типажами, над бытом и так далее. Возглавляет Миша, который будет руководить ими, вести переговоры с грузинскими режиссерами. Ну, а я при нем, конечно». Елена Сергеевна настолько была уверена в успехе пьесы, что уговорила мужа написать шутливую записку администратору МХАТа Ф. Михальскому от своего имени: «Милый Феденька!» Миша просил меня заранее сделать распределение знакомых на премьеру «Батума». Посылаю Вам первый список (художник, драматурги и композиторы). <...> Феденька! Если придет Олеша, будет проситься, сделайте мне удовольствие: скажите магистру (?), что он барышник. Я хочу насладиться!».
А у самого «бригадира Булгакова» перед поездкой было настроение, далекое от всяческой эйфории: он предчувствовал беду, ввязавшись в опасную игру с властелином и на театральном фронте. Тревога драматурга о судьбе пьесы была связана не только с пониманием ее некоторой незавершенности. Он смотрел гораздо дальше и глубже. В ходе работы над «Батумом» Булгаков, несмотря на исключительно благоприятную внешнюю обстановку и восторженные отзывы о пьесе, неоднократно впадал в состояние отчаяния. И «грянул гром»: сомнения писателя оправдались в роковой для него день 14 августа. Из дневника Елены Сергеевны: «Восемь часов утра. Последняя укладка. В одиннадцать часов машина. И тогда — вагон! <...> На вокзале <...> Виленкин и Лесли (члены булгаковской «бригады», сотрудники МХАТа. — Б.М.). Через два часа — в Серпухове; когда мы завтракали вчетвером в нашем купе (мы, Виленкин и Лесли), вошла в купе почтальонша и спросила: «Еде здесь бухгалтер?» и протянула телеграмму-молнию. Миша прочитал (читал долго) и сказал — дальше ехать не надо. Это была телеграмма от Калишьяна (и.о. директора МХАТа. — Б.М.): «Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву». Через пять минут Виленкин и Лесли стояли, нагруженные вещами, на платформе. Поезд отошел. Сначала мы думали ехать, несмотря на известие, в Тбилиси и Батуми. Но потом поняли, что никакого смысла нет, все равно это не будет отдыхом, и решили вернуться. Сложились, и в Туле сошли. Причем тут же получили молнию — точно такого же содержания. <...> Через три часа бешеной езды (Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня, и говорил: навстречу чему мы мчимся? может быть — смерти?), то есть в восемь часов вечера были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил — покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса? <...> 17 августа. Вчера в третьем часу дня — Сахновский (В.Е. Сахновский — член дирекции МХАТа. — Б.М.). <...> Стал сообщать: пьеса получила наверху (в ЦК, наверное) резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать. <...> Наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе». Комментарий Елены Сергеевны таких сообщений Сахновского не мог не быть возмущенным: «Это такое же бездоказательное обвинение, как бездоказательное оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М.А. не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу, с героем, — и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?!».
Чтобы развеяться от летних огорчений, супруги Булгаковы по совету друзей решили поехать в Ленинград. Были заказаны билеты и номер в любимой ими гостинице «Астория». В городе на Неве Булгаков почувствовал впервые признаки наступающей грозной наследственной от отца болезни — почечной гипертонии, бьющей по самым тонким сосудам в глазах: наступило резкое ухудшение зрения, проявлявшееся еще в Москве. Сохранились записи Е.С. Булгаковой на листках календаря, которые и зафиксировали развитие болезни мужа: «9 сентября. В Большом театре Миша в первый раз не увидел лица в оркестре, не узнал Максакову (солистку оперы. — Б.М.) — лица задернуты дымкой. <...> 11 сентября. «Астория» (Ленинград). Чудесный номер. <...> Гулять. Не различал надписей на вывесках, все раздражало — домой. Поиски окулиста. 12 сентября. Остались в номере, я — в книжную лавку. Вечером у Андынского (врача-окулиста. — Б.М.). Настойчиво уговаривал уехать. Разговор с портье о билетах. <...> Страшная ночь. «Плохо мне, Люсенька. Он (то есть окулист Андынский, сразу распознавший явные признаки опасной болезни. — Б.М.) подписал мне смертный приговор». <...> 15 сентября. Приезд в Москву. <...> Мишу в постель. <...> 23 сентября. Страхов (московский врач-окулист. — Б.М.) подтвердил диагноз Андынского. 25 сентября. Яков Леонтьевич (Я.Л. Леонтьев — и.о. директора Большого театра. — Б.М.) — разговор о завещании. Об усыновлении Сергея. 26 сентября. Углубленный в себя взгляд. Мысли о смерти, о романе, о пьесе, о револьвере. <...> 28 сентября. Сонливость, сон стал очень тихий и очень крепкий. Не слышит, когда я вхожу в комнату. Вечером просил достать роман, записи. Работать, конечно, не смог. Те же мысли и разговоры, что третьего дня. <...> 1 октября. Разбудил в семь часов — невозможная головная боль. Не верит ни во что. О револьвере. Слова: отказываюсь от романа, отказываюсь от всего, отказываюсь от зрения, только чтобы не болела так голова. 2 октября. Заснул в одиннадцать часов, проснулся в три часа с безумной болью в голове. Полное отчаяние».
12 ноября 1939 г. Елена Сергеевна записала в дневнике: «Консилиум (Захаров, Арендт, Герке, Рапопорт)». Заключение консилиума в составе профессора Герке А.А., профессора Рапопорта М.Ю., доктора Захарова Н.А. и доктора Арендта А.А.: «Гражданин Булгаков М.А. страдает начальной стадией артериосклероза почек при явлениях артериальной гипертонии и нуждается в 2-месячном пребывании в подмосковном санатории с применением физических методов лечения, диетпитания и соответствующего ухода». Мнение кремлевских врачей было учтено медицинскими инстанциями, и Булгакова в сопровождении жены отправили в подмосковную привилегированную лечебницу, где наступило временное улучшение здоровья, была возвращена возможность видеть. Устройству писателя в правительственный санаторий «Барвиха» предшествовали весьма важные события. Более всего тревожило и оскорбляло Булгакова то обстоятельство, что его заподозрили в стремлении «навести мосты» к высшему руководству страны, то есть ему приписывали то, против чего он боролся всю жизнь. Покушались по сути на честь писателя. В роли «спасителя» вновь выступил Сталин. Получив информацию о том, что Булгаков после запрещения «Батума» (не исключено при этом, что запрещение пьесы могло быть оформлено решением высшего партийного органа) заболел, и весьма серьезно, Сталин прибыл в Художественный театр и дал понять его руководству, что он высоко оценивает творчество Булгакова и его последнюю пьесу «Батум». Вполне понятно, что весть эта распространилась по Москве мгновенно, и вновь пошла молва о благородстве всесильного вождя. Как нет никаких сомнений в том, что А.А. Фадеев, неоднократно навещавший Булгакова, делал это по распоряжению Сталина (до этого времени Фадеев вообще не был лично знаком с Булгаковым). Но, пообщавшись с умирающим писателем, проникся к нему, кажется, искренним уважением и симпатией, что он, конечно, в той или иной форме довел до сведения Сталина. МХАТ же незамедлительно отреагировал на посещение Сталина и 24 октября принял решение о постановке булгаковской пьесы «Александр Пушкин». Причем все участники художественного совета дали восторженные оценки пьесе. Протокол совещания был доставлен Булгакову. Сведений о том, как протекала болезнь во время пребывания Булгакова в «Барвихе», сохранилось мало, Елена Сергеевна дневниковых записей там не вела, сама лечилась, но из его писем родственникам и друзьям видно, что в это время наметилось значительное улучшение. К сожалению, пребывание писателя в санатории ограничилось одним месяцем, хотя врачи настаивали на двухмесячном лечении. Этот факт, возможно, и сыграл роковую роль: болезнь так и не отступила...
Врачи, участники консилиума, давая щадящую формулировку — «начальная стадия артериосклероза почек», — понимали, что сам их пациент и коллега, очевидно, заинтересуется записью диагноза, захочет прочесть ее. И сейчас было чрезвычайно важно поддержать в нем веру в выздоровление, раздуть появившийся огонек надежды. Так же поступали и барвихинские врачи. В диетической памятке, содержавшейся в санаторной книжке, подчеркнуты особенности меню, назначенного Булгакову: молочные и вегетарианские супы, жидкие каши, овощи, мед... Следуют разнообразные процедуры, инъекции глюкозы. В первые недели Михаил Афанасьевич чувствует себя намного лучше, хотя замечает в диктуемом Елене Сергеевне письме, адресованном 3 декабря 1939 г. сестре Елене Афанасьевне Светлаевой: «Вот тебе новости обо мне. В левом глазу обнаружено значительное улучшение. Правый глаз от него отстает, но тоже как будто пытается сделать что-то хорошее. По словам докторов выходит, что раз в глазах улучшение, значит, есть улучшение и в процессе почек. А раз так, то у меня и надежда зарождается, что на сей раз я уйду от старушки с косой и кончу кое-что, что хотел бы закончить. <...> Лечат меня тщательно и преимущественно специально подбираемой и комбинированной диетой. Преимущественно овощи во всех видах и фрукты. Собачья скука от того и другого, но говорят, что иначе нельзя, что не восстановят иначе меня как следует. Ну, а мне настолько важно читать и писать, что я готов жевать такую дрянь, как морковь. <...>». Ирония и теперь не покинула его.
В «Барвихе» супруги Булгаковы пробыли ровно месяц: с 20 ноября по 19 декабря, и кто знает, если бы не грипп, сразивший их в конце пребывания в санатории, а затем переохлаждение Михаила Афанасьевича в январе 1940 г. во время сильных морозов, — трагический финал болезни мог быть отодвинут. Елена Сергеевна заводит специальную папку (позже тетрадь «Март 1940 г.»), где будут собраны рецепты, анализы, врачебные заключения, записи хроники болезни мужа, его последние высказывания. Обращаясь мыслью к Н.А. Захарову, Ф.Д. Забугину, М.М. Покровскому (своему «дядьке») и другим врачам, пользующим его, умирающий писатель произносит: «Они понимают, что вылечить меня нельзя, и оттого смущены». Большая помощь была и от младшего врачебного персонала. «Бывало, настанет час нашей прогулки, — вспоминала Анна Елизаровна Пономаренко, одна из медицинских сестер, выхаживавших Булгакова не только в переносном смысле, — он сначала спустит ноги с дивана (лежал он в своем кабинете), посидит немного, отдохнет. Потом подымется, опираясь правой рукой на костыль, а левой на мою руку. Высокий — я ему до плеча — и очень-очень худой в своем темно-зеленом халате. Сделаем мы круг по большой комнате. Вижу, трудно ему. Посмотрю на него — мол, хватит уже, а он: «Нет, нет, еще раз...». <...> Выходной, воскресенье. Михаил Афанасьевич задремал на диване, повернувшись лицом к стене. Мне сказал: «Вы тоже отдохните». Очень внимательным был...». Так уходил он в бессмертие, «скрывая дрожь смертельной боли...», как позже точно заметит А. Ахматова... Завершая скорбную эту тетрадь, Е.С. Булгакова составила список врачей, лечивших ее мужа. Вот несколько имен в дополнение к упоминавшимся: М.С. Вовси, М.П. Кончаловский, П.Н. Покровский, окулист В.Н. Страхов, гомеопат К.Н. Жадовский... Перечисляет она и медицинских сестер, облегчавших страдания больного, выделяя Анну Елизаровну, Юзефу Павловну, Варвару Николаевну... Фамилии их пока неизвестны.
Вернувшись хронологически несколько назад, продолжим рассказ А. Стефановича: «Когда Булгаков умирал, он последние дни провел не в больнице, а дома, в своей квартире в Нащокинским переулке (ул. Фурманова, 3—5, кв. 44. — Б.М.). У него было разложение сетчатки, от которой он ослеп, и любое прикосновение к коже причиняло ему страшную боль. Поэтому он лежал на кровати в одной набедренной повязке из простыней и напоминал Христа. Елена Сергеевна поставила там стулья, скамейки, и к нему стали приходить прощаться. Пришел Борис Пастернак, другие писатели, друзья. И совершенно неожиданно пришел Александр Фадеев. Это было странно, потому что Фадеев был «сталинский сокол», председатель Союза писателей, между ним и Булгаковым была бездна. Тем не менее, он пришел к Булгакову проститься. И Елена Сергеевна говорила мне, что, когда он ушел, Михаил Афанасьевич ей сказал:
— Знаешь, когда я умру, за тобой будут многие мужчины ухаживать, потому что ты красивая женщина. Так вот, если тебе глянется Фадеев, то ты можешь завести с ним роман, я тебе разрешаю. После моей смерти, конечно.
Она сказала:
— Ты о чем говоришь? Ты сошел с ума?
А что еще должна была сказать женщина? (По свидетельствам знавших ее людей, у Е.С. Булгаковой в 1940—1960-е гг. было несколько любовных романов, в том числе и с писателем А.А. Фадеевым, и с поэтом В.А. Луговским; с последним, как рассказывали близкие к Луговскому люди, она встретила сообщение по радио о начале войны. — Б.М.). Надо сказать, что после смерти Михаила Афанасьевича Фадеев оказывал помощь Елене Сергеевне. В частности, через год, когда началась Великая Отечественная война и немцы подошли к столице, из Москвы вывозили в эвакуацию всех писателей, художников, режиссеров. И Фадеев отдал свое купе Елене Сергеевне с детьми». В недавно опубликованных мемуарах сестры В.А. Луговского (и жены С.А. Ермолинского) Татьяны Александровны Луговской, бывшей в эвакуации в Ташкенте вместе с Е.С. Булгаковой, также сообщается об этом периоде жизни вдовы писателя. Т.А. Луговская вспоминает: «<...> Это был сороковой год <...> Володя (В.А. Луговской. — Б.М.) повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной. Она мне показалась очень старой. Ей было лет 50. Потом перестало так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман. Но я ее понимаю. У нее в жизни образовалась такая дыра, ее нужно было чем-то заполнить. <...> А потом Елена Сергеевна с Володей поссорились, и она, назло ему, закрутила роман с Фадеевым. Фадеев устроил ее в эвакуацию, она даже ехала в мягком вагоне, в одном купе с Софой Магарилл (С.З. Магарилл, актриса кино, жена режиссера Г. Козинцева. — Б.М.) <...>. В Ташкенте Володя вдруг сделался энергичным ... и Елена Сергеевна с ним помирилась. Одно время мы даже жили как бы одной семьей. <...> Володя, конечно, стал погуливать. Елена Сергеевна сердилась. Она ревновала его к врачу Беляевой — невропатологу. <...> Вернется, и, чтобы загладить, говорит: «Лена, пойдем гулять». Помню раз она надела новый костюм на многих мелких пуговицах. Неудачный. И туфли, которые ей жали. Они пошли гулять, и Лена вернулась с опухшими ногами. И опять я подумала — какая старая! Ей было года 53. <...> Отношения <Володи> с Еленой Сергеевной длились до того момента, когда он решил жениться на Елене Леонидовне (Быковой, геохимике, кандидате наук. — Б.М.) <...>».
«В эвакуации все жили плохо (там, в Ташкенте Е.С. Булгакова дружила с А.А. Ахматовой и Ф.Г. Раневской, читала им роман «Мастер и Маргарита», приводивший поэтессу и актрису в восхищение. — Б.М.), а Елена Сергеевна и после войны жила очень бедно. Лишь после смерти Сталина, в «хрущевскую оттепель», стала «пробивать» рукописи в издательствах. При этом у нее был свой список «проходимости». Первой в этом списке стояла пьеса «Бег», потом другие произведения, в том числе «Мастер и Маргарита». А на самом последнем месте стояло «Собачье сердце». Она знала, что при Советской власти это никогда не опубликуют и лезть с ним никуда не надо. Она была очень мудрой женщиной и прекрасно понимала, где она живет, в какой системе, с кем имеет дело. Поэтому делала только реальные вещи, а как она «пробила» публикацию «Мастера и Маргариты» — это одна из самых потрясающих историй в булгаковской эпопее. (Здесь отметим в скобках, что сам факт сохранения всех рукописей своего мужа в таких страшных условиях был для Елены Сергеевны почти чудом: недаром она считала себя ведьмой. Как же был сохранен булгаковский архив? Есть несколько изустных легенд: что он был отдан на хранение в выстроенное недавно здание Государственной библиотеки (ГБЛ), куда отдавали свои архивы уезжающие в эвакуацию известные москвичи; что архив хранился дома под присмотром надежных людей и в критическое время даже закапывался в землю в банках из-под иностранных конфет или чая. А вот что сообщает Л.В. Голубкина, племянница Т.А. Луговской: «Судьба архива М.А. Булгакова также была связана с семьей Луговских. Тамара Эдгаровна Груберт (первая жена В. Луговского), работавшая в театральном музее Бахрушина в Москве все военные годы, пишет Т.В. Луговской: «Никто от Булгаковой не приходил; конечно, если мне принесут, я сохраню, а тем более архив такого автора, как Булгаков». Позже Е.С. передала Т.Э. Груберт архив, который хранился, а точнее, прятался в музее Бахрушина до возвращения Е.С. Булгаковой из эвакуации летом 1943 года». — Б.М.)
Председателем Комиссии по литературному наследию Булгакова после смерти А.А. Фадеева, с середины 1959-х гг., числился Константин Симонов, который одновременно был председателем еще «ста» комиссий, любимцем Кремля, во все времена при кресле и хорошем положении. Елена Сергеевна как секретарь Комиссии по литературному наследию Булгакова — а вся Комиссия состояла из двух человек (номинально в эту Комиссию входило большее число людей. — Б.М.) — все время приставала к нему: почитайте что-нибудь из Булгакова. Но у него все руки не доходили — он и сам пишет, а точнее, диктует свои произведения, и дела по Союзу писателей, и общественная деятельность, и Комитет защиты мира. Никак он не успевал почитать Булгакова. И вот однажды она совершенно случайно узнала, что он уезжает на месяц в Венгрию, в Дом творчества на озере Балатон <...>, пришла к Симонову за день до его отъезда, принесла рукопись «Мастера и Маргариты» и сказала: «Если у вас будет время, то, пожалуйста, прочитайте».
Он машинально бросил эту рукопись на дно чемодана, а Елену Сергеевну отправил. Она говорит:
— И я села у телефона и стала ждать.
Прошла неделя, потом вторая. И вот в три или четыре часа ночи у Елены Сергеевны раздался звонок.
— Это Симонов. Я прочитал роман.
И дальше он говорил совершенно нечленораздельно:
— О! А! Гениально! Я должен что-то сделать... Это нужно пробить... Нужно, чтобы это знали люди. Ждите меня, я вернусь через неделю, я все сделаю.
Через неделю он вернулся, они встретились. Он сказал:
— Я пойду с этим в ЦК.
Но чуть погодя у него, очевидно, пыл немножко поостыл и он понял, что ходить в ЦК с такой книжкой — это загубить все дело на корню. И у него возник другой план. Он, со свойственным ему авторитетом, просто спустил рукопись из секретариата Союза писателей со своей рекомендацией в журнал «Москва» главному редактору Е.А. Поповкину. (А.К. Симонов, сын К. Симонова, излагает другую версию случившегося, с участием своей матери Е.С. Ласкиной. — Б.М.). Тот прочитал роман, и, наверное, как писателю (Е. Поповкин был автором известной тогда эпопеи «Семья Рубанюк». — Б.М.) это ему, как полагают, понравилось. Но, с другой стороны, как чиновник он понимал, что такая публикация грозит ему большими неприятностями. Поэтому он поступил не глупее первоначального плана Симонова. Он позвонил в ЦК и сказал, что, вот мол, мне Константин Симонов прислал роман одного давно умершего писателя. Можно ли его печатать? Может вам рукопись прислать?
А там в отделе культуры ЦК ему ответили:
— А чего, собственно, мы будем читать? Ты прочитал, как тебе?
Он говорит:
— В литературном отношении роман интересный, но там много чертовщины.
— А антисоветчины прямой нет?
— Нет.
— Ну, тогда печатай.
Этот телефонный разговор дал зеленый свет публикации. Но дальше произошла история просто анекдотическая. У Поповкина в «Москве» был член редколлегии, который перед этим выписал себе командировку в Лондон и вернулся оттуда с творческим отчетом под названием «В Лондоне листопад». А «Мастер и Маргарита» был уже в наборе, он шел в следующий номер. Но этому «писателю» (называют имя Б.Е. Евгеньева. — Б.М.) припекло срочно воткнуть в тот же номер свой «Листопад». И для того, чтобы освободить место для этого шедевра, он решил подсократить роман Булгакова. (Чтобы книга была напечатана, Елене Сергеевне пришлось, скрепя сердце, согласиться с сокращениями и с одновременной правкой. — Б.М.). И нашел тому идеологические оправдания — выбросил большие куски из двух глав: «Сон Никанора Ивановича» и «Последние похождения кота Бегемота» (правильнее — «Последние похождения Коровьева и Бегемота». — Б.М.), а также прошелся по роману, вычеркивая какие-то фразы. Елена Сергеевна после публикации романа в этом журнале имела сброшюрованный из двух журнальных книжек том в переплете, и в нем были вклеены написанные на ее машинке куски, которые были выброшены журналом.
Она говорила:
— Саша, посмотрите, что они выбросили! Ну, еще можно понять, почему убрали про Торгсин — это ассоциация с современным магазином «Березка», а «Сон» — это упоминание про валюту, которую Советская власть у всех вытрясла. Но вот здесь, здесь и здесь выброшены куски, абсолютно никакого отношения не имеющие к Советской власти! Например, вот глава, где Мастер ждет Маргариту в своем подвале. А ее все нет. Он смотрит на улицу сквозь подвальное окошко. И там была такая фраза: «Стукнет калитка, стукнет сердце и, вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Ну, кому нужен точильщик в нашем доме. Что точить? Какие ножи?» Эта фраза вымарана. Зачем? В ней нет ни идеологического подтекста, ни антисоветчины...
Позже писали, что «советская цензура из ненависти обкорнала Булгакова...». А «обкорнал» роман этот ответсекретарь журнала без всяких указаний ЦК КПСС или цензуры. Хотя именно цензуры Елена Сергеевна боялась больше всего. Но она мне сказала, что настоящий цензор после чтения рукописи разговаривал с нею очень уважительно, он сказал:
— Елена Сергеевна, у меня рука не поднимается вычеркнуть отсюда даже запятую!
И она уже совершенно успокоилась — роман будет напечатан без купюр, как вдруг в журнале увидела это варварство (отметим, что Е.С. Булгакова знала, конечно, об этом заранее, визируя последнюю корректуру текста. — Б.М.). Между тем публикация первой части романа, пусть даже и изуродованной, была подобно разорвавшейся бомбе. В ЦК КПСС не знали, что делать, — не напечатать вторую часть нельзя, а печатать эту «крамолу» страшно. Они решали целый месяц, и следующий номер «Москвы» вышел без продолжения романа, что, конечно, еще больше добавило ажиотажа, потому что все ждали, как же Советская власть поступит с Булгаковым (как известно, «журнальный» вариант романа был опубликован в «Москве», в № 11 за 1966 г. и № 1 за 1967 г. Сама история этой публикации кратко описана выше и присутствует в предисловии приложенной в конце книги «Библиографии русских изданий романа «Мастер и Маргарита». Здесь лишь приведем фрагменты рассказа Б.Е. Евгеньева об этом событии, записанные М.О. Чудаковой в 1977 г.: «<...> Я из-за публикации этого романа чуть не потерял партбилет! <...> Тогда Поповкина не было, я исполнял обязанности главного редактора, и меня вызывали в отдел печати ЦК два или три раза. <...> Мне сказали: «Что же вы делаете?» И вам надо было как-то реагировать... вот тогда дали предисловие и послесловие... И решили убрать сцену в Торгсине. <...> Конкретных замечаний никто не делал. [Мы] сами решали, что сокращать. <...> Надо было что-то делать, чем-то жертвовать. <...> Тогда у нас в отделе прозы был такой молодой человек, очень опытный, из военных, Владимир Михайлович Андреев. Он потом ушел от нас. Он недавно выпустил книжку с оригинальным названием «Грустная птица». Вот он это делал. <...> Но вот сцену в Торгсине предложил снять я. Это было мое предложение. <...>». Сам грозный Главлит не редактировал и не сокращал роман. Рассказывают, что у журналов «Москва» и «Новый мир» был общий цензор — молодая девушка, которая жаловалась одному из «новомировцев», что плакала (!), видя вычеркнутое в редакции журнала «Москва», и просила (!) их вернуть текст! Но им было нужно место для повести члена редколлегии Бориса Евгеньевича Евгеньева. — Б.М.).
Фраза Булгакова «Рукописи не горят» оказалась пророческой, это, конечно, относится к подвигу Елены Сергеевны — литературному и человеческому. Когда роман был опубликован, ее имидж в обществе поднялся на невиданную высоту. Она стала как бы живой святой. К ней стали приходить люди, которые выражали ей свое поклонение, восторги, благодарность. И среди них пришел писатель Виктор Некрасов. Он, войдя в ее маленькую прихожую размером в три квадратных метра, стал перед Еленой Сергеевной на колени и сказал:
— Елена Сергеевна, от имени всей русской литературы спасибо вам за то, что вы сохранили роман! Вы совершили подвиг! <...>
...После выхода романа ее жизнь стала абсолютно триумфальной. Ее стали приглашать во многие страны, где выходили книги Булгакова. Она мне показывала газету «Фигаро», в которой был крупный заголовок «Маргарита в Париже», ее фотография и рассказ о жизни. В 1968 г. в начале августа она отправилась в Прагу. <...> Вернулась Елена Сергеевна из Чехословакии совершенно потрясенная и рассказала мне следующую историю. Когда она приехала, чехи ее просто носили на руках. В этот момент была «пражская весна», эйфория демократии и свободы, и все лучшее, что могли, они ей показывали. Но однажды утром переводчица пришла к ней с большим опозданием, вся в слезах и сказала:
— Елена Сергеевна, не знаю, как нам с вами быть дальше, но русские танки вошли в Чехословакию.
Елена Сергеевна воскликнула:
— Не говорите глупостей! У вас, наверное, что-то с головой, вы больны.
Та говорит:
— Посмотрите в окно, откройте шторы.
И Елена Сергеевна рассказывала мне:
— Я увидела за окном площадь, заполненную тысячами людей. Там действительно стояли военные машины и бегали какие-то люди в военной форме. Я сказала, что я не верю, что это русские. Спустилась вниз, подошла к танкам и услышала русскую речь. Я была этим так потрясена, что просто говорить не могла. И сразу же уехала обратно в Москву. <...>».
Вернемся от рассказа А. Стефановича немного назад. Считается, что Елена Сергеевна послужила главным прототипом героини в романе «Мастер и Маргарита», ей, безусловно, посвящен этот роман, она была первым текстологом и редактором произведения. И она сама при каждом удобном случае всегда подтверждала такую прототипичность: играла Маргариту. После смерти мужа и до конца своих дней Елена Сергеевна всеми силами и средствами старалась выполнить слово, данное Булгакову, — напечатать все его произведения. Это частично удалось с помощью организованной по ее инициативе Комиссии по литературному наследию писателя и драматурга (председатели — А.А. Фадеев и позже К.М. Симонов), иногда же она непосредственно передавала тексты в издательства и редакции, в СССР и за рубеж. Выход публикаций и выпуск отдельных изданий проходил достаточно нелегко, и Елена Сергеевна в 1946 г. обращалась даже непосредственно к главе государства И.В. Сталину. В письме 7 июля она просила: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! В марте 1930 года Михаил Булгаков написал Правительству СССР письмо о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакову на 10 лет. Умирая, Булгаков завещал мне написать Вам, твердо веря, что Вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрания сочинений Булгакова».
Однако, несмотря на многочисленные подобные письма к Сталину и в другие инстанции, не только собрания сочинений или отдельной книги, но и ни одной строки не было опубликовано в те годы. Возвращение Булгакова началось только после смерти грозного вождя, во время «хрущевской оттепели». Первый сборник из двух пьес («Дни Турбиных», «Последние дни») вышел в 1955 г. В 1960-е гг. Елене Сергеевне удалось добиться издания биографии Мольера, публикации журнальных вариантов «Театрального романа» и «Мастера и Маргариты», переиздания в полном виде романа «Белая гвардия», цикла рассказов «Записки юного врача», издания большинства пьес и инсценировок. Не забывала Елена Сергеевна и своих родных, живших на Западе, вела с ними оживленную переписку. В письме к брату, Александру Сергеевичу Нюренбергу, 23 февраля 1961 г. она много рассказывала о своем покойном муже: «...Вот когда был Миша, от нас, действительно, люди не могли уходить — прямо приклеивались к дому. Бывали почти каждый день люди, сидели поздно, и я молила Мишу — давай ложиться не позже трех! Но никогда не удавалось раньше пяти-шести. Я не видела более блестящего собеседника, чем Миша. Эта слава за ним сохранилась — вечно слышу об этом через третьи руки. Причем, как всегда бывает, теперь люди говорят: я был дружен с Булгаковым, мы всегда ходили к ним домой из театра... Может быть, и был разок — но всегда?!
Что было хорошего у Миши? Он никогда не рассказывал анекдотов (ненавижу я, между прочим, и анекдоты, и рассказчиков их), — а все смешное, что у него выскакивало, было у него с пылу, с жару, горяченькое! Только что в голову пришло! Или бывало, что какая-нибудь удачная фраза, меткое прозвище так здорово входили в жизнь, что становились ходячими. И не только у нас, но и вообще. По Москве ходят и до сих пор ходячие слова его, а также цитаты из пьес. А когда в театре репетировались его пьесы, то актеры говорили этими репликами в жизни. И удивительно они были жизненны и необходимы, иначе не скажешь. Я сейчас привожу в порядок свои дневники — его жизни, — нашла и вспомнила, как он говорил про свои мучения, когда от него требовали каких-нибудь изменений в пьесе: «Ну, представь себе, что на твоих глазах Сергею (сыну Елены Сергеевны, Сереже Шиловскому или «Сергею малому». — Б.М.) начинают щипцами уши завивать и уверяют, что это так и надо, что чеховской дочке тоже завивали и что ты это полюбить должна...». Между прочим, это последнее выражение — Станиславского. Когда он уговаривал Мишу, чтобы он вписал что-нибудь в пьесу, он всегда говорил: а вы полюбите это...
Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: «Немезида!.. Понимаешь ли ты, Сергей, что ты — Немезида?» На что Сережа оскорбленно отвечал: «Мы еще посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!» И приводил этим Мишу в восторг. Вообще он всегда задевал мальчишку: «Эх, Сергей, как тебе не стыдно, как ты читаешь!.. Те... ле... фон... Позор! Тебе шесть лет, а ты по складам читаешь?» Сергей отвечал: «Ну да, когда меня только сейчас учить начали... вот бы начали в два года! Вот я теперь бы читал! Во — как читал!..» — и тяжело вздыхал при этом. «Довольно, довольно! Ах, если бы мне вернуть молодость!.. Фаустовские настроения... оставь, оставь, Сергей, ты эту андреевщину!..» И Сергей, уже хохоча, приставал к нему, что такое андреевщина. Их разговоры, их отношения — это вообще было представление, спектакль для меня. Если Миша ехал кататься на лодке, и Сергей приставал, как о том и мечтал Миша, к нему, чтобы его взяли с собой, Миша брал с него расписку, что он будет вести себя так-то и так-то (эти расписки у меня сохранились, конечно). По пунктам — договор и подпись Сергея. Или в шахматы. Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (сами понимаете, это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: «Выдать Сергею полплитки шоколаду». Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате. А то они писали заговорщицкое письмо и клали его в почтовый ящик за дверью и всячески вызывали меня посмотреть: нет ли чего в ящике... Женечка (старший сын Елены Сергеевны, Евгений Шиловский, живший с отцом. — Б.М.) сначала очень ревновал к Мише, но потом, благодаря мишиному уму в этом отношении, так полюбил Мишу, больше отца! <...>».
В жизни Елены Сергеевны бывали и трудные времена. Приходилось продавать вещи, зарабатывать перепечатыванием на машинке, заниматься редакторской работой и переводами. Она была человеком пишущим и прекрасно владела пером. После смерти Булгакова сделала несколько переводов с французского: «Я перевела с французского один роман Густава Эмара, один Жюля Верна, они выпущены у нас, — правда, я не хотела ставить Мишину фамилию, она слишком высоко стоит», — писала она в Париж брату покойного мужа, Н.А. Булгакову, в январе 1961 г. и просила прислать ей для перевода хорошую современную французскую пьесу: «Мало того, что это мне необходимо по материальным соображениям... — но мне, кроме того, очень интересно делать именно диалог, пьесу. Гораздо интереснее, чем прозу». Впрочем, ее перевод книги А. Моруа «Лелия, или жизнь Жорж Санд» вышел в 1967 г. с ее подписью — Елена Булгакова, переиздавался, широко известен.
Но главным, конечно, было для нее издание произведений Булгакова, приведение в порядок его архива и своих собственных дневниковых записей 1930-х гг., встречи с журналистами, писателями, режиссерами. Елена Сергеевна консультировала спектакль «Иван Васильевич» в Театре-студии киноактера, съемки кинофильма «Бег»... Ее пригласили режиссеры картины, А. Алов и В. Наумов, на просмотр фрагментов уже готового фильма. Картина ей нравилась. Но случилось несчастье: в душном просмотровом зале «Мосфильма» в измученной июльским зноем Москве 1970 г. Елене Сергеевне стало дурно. Сын повез ее на машине домой, пригласили врачей, но, несмотря на все хлопоты, спасти 76-летнюю Маргариту не удалось: 18 июля она скончалась. «Как отлетела», — скажет на похоронах один из ее друзей. Прах Елены Сергеевны ныне покоится под тем самым камнем на Новодевичьем кладбище в Москве, что она установила на могиле Михаила Афанасьевича. Теперь на черном могильном камне единая надпись: «Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков 1891—1940 Елена Сергеевна Булгакова 1893—1970».
О создании самой могилы Елена Сергеевна рассказывала в письме брату мужа, Николаю Афанасьевичу Булгакову, в письме 16 января 1961 г. в Париж: «...Мишина могила часто вызывает такое восхищение, что ко мне звонят незнакомые и говорят об этом. Она устроена таким образом. Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мною четыре грушевых дерева, которые выросли в это время в чудесные высокие деревья, образующие зеленый свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши — достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при Новодевичьем кладбище, — я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то гранитную глыбу. Директор мастерской, на мой вопрос, объяснил, что это Голгофа, с могилы Гоголя, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. С большим трудом, так как этот гранит труден для обработки, как железо, рабочие вырубили площадочку для надписи: «Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков 1891—1940» (четыре строчки золотыми буквами). Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумрудный густой ковер, на нем Голгофа, над ней купол из зеленых густых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как был необычен и весь Миша — человек и художник... Эту глыбу — морской гранит — привез Аксаков специально для могилы Гоголя...».
Младший сын Елены Сергеевны, Сергей Евгеньевич (старший, Евгений умер от гипертонии в возрасте 35 лет на ее руках в 1957 г. в Ленинграде), выполнил последнюю волю матери — передал в хранилища подготовленный ею архив Булгакова. С.Е. Шиловский был литератором, журналистом, работал завлитом Московского театра драмы и комедии. Скончался 19 января 1977 г. и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его сын, Сергей Сергеевич Шиловский, внук Елены Сергеевны, — наследник авторских прав своей бабушки. Он и остальные Шиловские (правнук Сережа, правнучка Даша) хранят память о Елене Сергеевне и о ее знаменитом муже-писателе.
Нюренберг Елена Сергеевна. 1907 г.
Нюренберг (Шиловская) Елена Сергеевна (справа) с Женей Шиловским и Е.И. Буш. 1920-е гг.
Нюренберг (Шиловская) Елена Сергеевна. 1920-е гг.
Шиловский Сережа. 1920-е гг.
Нюренберг (Булгакова) Елена Сергеевна. 1936 г.
Супруги Булгаковы: Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна. Лето 1938 г. (Архив Ю.М. Кривоносова)
На юбилее МХАТа. 3 ноября 1938 г. В первом ряду, в центре слева направо: О.Л. Книппер-Чехова, Вл.И. Немирович-Данченко. И.М. Москвин; справа М.М. Тарханов; во втором ряду, в середине — И.П. Хмелев среди артистов труппы.
Булгакова Елена Сергеевна. 1938 г.
Булгакова Елена Сергеевна. 1930-е гг.
Февраль 1940 г. (Архив Ю.М. Кривоносова)
Нюренберг (Булгакова) Елена Сергеевна. Конец 1940-х — начало 1950-х гг.1
Булгакова Елена Сергеевна. 1960-е гг.
Булгакова Елена Сергеевна. 1960-е гг.
На вечере, посвященном М.А. Булгакову. 1960-е гг. Слева направо: впереди слева — Е.С. Булгакова с сыном С.Е. Шиловским: за ними во втором ряду — С.Я. Маршак и А.А. Ахматова
Булгакова Елена Сергеевна, Святослав Рихтер (вверху) и Виталий Виленкин с женами. 1960-е гг.
Булгакова Елена Сергеевна (сидит справа), актриса МХАТа С.С. Пилявская и группа студентов Школы-студии МХАТ с выпускного спектакля. Июнь 1970 г. (Атрибуция Ю.М. Кривоносова)
Могила Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых на Новодевичьем кладбище. 1970 г.
Булгакова Елена Сергеевна. 1961 г.
Примечания
1. Л.М. Яновская, оспаривая порой случающуюся более раннюю датировку этой фотографии, аргументирует это так: «Дело в том, что прическа и весь облик Е.С. здесь в стиле «Дина Дурбин»: была такая киноактриса, очень популярная в России в конце войны и сразу после войны. Парадокс в том, что Дина Дурбин играла юных девушек, а очень похудевшая от недоедания в годы войны и от этого похорошевшая Е.С. сумела вписаться в этот образ».
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |