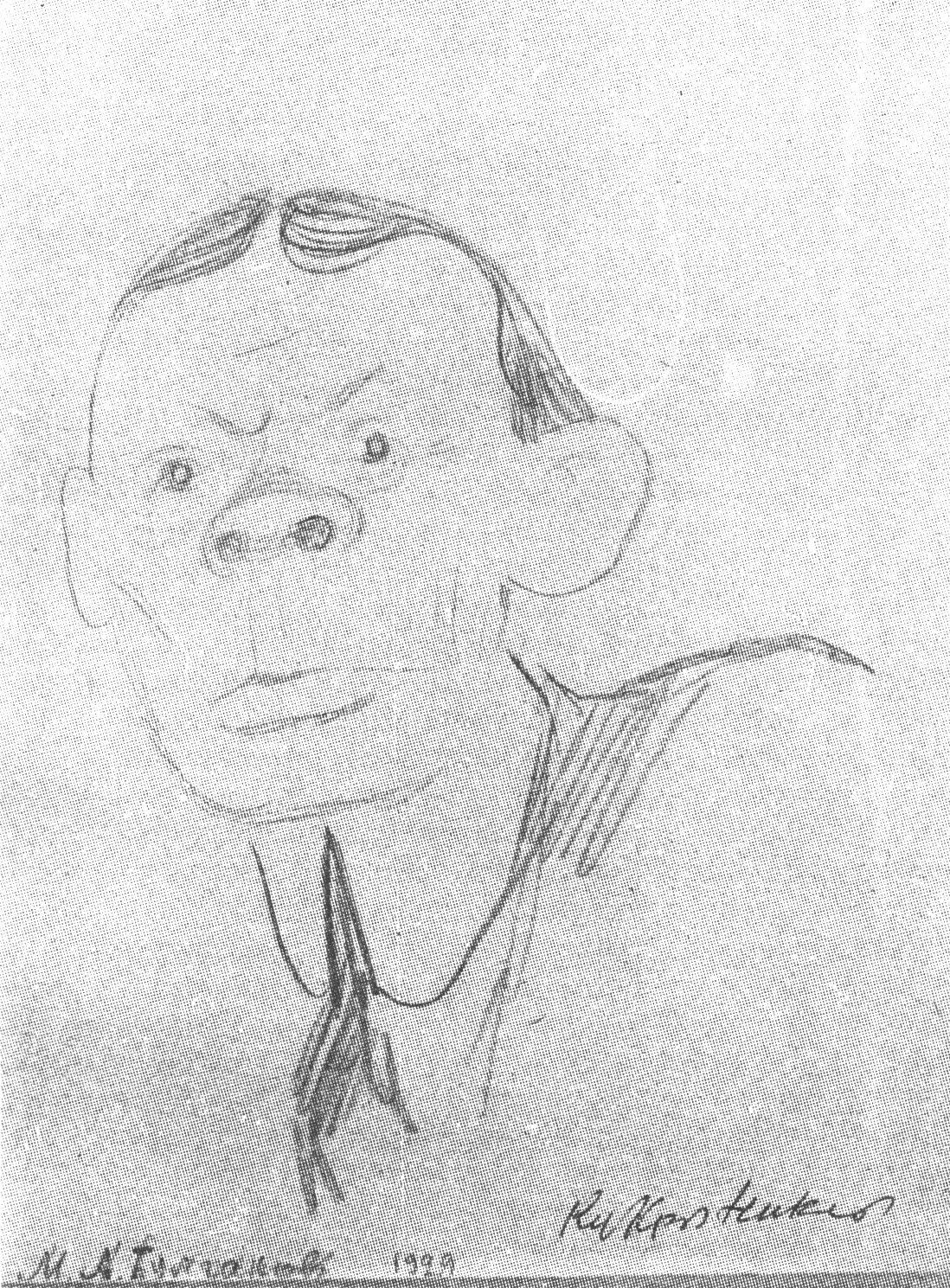Среди характерных для Булгакова сквозных, повторяющихся образов встречается описание опустевшей сцены: «Занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста» («Театральный роман»). К этому таинственному символу писатель возвращался не раз — от пьесы «Кабала святош» до «Мастера и Маргариты». Ясно, что дума о темной пустой сцене порождена трудной театральной судьбой автора «Дней Турбиных». Есть здесь и грустная мысль о хрупком театральном волшебстве, обреченном на смерть и оставляющем после себя потухшую коробочку.
Эта красноречивая пустота свидетельствует: здесь только что жил, звучал, переливался волшебными красками не просто спектакль, но театр (например, театр Чехова). Он увлек, взволновал, отговорил свое и ушел. Голая сцена — немой вопрос: кто же придет и возродит, заполнит ее, продлит жизнь волшебной фантасмагории?
Ясно, что театр может быть заменен лишь театром, другим, но равновеликим. У Булгакова мы постоянно встречаемся с размышлениями о театре Шекспира, Мольера, Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина (несправедливо забытое булгаковедами имя), Чехова и не всегда понимаем, что его интересуют не только великие имена, но и их смена, историческая динамика мировой драмы, то открытие, которое дает Мольеру право занять опустевшую сцену после ухода Шекспира и т. д. Этой маленькой революции нельзя произвести одной пьесой, пусть блистательной и гениальной. «Свято место» и здесь пусто не бывает, но занять его может только самобытный театр нового выдающегося драматурга, требующий в свою очередь новых режиссеров, актеров, художников, новой эстетики сцены.
Булгаков это прекрасно понимал, и цель его долгой и трудной жизни драматурга — создание не отдельных блестящих пьес, но именно нового театра. Театра Михаила Булгакова. Теперь, после публикации всех его пьес, инсценировок и либретто, ясно, что цель эта была достигнута. Одновременно писатель искал и находил талантливых людей сцены, готовых и способных дать его пьесам жизнь в художественном пространстве и времени их сложного «коллективного» искусства.
О Булгакове-драматурге, о его «театральной крови» и безошибочном чувстве сцены сказано и написано много интересного и справедливого. Есть известная книга доктора искусствоведения А. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре». Можно и нужно написать работы такого же рода о Вахтанговском, Камерном, Большом и прочих театрах, для которых драматург писал пьесы и либретто. И это уже сделано или делается.
Но театроведческий подход здесь явно недостаточен. За разговорами о режиссерах, ролях и постановках забывается главное. Ибо Булгаков — великий русский писатель, понимавший, что и здесь, в драме, в начале было слово. Его драматургия, его театр — это прежде всего высокая литература, искусство слова. Основа всего — пьеса, авторский текст.
Конечно, пьеса создана для театра, к нему обращены ее образы, текст неизбежно меняется в работе с воплощающими его на сцене людьми. «Каждый актер должен иметь свой театр», — говорил Булгаков, и это очень верно сказано. Но вот о драматурге сказать этого никак нельзя, хотя автора «Дней Турбиных» называли «автором театра», говорили о его «романе с театром» и т. п.
Целостный театр Михаила Булгакова состоит из очень разных пьес, предназначенных для очень разных театров. Многие пьесы были поставлены на сцене и имели шумный успех при жизни автора или вскоре после его смерти. Некоторые мы узнали лишь сегодня. Но если бы ни одна пьеса Булгакова не получила бы сценической жизни и, более того, даже если бы все его драматургическое наследие осталось нам неизвестным, театр его все равно существовал бы, жил и дожидался своего часа, как дождался своего часа роман «Мастер и Маргарита». Ибо это прежде всего замечательная литература, высокое искусство слова. Булгаков всю жизнь к этому стремился и этого достиг.
Такое отношение к драме и назначению драматурга характерно для нашей классической литературы. Хотя для нее XIX век стал порой расцвета романа, но именно поэтому дал плеяду блистательных мастеров драмы, достойно закончившуюся театром Чехова. Но после него, в предреволюционное время, несмотря на множество драматургов, среди которых были и даровитые вроде С. Найденова, русская сцена начала пустеть, распадаться на экспериментальные «левые» подмостки, символистские «балаганчики» и шумные веселые эстрады маленьких пародийных театриков-кабаре вроде «Кривого зеркала» и «Летучей мыши». Чехов сменился Леонидом Андреевым, Арцыбашевым и Н. Евреиновым.
Юноша Булгаков был неравнодушным свидетелем и даже участником этого медленного падения театра. Его родной Киев, по свидетельству К. Паустовского, стал городом театральных увлечений, где причуды моды были лучше видны, нежели в столицах: «В Киеве была хорошая опера, украинский театр со знаменитой Заньковецкой и драматический русский театр Соловцова — любимый театр молодежи... В те времена в Соловцовском театре играли такие актеры, как Кузнецов, Полевицкая, Радин, Юренева. Репертуар был разнообразным — от «Горя от ума» до «Ревности» Арцыбашева и от «Дворянского гнезда» до «Мадам Сен-Жен». После тяжелых драм обязательно шел водевиль, чтобы рассеять у зрителей тяжелое настроение. В антрактах играл оркестр». В Киеве видели Московский Художественный театр, Шаляпина и Айседору Дункан, а рядом с ними провинциальные водевили, салонные комедии, рычащих косматых трагиков и над собой потешающееся эстрадное сатириконство.
В такой театр было весело ходить. Более того, в нем можно было с удовольствием и без особой профессиональной подготовки играть. Юноша Булгаков с успехом участвовал в дачных любительских спектаклях, что потом нашло отражение в его комедии «Багровый остров» в реплике драматурга Дымогацкого: «Я на даче играл...» Играли, конечно, на тогдашних актерских штампах, подсмеиваясь над ними.
Пестрота и шаблонность веселых комедий и водевилей, авторы и названия которых мгновенно и справедливо забывались, опустевшую сцену заполнить никак не могли, и не случайно у Булгакова родилась тогда мечта написать драму о братьях Турбиных и революции 1905 года и поставить ее на столичной сцене. Сама по себе мечта эта примечательна, к тому же в ней сквозит по-молодому самонадеянная, но довольно резонная мысль: да чем же я хуже модных драматургов Косоротова, Сургучева и, страшно сказать, самого Леонида Андреева?
Однако начавшаяся мировая война и последовавшая за ней новая, куда более беспощадная революция эти планы изменили и окончательно опустошили сцену, сметя с нее весь пестрый, веселый и бездумный мирок хитрых выжиг-антрепренеров, режиссеров-экспериментаторов, самодовольных первых любовников и кокетливых «интересных» актрис в светлых платьях, с кружевными зонтиками. Русский театр был сбит с насиженных позиций и побежал на юг.
Путь его лежал через Киев. Тогда же, в начале 1918 года, вернулся домой из Смоленской губернии молодой земский врач Михаил Булгаков и пережил вместе со всем сильно увеличившимся населением родного города трагическую эпопею, описанную им позднее в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных».
Смысл этой знаменательной встречи не только в том, что Булгаков чему-то научился у беглых людей театра в созданной ими в Киеве лихорадочной атмосфере пира во время чумы, до конца выявившей исчерпанность старых творческих идей и форм. Да, что-то перенял, чему-то грустно удивился, над чем-то посмеялся, и много точных характеристик пригодилось потом для «Театрального романа».
Но с людьми театра Булгакову волею судеб и деникинских властей пришлось бежать дальше. Ибо осенью 1919 года белые, заняв Киев, не только мобилизовали в свою армию врачей, но и одели в военную форму и отправили на юг, к воде поближе, целые театры, осуществляя продуманную программу вывоза талантов и умов, эвакуацию деятелей культуры, составивших позднее цвет эмиграции. Вместе с актерами и музыкантами военврач Булгаков очутился во Владикавказе и в конце марта 1920 года пережил катастрофу белых и приход красных с их весьма прямолинейным воззрением на культуру и интеллигенцию. За золотые офицерские погоны, сотрудничество в белогвардейских газетах и особенно за статью «Грядущие перспективы», где говорится о «зловещей фигуре Троцкого», вполне могли и к стенке поставить. А уж Соловки точно были обеспечены. И снова счастливая случайность — не докопались. А докопавшись, почему-то не тронули...
Во Владикавказе начался путь Булгакова-драматурга. Ибо литературы тогда еще не было, но театр уже был. Красные создали русский театр и организовали подотдел искусства при областном отделе народного образования. Булгаков стал в этом отделе работать и читать в театре вступительные лекции перед спектаклями, руководил театральным факультетом местного народного университета. В автобиографии 1931 года сказано об этой трудной поре выбора пути: «...Изучал историю театра, иногда выступал в качестве актера».
Сама жизнь направляла Булгакова к этому изменчивому, неуловимому виду искусства. Театральная сцена, по-прежнему загадочно пустевшая, несмотря на новую «левую» кутерьму на ней и вокруг нее, подвигла Булгакова на попытку это зияние заполнить. К тому же за пьесы и тогда неплохо платили, а новоявленный драматург и его жена, статистка местного театра, не могли жить только на ее массивную золотую цепь, от которой отрубали куски и продавали.
Итак, во Владикавказе Булгаковым написаны и большею частью поставлены пьесы «Самооборона», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Сыновья муллы» и «Братья Турбины». Сохранилась из них лишь революционная пьеса о сыновьях муллы, а столь милых сердцу Булгакова «Братьев Турбиных» его тогдашний начальник и покровитель Юрий Слезкин снисходительно назвал «бледным намеком» на «Дни Турбиных»: «Действие происходило в революционные дни 1905 года в семье Турбиных, один из братьев был эфироманом, другой революционером...» Пьеса имела успех, но сам автор, выходя на аплодисменты и вызовы публики, разочарованно думал: «А ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь... Судьба — насмешница».
Потом Булгакова на основании его же рассказа «Богема» журили за халтурное писание в молодости революционных пьес. Но дело было не только в темах и полуголодной спешной работе. Сам он уже тогда хорошо понимал, что дебют его на провинциальной сцене был поучительной и благотворной неудачей, несмотря на успех, опасный и втягивающий в театральную суету. «Вполне достаточно, чтобы завязнуть и уже не выбраться никогда», — сказано драматургом о его владикавказских пьесах.
Смысл первых опытов, пожалуй, в том, что начинающий литератор писал тексты по заказу провинциального театра — о таком-то событии, к такой-то дате, для того или другого режиссера и актера, как в старину за вечер или два набрасывали водевиль к очередному бенефису комической актрисы. То есть обслуживал театр, сочинял канву спектакля, его сценарий, но не полноценную пьесу. На читках и репетициях он познавал тайну театра, его блеск и грустную изнанку кулис, постигал законы сцены и драматургии. Здесь начинался его долгий и не всегда радостный театральный роман: «Поживаю за кулисами, все актеры мне знакомые друзья и приятели, черт бы их всех взял!»
Потом Булгаков резонно утверждал: «Нельзя же, работая для сцены, проявлять нежелание считаться с основными законами драматургии». Однако в его ранних драматургических дебютах чего-то явно не хватало, как будто на рояле играли одной рукой. Удачные спектакли получались, успех пьесы имели. Но они не срастались в театр. А местный театр, собранный наспех из провинциальных актеров, помочь начинающему автору ничем не мог. То, что написано Булгаковым во Владикавказе, не стало еще литературой, искусством слова. Поэтому не получилась и начатая по приезде в Москву в 1921 году историческая драма о Николае II и Распутине.
Когда Булгаков очутился в столице, там все обстояло по-другому. Литература уже была, а того театра, который ему был нужен, еще не было. Начинающий литератор быстро понял ситуацию. Пьеса о Распутине была отброшена, Булгаков вернулся к прозе и стал диктовать машинистке И.С. Раабен первую часть повести «Записки на манжетах», кстати, произведения очень театрального, построенного на диалогах и сцен-
Афиша владикавказского спектакля «Братья Турбины»
ках и рассказывающего, в числе прочего, о театре и зрителе. Из бесед автора повести с машинисткой («Про Киев рассказывал бегло — и сказал, что все это отразится в романе») видно, что тогда же, в конце 1921 года, задумана и «Белая гвардия». До фельетонов для «Накануне» и тем более для «Гудка» еще далеко. Вопреки некоторым сложившимся мнениям, булгаковская проза начиналась сразу с «больших форм» — повести и романа. «Записки на манжетах» и «Белая гвардия», будучи опубликованы, пусть и не полностью, сделали их автора известным писателем.
Можно лишь догадываться, какие соображения руководили в наши дни заведующим литчастью «нового» МХАТа А. Смелянским, когда он уверенно писал о «Белой гвардии»: «Роман никакого существенного влияния на современную ему литературу и общественное сознание оказать не смог». Позволительно спросить: что же заставило Художественный театр обратиться к столь незначительному произведению? Автор этой книги более доверяет отзывам В. Вересаева и М. Волошина и свидетельству С. Ермолинского: первый роман Булгакова привлек «широкое, выходящее за рамки журнальной полемики внимание». Его заметили и в Художественном театре, и в Вахтанговской студии, откуда последовали известные приглашения автору превратить «Белую гвардию» в пьесу.
Но автор сам решил вернуться в театр, сцена которого по-прежнему пустовала. 19 января 1925 года, еще не завершив «Белую гвардию», он начал писать по канве романа пьесу. К этому времени никаких заказов или приглашений от театра он еще не получил.
Кому же предназначалась эта «незаказная» пьеса? Ответ не так прост, как кажется. Булгаков писал будущие «Дни Турбиных» с того же требовательностью к себе и произведению, с которой создана «Белая гвардия». Те же неоднократные «сквозные» правки текста, беспощадное уничтожение целых сцен и персонажей, та же готовность создавать новые редакции Много позже, работая над пьесой «Батум», драматург скажет: «Я буду превращать исписанные и вдоль и поперек тетради в стройный машинописный экземпляр». Так написаны и «Дни Турбиных», классика нашей драматургии и вместе с тем прекрасная литература.
Относясь так строго к своим пьесам, Булгаков вправе был требовать от театра столь же бережного и уважительного обращения со своими произведениями. Этим принципом он и руководствовался, выбирая театр. Ему было из чего выбирать.
Впоследствии драматурга относили к «правому флангу» театральных течений. В.П. Катаев легко объединял полярные имена-символы: «Маяковский — это Мейерхольд, а Булгаков — Станиславский». При всей грубоватости и неточности аналогий здесь есть своя правда. Немыслимо, как нам представляется, сочетание «Булгаков — Малый театр», здесь и имя-то режиссерское трудно сразу вспомнить. Хотя он ставил пьесы в Вахтанговском и Камерном, театры эти трудно назвать булгаковскими, отвечающими требованиям и творческим принципам автора.
Оставались две крайности, два имени-символа — Мейерхольд и Станиславский.
Имя очень «левого», очень революционного режиссера мелькает уже в ранней прозе Булгакова. И ясно, что авторское отношение к этому жаждущему театральной монополии, безапелляционному, очень легко прибегающему к опаснейшим обвинениям и к скорому применению своей весьма большой власти человеку — отрицательное. В «Биомеханической главе» дана известная оценка театра Мейерхольда: «Не спорю. Очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр».
Булгаков знал, каково отношение Мейерхольда к автору. Луначарский выдвинул тогда знаменитый лозунг «Назад, к Островскому!» Отвечая ему, Мейерхольд заявил, что «он всегда считал вредным и опасным для театра излишний пиетет по отношению к автору». Но такой автор, как Булгаков, ему был очень нужен.
Режиссер сразу почувствовал его театральную силу, не раз ему писал с настойчивой просьбой дать пьесу, пригласил на генеральную репетицию своего знаменитого спектакля «Ревизор». Однако, посмотрев спектакль, Булгаков обиделся за своего великого учителя Гоголя: «Такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и свидетельствует о неуважении к нему». Непонятный, не уважающий автора театр не был нужен Булгакову. Пьесу он Мейерхольду так и не дал и пророчески посмеялся над великим экспериментатором в «Роковых яйцах», чего самолюбивый режиссер Булгакову не простил и впоследствии участвовал в гонениях на него, не украсив этим свою бурную трагическую биографию.
Оставался театр Станиславского. О, здесь с отношением к автору все обстояло прекрасно. Сразу вспоминался Чехов, чьи пьесы требовали нового, подлинно художественного театра и с успехом были в нем поставлены. О некоторых недоразумениях и неудовольствиях скромного терпеливого автора «Чайки» предпочитали не вспоминать1. Высокая театральная и литературная культура (Станиславский и Немирович-Данченко были талантливыми писателями), сильная, теоретически оснащенная режиссура, крепкая традиционность, уважение к преданию, удачное сочетание прославленных «основоположников» с даровитой и энергичной актерской молодежью, классичность и своего рода «государственность» делали первый национальный театр России желанным для любого драматурга. Потом, весной 1930 года, в разговоре с председателем Главискусства Ф. Коном, Булгаков так и сказал: «По правде говоря, лучшим и близким мне театром я считаю Художественный». И получил там работу.
К тому же в середине 20-х годов прославленная сцена была по-прежнему пуста, студийные опыты и «революционные» пьесы не могли ее заполнить. Театр искал своего драматурга. И вскоре у подъезда МХАТа появилась знаменитая репертуарная афиша, потом пародированная в «Театральном романе», а на самом деле выглядевшая так:
Кобылин А.В. Смерть Тарелкина.
Эсхил. Прометей.
Шекспир. Отелло.
Бомарше. Свадьба Фигаро.
Булгаков М. Семья Турбиных.
Да, в этом храме искусства рядом с великими именами и традициями родился театр Михаила Булгакова. И все же во мхатовской афише ощущались некоторая неуверенность, шаткость и разброд исканий, которые более походили на отчаянные попытки преодолеть инерцию и кризис. И будущий «автор театра» это сразу почувствовал.
Не случайно герой «Театрального романа», попав в замкнутый мирок театра-храма, вдруг вздрогнул и стал боязливо оглядываться: «Мне стало казаться, что вокруг меня бегают тени умерших». А потом он слышит отзвук чеховского «Дяди Вани» в рассказе актера Бомбардова об известном авторе пьес, бешено обидевшемся на театр из-за недопущенного на сцену выстрела. И наконец есть в финале «Театрального романа» слова, упорно замалчиваемые всеми поклонниками теории об «авторе театра». В них — итог этого «романа». Там сказано, что в знаменитую теорию великого режиссера Ивана Васильевича «входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте». В словах этих скрыты глубокая авторская обида и объяснение всех последующих сложностей с «Днями Турбиных» и другими булгаковскими пьесами в театре Станиславского. Самой нежной любви наступает конец, как пел тогда Вертинский.
А начало было, как всегда, прекрасным. Получив 3 апреля 1925 года приглашение от мхатовского режиссера Б.И. Вершилова, Булгаков понял, что мысли его романа могут прозвучать с высокой сцены лучшего драматического театра России, обрести там новую жизнь и неравнодушного зрителя и в свою очередь оживить эту сцену. Лестное приглашение он принял и уехал работать в Коктебель. К осени пьеса о Турбиных была завершена и представлена, состоялись ее читки. Для автора начиналась театральная жизнь.
«Был Михаил Афанасьевич в то время упоен театром», — вспоминает Л.Е. Белозерская. Другой мемуарист, мхатовец В. Шверубович, встречавший Булгакова в театре, свидетельствует о том же: «Интерес... ко всему сценическому у него был горячий, напряженный. Его интересовала и техника постройки оформления, и краска, и живопись, и технология перестановок, и освещение. Он с радостным и веселым любопытством всматривался во все...» Острый свежий взгляд нового драматурга при всей первой увлеченности многое замечал и запоминал в механизме старого знаменитого театра.
Чего ожидал Булгаков от театра, начиная работать над пьесой? Что он хотел ею сказать? Какой текст он в театр принес и что из этого текста получилось?
На эти вопросы уже пробовали ответить. Говорилось примерно вот что. Роман «Белая гвардия» автору не удался, к тому же не был опубликован полностью, и Булгаков, естественно, жаждал добиться успеха в другом месте, другом виде искусства. Драматург он был неопытный и принес в Художественный театр «нетеатральную», «монстрообразную» пьесу в шестнадцати картинах. Поработав над ней под руководством прославленных режиссеров и актеров и выбросив лишнее, автор создал шедевр — «Дни Турбиных».
Как нам представляется, «Белую гвардию» Булгаков считал лучшей, любимой своей книгой, сказал ею все, что хотел, и к тому же в конце концов опубликовал ее финальные главы в Париже. Едва ли стоит подозревать его в жажде одного успеха. Ни один театр, даже самый высокохудожественный, поставить «Белую гвардию» во всей ее сложности не сумел бы. Автор романа это понимал и стремился к иному.
Опыт поколения, идея прозрения и вины, новая творческая мера истории и человека, выстраданный гуманизм, неожиданно пробивающаяся сквозь борьбу и кровь поэзия, — эти открытия, сделанные в романе, должны были прийти в театр, ожить на сцене и воззвать к мысли и чувству зрителя, только что эти события пережившего. Поэтому в пьесе родилось новое сцепление событий и персонажей, причем автор спокойно использует ранние редакции романа. Мир был расколот, люди разобщены и озлоблены. Театр же по самой природе своей призван объединять. Этому служит и пьеса Булгакова.
О первой редакции будущих «Дней Турбиных» Валентин Катаев вспоминал: «Пьеса в первом варианте, которую Булгаков нам читал, была не той пьесой, которую потом увидели зрители в МХАТе. Это была пьеса и романтическая, и сатирическая, многокартинная. Там было много ярких сценических образов, которые выпали». Драматург А. Файко, тесно связанный с театральным авангардом, был более суров и профессионально точен в описании инсценировки: «Тогда пьеса была гораздо больше размером, громоздкой и композиционно несколько неуклюжей. Действие происходило на двух этажах, в двух разных квартирах. Персонажи соединялись, разъединялись, опять соединялись, и это создавало калейдоскопическую суматоху. Но роли были выписаны великолепно!»
«Белая гвардия» — роман, то есть эпос, рассказ объективный, пусть и лирический. Здесь многое сказано автором. Пьеса же по роду своему тяготела к камерности, жила непрерывной сменой лирического, трагедийного и комедийного начал, умело извлеченных из романа. Авторское слово из нее изгонялось. Волшебно менялись очертания характеров и их назначение.
Пророчества Алексея Турбина, чтение «Бесов» Достоевского в первой редакции — не ошибка неопытного драматурга, эти речи делали пьесу сильной. Но они на тогдашней сцене и при советской цензуре были невозможны и к тому же слишком напоминали реплики в зал, прямую речь вроде фразы из пьесы Мережковского «Павел I», цитировавшейся в романе и пьесе. Поэтому риторика заменялась сценической речью. Автор прямолинейные реплики убрал или передал отчаявшемуся Мышлаевскому, сделал трагизм Турбина-старшего внутренним, дал его в самом характере и настроении, показав сильного верующего человека, прозревшего, ужаснувшегося, но не отчаявшегося. Несколько рассеянный и мягкий «чеховский» интеллигент-доктор стал решительным и рыцарственным офицером. К персонажу перешло зрячее мужество одинокого, непонятого и ненужного героя Най-Турса, белогвардейского Дон Кихота.
Театр отнес преображение героя на свой счет. Л.Е. Белозерская так описала этот эпизод работы Булгакова над пьесой: «Помню, призадумался он, когда К.С. Станиславский посоветовал слить воедино образы полковника Най-Турса и Алексея Турбина для более сильного художественного воздействия. Автору было жаль расставаться с Най-Турсом, но он понял, что Станиславский прав». Да, конечно, тут призадумаешься, но ведь для автора пьесы такое решение означало не простое следование настойчивому совету великого режиссера, но и оправданный возврат к первой редакции романа: «В первой редакции Алексей погибал в гимназии... Алексей был военным, а не врачом, а потом это исчезло» (И.С. Раабен). «Упрощение» романного образа привело к драматургическому «усилению», внутреннему обогащению сценического характера. Эта роль помогла Н. Хмелеву найти себя, сделала его выдающимся актером.
То же происходило с другими персонажами. Одних приходилось, по выразительному слову самого Булгакова, «зарезать», но черты и деяния исчезнувших героев не исчезали вместе с ними, переходили к оставшимся. Появлялись новые люди, например, верный лакей гетмана Федор, чем-то неуловимо напоминавший чеховского Фирса. Комичный Лариосик, обзаведшийся в пьесе собранием сочинений Чехова и смешными репликами, и грешная обаятельная Елена стали близкими, более конкретными в своих житейских черточках и словах. Даже Шервинский, этот измельчавший гвардейский Ноздрев, приобрел симпатичные очертания и вызывал невольное сочувствие.
В персонажах подчеркивалось обыденное, общечеловеческое. Собравшись вокруг елки, они верили и надеялись. Потом автор вспоминал: «Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который нужно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу — чрезвычайно утомительное дело».
В «утомительное дело» входило и неизбежное изгнание эпизодов и картин. Производя такие «усечения», автор радости не испытывал и все же шел навстречу театру. Но и здесь существовала граница, далее которой драматург продвинуться никому не позволял и защищал свое литературное произведение от волевой режиссерской редактуры: «Охотно соглашаясь на некоторые исправления в процессе работы над пьесой совместно с режиссурой, я в то же время не чувствую себя в силах писать пьесу наново». Пьеса Булгакова, как верно отметил А. Файко, вначале была «двухэтажной», действие происходило и в нижних комнатах турбинского дома, где гнездились комичные хозяева — трусливый инженер Василиса (М. Тарханов) и его скупая костлявая жена Ванда (А. Зуева). Их, как и в романе, грабили бандиты. Актеры играли великолепно и очень смешно, и Мхатовцы с сожалением вспоминали об отрепетированных, но отброшенных эпизодах. И эти сцены, и сама двухэтажность пьесы не были лишними, они обогащали спектакль, раздвигали его внутреннее пространство. А развитие действия на разных уровнях сцены было подлинным новаторством, пореволюционнее мейерхольдовских многоэтажных конструкций.
От двухэтажности сохранилась вертикаль лестницы в гимназии. Весь комизм перешел к Лариосику и Елене. Пьеса в правке как бы «спрямлялась», упрощалось пришедшее из романа внешнее действие и сочетание персонажей и взамен усложнялись действие внутреннее, эмоциональная напряженность.
Спектакль становился музыкальным, ибо помимо трагических скрипок и шума бури звучала в нем музыка подлинных чувств. Автор и театр шли к зрелищу, неизменно вызывавшему сильное непосредственное зрительское сопереживание, открывали человеческое в каждом человеке, в трагическую эпоху раскола и борьбы напомнили старую истину «все люди — братья». И они своего добились: «Спектакль был потрясающий, потому что все было живо в памяти людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие и Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны...» (И.Ц. Паабен).
А когда пьеса была возобновлена после запрещения в 1932 году, благодарные зрители чуть не разнесли строгий академический театр. За кулисами сияющие молодые актеры качали смеющегося, отбивающегося автора. И Юрий Слезкин с удивлением записал в дневнике: «Такой триумф не упомянут в Художественном театре со времен Чехова». А его двойник Ликоспастов выразился в «Театральном романе» откровеннее: «Всем обидно... Ты все-таки не Софокл... Я, брат, двадцать пять лет пишу, однако вот в Софоклы не попал». Да, на пьесах В. Киршона, Вс. Вишневского и А. Афиногенова не падали в обморок, не плакали, не кричали взволнованно актерам из зала: «Да открывайте же! Это свои!» За триумф пришлось расплачиваться, но взывающий к человечности спектакль о доме-корабле и дружной семье Турбиных возродился, выжил, волновал зрителей все долгие трудные тридцатые годы2 и вместе с этой эпохой погиб под немецкими бомбами в первый день войны.
Полемика вокруг «Дней Турбиных» достаточно хорошо изучена. Стоит лишь напомнить, что беззастенчиво наглая рапповская атака на пьесу была и отчаянной попыткой уничтожить или хотя бы скомпрометировать поставивший пьесу театр. Ведь сказал же тогда газетчик Грандов: «МХАТ— это змея, которую советская власть понапрасну пригрела на своей широкой груди!»
Сегодня читать такое смешно, но тогда... Да и после прихода на работу во МХАТ автор пьесы должен был остроумно и смело защищаться от скользких намеков: «Когда Михаил Афанасьевич в 1932 году после запрещения всех его пьес был приглашен на работу в Художественный театр, один московский драматург встретил его в клубе писателей и спросил: «Я слыхал, что вас пригласили в Художественный театр, но на какую роль, интересно знать?» Ответ Михаила Афанасьевича прозвучал довольно резко и громко: «На должность штатного контрреволюционера с хорошим окладом».
Сочинители доносительных статей и тайных наветов, обвинявшие автора в апологии белогвардейщины, не знали тогда, что лучше всех ответил им из берлинской эмиграции персонаж пьесы, сам ясновельможный гетман Скоропадский: «Картина спектакля мне ясна. В пьесе пытаются показать, с одной стороны, безнадежность Белого Движения, с другой — осмешить и смешать с грязью Гетьманство 1918 г. и в частности меня». Вот кому бы быть театральным критиком...
Кто же поставил этот классический спектакль? Энергичный И. Судаков, крепкий профессионал, по ухваткам более похожий на кинорежиссера и навряд ли руководствовавшийся какими-либо глубокими идеями и теориями? Нет, он напористо и умело провел «черновую» работу, и к тому же не один. Станиславский? Но известно, что великий режиссер и теоретик лишь прикоснулся к некоторым сценам «Дней Турбиных». К тому же именно он указал на подлинного постановщика спектакля: «Большие надежды возлагаем на Булгакова. Вот из него может выйти режиссер. Он не только литератор, но он и актер. Сужу по тому, как он показывал на репетициях «Турбиных». Собственно — он поставил их, по крайней мере дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектаклю».
Актеры вспоминали, что автор сыграл им всю пьесу, показал почти все роли. Но этим он не ограничился, о чем говорит надпись на экземпляре пьесы «Бег»: «В.С. Соколовой, Н.П. Хмелеву и М.М. Яншину в память наших бесед о театре посвящаю». Эти беседы стали для исполнителей главных ролей прекрасной школой в начале театральной жизни. А художница И.К. Колесова наблюдала на репетициях за этим рождением режиссера: «У Булгакова было очень подвижное лицо. Я часто видела, как, следя за развертывающимся на сцене действием, он сам играл то одного, то другого своего героя. Но я ни разу не слышала, чтобы М.А. вслух делал какие-либо замечания актерам». Он не пошел по пути Станиславского.
Как эта удивительная режиссура осуществлялась, рассказано П. Марковым, Е. Калужским и другими актерами. Совершенно ясно, что она диктовалась логикой художественных образов пьесы. Текст автора был партитурой спектакля. Марков походя указал на главный принцип Булгакова — драматурга и режиссера своей пьесы: «Он не подлаживался к актерам, а, скорее, учитывал свойства их обаяния и масштабы их дарования, отнюдь не предполагая, что они пойдут по проторенному пути». То есть драматург ясно видел и трезво учитывал уровень театра, ставя в нем свою пьесу. Все зарождавшиеся тогда и впоследствии нараставшие конфликты Булгакова с МХАТом проистекали из, мягко говоря, весьма завышенной оценки театром своего уровня.
Драматург делал актера свободным, а благодарные исполнители ролей находили свои решения, и автор их принимал:
— Михаил Афанасьевич, а скажите, когда вы написали «Турбиных», действующие лица казались вам такими, какими их изобразили актеры?
— Нет, я представлял их совсем иными. Потом постепенно привыкал, а теперь мне кажется, что именно такими я их представлял.
Жаль, что опытнейший человек театра П.А. Марков не пошел дальше и не сделал окончательного вывода из своих ценных наблюдений. Драматург Булгаков не подлаживался к знаменитому театру, трезво учитывал реальные границы его весьма больших возможностей и потому предложил МХАТу не «канву» или сценарий, а полноценное художественное произведение, помог ненавязчивой режиссурой и продуманной правкой текста создать замечательный спектакль, ставший общественным явлением, возродивший театр и давший выход на большую сцену даровитой молодежи.
Конечно, не стоит прекраснодушно видеть во всех этих неравноценных исправлениях одни только улучшения текста пьесы, сделанные по авторской воле. Театр порой упрощал и просто портил пьесу, самоуверенно вторгаясь в замысел драматурга. Но вся беда Булгакова и МХАТа в том, что это делал не только театр. Существовало страшное повседневное давление исторических и политических обстоятельств.
После генеральной репетиции Булгаков этот сложный механизм сознательного ухудшения пьесы разъяснил, а безымянный осведомитель ОГПУ его объяснение тут же записал и представил в свое ведомство: «Реперткому не нравится такая-то фраза, слишком обидная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней и последующая становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются механически. В конце концов целое место становится «примитивом», обнаженным до лозунга, — и пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный...» А доносительная «левая» критика такой «контрреволюционности» только и ждала...
Пьеса Булгакова «Дни Турбиных» с первого прочтения в театре встретила отчаянное сопротивление, породила параноическую подозрительность, в судьбу ее сразу вмешались могучие силы. Власть ощутила в булгаковском тексте скрытую угрозу, тайное влияние на театр, литературу и, главное, на зрителя, вдруг повалившего во МХАТ с рабочих окраин. Советские писатели и драматурги спешили уничтожить талантливого и удачливого конкурента. Коллегия Наркомпроса 24 сентября 1926 года «Дни Турбиных» к постановке разрешила, но с купюрами, и сурово уточнила: «Считать, что означенная пьеса должна быть безусловно воспрещена для всех других театров Республики». Однако уже 27 сентября перепуганный Луначарский писал А. Рыкову: «В субботу вечером ГПУ известило Наркомпрос, что оно запрещает пьесу». 30 сентября Политбюро ЦК неожиданно подтвердило своим постановлением разрешение «Дней Турбиных» коллегией Наркомпроса, и всесильная секретная служба Г. Ягоды вынуждена была отступить.
Вокруг «Дней Турбиных» родилась тревожная атмосфера вечного диспута, доноса и борьбы. Драматург Б. Ромашов, будущий сосед Булгакова по писательскому дому, во «внутреннем» отзыве говорил о том, что пьеса «идеологически совершенно не выдержана», и докладывал «наверх», в «инстанции»: «МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины». Информатор ГПУ доносил о сходном суждении Алексея Толстого: «Дни Турбиных» можно поставить на одну доску с чеховским «Вишневым садом». На Лубянке это воспринималось не как хвала...
Театр видел в пьесе Булгакова спасение и боролся за нее. 3 октября 1927 года Станиславский умолял в письме Рыкова: «Он (театр. — В.С.), после запрещения пьесы «Турбины», очутился в безвыходном положении, не только материальном, но и репертуарном. Разрешением «Турбиных» этот вопрос разрешается и материально, и репертуарно». Секретарь ЦК А.П. Смирнов, готовя соответствующее постановление Политбюро о разрешении булгаковской пьесы, отмечал: «Вещь художественно выдержанная, полезная. Разговоры о какой-то контрреволюционности ее абсолютно неверны». 10 октября Политбюро постановило: «Отменить немедленно запрет на постановку «Дней Турбиных» в Художественном театре» (протокол № 129).
Что же думал и чувствовал сам автор «Дней Турбиных», чья судьба тоже была подвешена на этом тончайшем волоске надежды и тревоги, может представить себе любой внимательный читатель этих жутковатых в своей канцелярской обыденности партийных и «гепеушно»-государственных документов, извлеченных ныне из секретного Кремлевского архива Сталина (Архив Президента РФ). Поражает в них глубокое равнодушие к человеческой жизни, трактуемой как «материал» для номенклатурных забав. Великого русского драматурга пытались сделать марионеткой в бесчеловечном театре советской «реальной» политики. Там, за кулисами ЦК — ГПУ, писались свои коллективные драмы и сценарии, шла иезуитская Большая Игра, в которой игроков время от времени хладнокровно «убирали» для обновления актерского состава.
Время повернулось, и опять менялась судьба. В 1936 году писатель Роберт Штильмарк по приглашению Булгакова был на очередном генеральном прогоне «Дней Турбиных». Рядом в правительственной ложе сидели опухший от пьянства Рыков, тогда уже опальный нарком связи, и гладкий поэт-богоборец Демьян (не случайно тогдашние сатирики ему дали отчество «Лакеевич») Бедный, и отставной премьер-министр, слегка запинаясь, промолвил: «Не понимаю, почему этот спектакль окружен ореолом мученичества». Такие «провалы» свойственны не только номенклатурной памяти.
В таких условиях рождался театр Михаила Булгакова. Ясно, что он не мог жить одной темой, одной советской реальностью, одним театром, пусть Художественным, одним жанром и потому никак не может быть увиден и понят как простая сумма пьес. В основе его с самого начала было сцепление разноприродных образов, жанров и сюжетных линий (сатира, комедия, памфлет и даже пасквиль, романтическая драма, лирическая трагедия, история и будущее), эпох, персонажей, объединенных главной идеей автора. Булгаков не переходил от пьесы к пьесе, а сразу ставил перед собой несколько драматургических задач и решал их. Поэтому его сочинения для сцены разъясняют и дополняют друг друга. Жесточайшее давление на автора извне этому, как ни странно, только способствовало.
Театр Булгакова не желал оставаться в столе, быть только текстами. Он требовал сценической жизни, воплощения, зрителя, причем немедленно. Переговоры писателя с российскими и зарубежными театрами и режиссерами показывают: он хотел, чтобы его пьесы ставили широко — от Ленинграда до Одессы, от Парижа до Риги, от МХАТа до мюзик-холла.
«Я мыслим только на сцене», — говорил Булгаков. И то же сказано им в письме к Сталину: «Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен, как воздух». И при этом драматург интересовался постановками своих пьес в Париже, Берлине, Риге, терпеливо объяснял роли зарубежным режиссерам и актерам. «Я понял, что писать пьесы и не играть их — невозможно», — признается Максудов в «Театральном романе». А сам Булгаков говорил о «Днях Турбиных»: «Называйте, как хотите, только играйте».
В 1925 году, еще не завершив работу над «Днями Турбиных», Булгаков начинает комедию «Зойкина квартира». Другая тема, другая пьеса, совсем другой театр заказывает и ставит ее — Вахтанговский, противостоявший породившему его Художественному, молодой, легкий, веселый, ярко театральный, весь в поисках новых форм. К писателю оттуда пришли режиссер А.Д. Попов и актер В.В. Куза и предложили ему написать комедию. «Позже, просматривая как-то отдел происшествий в вечерней «Красной газете» (тогда существовал таковой), Михаил Афанасьевич натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла идея комедии «Зойкина квартира». Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены», — сказано о рождении пьесы в мемуарах Л.Е. Белозерской.
Интрига в пьесе — великое дело. Завязка, развязка, интрига — все это слова старинные, пришедшие из прошлого русского театра, из «Театрального разъезда» Гоголя и кратких точных заметок Пушкина и не потерявшие своего значения сегодня, обозначающие важные проблемы драматургии, ту идею, вокруг которой пьеса строится и развивается. «Нет, комедия должна вязаться сама собой, всей своей массою, в один большой, общий узел... Ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело... Но правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства», — говорил Гоголь.
Речь шла, понятно, не об одной технике писания пьес. Главное здесь — слова «идея», «мысль». Понимал это автор «Ревизора», знал это и его ученик Булгаков, сказавший на одном собрании: «Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы, которые он берет для своих пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя».
Говорит это автор трагической элегии «Дни Турбиных», где важна не внешняя интрига, а жизнь души, общая атмосфера гибнущего дома-корабля, тонкая игра психологических полутонов. И тем не менее здесь четко сформулирован главный принцип Булгакова-драматурга, согласно которому созданы все его пьесы, и прежде всего смело и остроумно придуманная и легким, летящим пером написанная комедия «Зойкина квартира» (1925—1926). Она ярко театральна, сценична, умело «закручена», несет в себе великолепные возможности для изящной, эксцентричной, импровизационной игры актеров. Здесь царят трюк, занимательность сюжета, точно очерченные сатирические образы, быстрый обмен смешными репликами. Все эти особенности пьесы прямо адресованы поставившему ее вахтанговскому театру и тогдашнему зрителю, жаждавшему увлекательного веселого зрелища.
Комедия стала одним из самых «кассовых» советских спектаклей, шла с неизменным успехом у вахтанговцев и в провинции (в родном Киеве зал был переполнен), а позднее и за рубежом. Автор писал брату в 1934 году: «Я надеюсь, что в Париже разберутся в том, что такое трагикомедия. Основное условие: она должна быть сделана тонко». Да, «Зойкина квартира» выстроена Булгаковым тонко и изящно, и в Париже в этом разобрались. Но несущее в себе тайную грусть слово «трагикомедия» говорит, что не все смешно и просто в озорном и стремительном действе о веселом доме. Ведь это, по авторскому определению, «трагический фарс в трех актах», «трагическая буффонада». Этот-то скрытый лирический трагизм булгаковских образов был чужд и непонятен вахтанговскому театру, но великолепные комедийные актеры его почувствовали в глубине своих гротескных ролей и сыграли, а зритель это понял и принял с благодарностью.
Точен уже выбор сюжета, взятого из газет и летучих сплетен эпохи нэпа. Зойкина квартира — тайный перекресток двуслойной советской жизни, «сборное место», где неожиданно встречаются самые разные люди (вспомним, что в действительно существовавший притон Зои Шатовой у Никитских ворот заглядывали и Есенин с Мариенгофом). Одним нужны деньги, другим пристанище и работа, третьим — бездумные развлечения и легкая веселая любовь, купленные на те же «бессмертные» червонцы. Но все ищут, в сущности, тепла и общения. Находится здесь место и любви настоящей, деятельной и жертвенной (Зойка, Алла). Сразу же закручивается узел интриги, открывается стремительный поток неофициальной жизни с неожиданными поворотами и детективными приключениями. Советский маскарад здесь кончался, открывались реальные лица и мысли.
И в то же время автор стремился избежать угнетающей детализации быта и нравоописательного реализма. В «Зойкиной квартире» скрывались тайны и чудеса, своя поэзия. Комедия виделась Булгакову волшебной сменой пестрых туманных картинок-снов: «Вообще все темпы стремительные. У зрителя должно остаться впечатление, что он видел сон в квартире Зойки, в котором промелькнули странные люди, произошли соблазнительные и кровавые происшествия, и все это исчезло». Спектакль по своей пьесе драматург понимал как театральное волшебство, «двор чудес» и комедию масок, как это видно из его интервью и писем французской актрисе и переводчице М. Рейнгардт.
Есть в комедии и неизбежный человек-пружинка, исправно вращающий колесо действия. Он клоун, любимец публики, главный администратор пьесы, ловко объединяющий ее очень разных персонажей и обладающий удивительно гибким, уживчивым характером, легко говорящий на всех социальных языках и жаргонах эпохи. Как и хитрый Шприх из лермонтовского «Маскарада», авантюрист Аметистов «с безбожником — безбожник, с святошей — езуит, меж нами — злой картежник, а с честными людьми — прелестный человек». И все же булгаковский персонаж несравненно симпатичнее и сложнее. В нем есть русское лукавство, но черной злобы и иезуитства нет и в помине.
Сам автор так говорил об Аметистове: «Человек во всех отношениях беспринципный. Ни перед чем не останавливается. Смел, решителен, нагл. Его идеи рождаются в нем мгновенно, и тут же он приступает к их осуществлению... При всех его отрицательных качествах почему-то обладает необыкновенной привлекательностью, легко сходится с людьми и в компании незаменим». В энергичном шулере и врале есть неистребимое жизнелюбие, очень интересно развивающее любимую мысль писателя о том, что жизнь нельзя остановить. Речи же его в пьесе — маленький шедевр сценического слова, они наглые, острые, очень смешные, поразительно достоверные, живые, в них характер человека и эпохи выразился вполне. «Этот образ напоминал персонажей Сухово-Кобылина... Как говорят на нашем актерском языке, роль «пулевая», — вспоминал первый исполнитель роли Аметистова Рубен Симонов.
Если бы Булгаков писал сатиру на нэп, то Аметистовым ограничился бы, да и не сделал бы его таким сложным и привлекательным. Но неожиданно в его пьесе возле пианино возникает дуэт веселого приспособленца Аметистова и бывшего графа Абольянинова, беспомощного человека из прошлого, не могущего жить в новой действительности. Граф даже привязался к веселому и незлому мошеннику и с вежливым изумлением выслушивает ноздревские сказки Аметистова про раков величиной с гитару и перлы житейской мудрости: «Порядочному человеку при всяких условиях существовать можно».
С грустным интеллигентом Абольяниновым приходит в «Зойкину квартиру» мотив жалости к раздавленному историей человеку, превращающий сатирическую комедию в трагический фарс. Заметим, что персонаж вовсе не разбитый старик, по авторской ремарке ему всего тридцать пять лет, это отлично одетый, тщательно выбритый красавец. Тем сильнее впечатление от его падения. И очень важно, что он моложе Зойки.
Бывший граф и богач стал бывшим человеком, альфонсом и наркоманом и новую жизнь свою, где ему приходится аккомпанировать на рояле нескромным танцам веселых манекенщиц, ощущает как мучительный сон-унижение. Его мотив — романс на слова Пушкина «Не пой, красавица, при мне...» о «другой жизни и береге дальнем», тоска о великолепном прошлом и страдание. Трагикомично само интеллигентско-дворянское донкихотство Абольянинова, гордо сказавшего новоявленному хозяину жизни Борису Семеновичу Гусю: «Когда изменятся времена, я вам пришлю своих секундантов». На что «подпольный» (а на самом деле штатный и даже номенклатурный) миллионер ответил с остроумным цинизмом: «Дам, и им дам». Два мира за этими фразами.
Смело можно оказать, что в «Зойкиной квартире» всем движет любовь. Неунывающий Аметистов любит жизнь, погасший тоскующий Абольянинов — свое прошлое и себя прежнего. Энергичная умная Зойка преданно любит графа и, видя его трогательную беспомощность и обреченность, с риском для себя зарабатывает деньги на Париж, устроив в своей квартире притон-ателье. В тот же Париж, к любимому человеку рвется красивая умная Алла Вадимовна, которая, как и Абольянинов, беспомощна, не может жить в новой жизни, и здесь уже намечена тема «Бега». «При советской власти спален не полагается», — строго говорит председатель домкома Портупея, но он любит не эту власть, а отпечатанные ею деньги, и за червонцы продает Зойке ее же квартиру под «ателье». Китайцы любят прислугу Манюшку, «дамы» — сытую праздность, деньги и наряды, состоятельные посетители Зойкиной квартиры — красивых «дам», шампанское и прочие «облегченные» развлечения. Всюду здесь любовь унижена, ради нее предают, торгуют собой, идут на преступления. И потому о ней можно написать не романтическую поэму, а лишь трагический фарс.
Рыцарь униженной любви — грустный богач Гусь. Он всемогущ, самоуверен и властен, этот коммерческий директор тугоплавких металлов, но душа его мрачна. Ибо сильный энергичный человек, который раньше верил только в наглый напор, связи «наверху» и деньги, теперь влюблен и потому с особой ясностью чувствует свою уязвимость и обреченность. Борис Семенович — вовсе не финансовый гений, а штатный олигарх или «новый русский», часть советской номенклатуры; циничная и дальновидная власть дала ему на время подержать большие деньги для своего удобства, ей нужно пользоваться этими деньгами бесконтрольно, оплачивать свои личные дела и международные авантюры, переводить валюту за границу и т. п. Гусь — рыцарь на час, его незаурядные деловые способности цинично используют, денег и влияния в конце концов лишат и самого его выключат тем или иным способом из жизни3. Гусь это понимает, но даже не это его мучает в знаменитой сцене предсмертной тоски: «Но вот одного не может придумать моя голова, как деньги превратить в любовь!»
В булгаковской комедии возникает вечная тема многих трагедий. Соединившись с характерными словами «Если бы я верил в загробную жизнь» и вульгарнейшим выражением «пара малюток», фраза Гуся показывает, что трагикомедия Булгакова по своим мыслям и точным социальным наблюдениям будет поумнее и посерьезнее многих тогдашних «актуальных» пьес. Автор понял, что один язык сатиры здесь не подходит. История завязала такой сложный узел, говорить о котором только на уровне «Клопа» Маяковского было невозможно. Вся короткая, какая-то зыбкая, лихорадочная, не совсем нам понятная эпоха нэпа, ее маленькие повседневные трагедии и комедии, ее люди, которые, заметим, куда сложнее героев ранних булгаковских фельетонов, запечатлены в стремительном круговороте картин «Зойкиной квартиры». Пьеса пронизана предчувствием конца.
Потом любезный автор комедии утверждал: «Это не я написал «Зойкину квартиру» — это Куза (актер и режиссер Вахтанговской студии. — В.С.) обмакнул меня в чернильницу и мною написал ее». Но из «Театрального романа» видно, что «странные и редкие» картинки «Зойкиной квартиры» возникали в сознании автора так же неотвратимо, как и сцены «Дней Турбиных». Идея комедии настолько захватила Булгакова, что он прятался в мастерской известной московской портнихи А.С. Ляминой-Мориц и записывал ее разговоры с капризными богатыми заказчицами.
«Я «Зойкину» очень люблю и хочу, чтобы она шла хорошо», — говорил драматург режиссеру Вахтанговского театра А.Д. Попову. Описывая потом явление картинок, Булгаков вспомнил и родившийся у него тогда интересный вопрос: «И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?» И отнес свою трагическую буффонаду не в Художественный театр, а именно вахтанговцам, и они ее поставили так, что посмотревший спектакль Станиславский, мудро улыбнувшись, сказал только два слова: «Французская игра».
О «французской игре» вахтанговцев написано много статей и монографий. Нас сейчас интересует другое: как относился к «игре» с его пьесой сам Булгаков. Из воспоминаний Р. Симонова и И. Рапопорта мы знаем, что драматург давал свободу актерской и режиссерской фантазии и импровизациям. Но главную идею пьесы Булгаков неизменно отстаивал в спорах с театром и писал режиссеру Попову: «По-видимому, происходит недоразумение: я полагал, что я продал Студии пьесу, а Студия полагает, что я продал ей канву, каковую она (Студия) может поворачивать, как ей заблагорассудится». И потом сказал еще: «Пьеса оскоплена, выхолощена и совершенно убита». Дело было не только в произвольном превращении комедии из четырехактной в трехактную.
Режиссер Попов жестко трактовал персонажей «Зойкиной квартиры» как монстров: «Люди скатились до пределов человеческого падения, внешне пытаясь сохранить фиговое достоинство... Все типы в пьесе отрицательны. Исключение представляют собой агенты Угрозыска...» И актеры, как люди дисциплинированные, такой суровой «интерпретации» следовали. «На сцене действовали люди, которые в своем фантастическом эгоизме доходили до состояния животных», — свидетельствовала режиссер и актриса М.О. Кнебель. А умная и опытная зрительница О.Ф. Головина, дочь бывшего председателя Государственной думы, так отозвалась о пьесе Булгакова и ее театральном прочтении: «Это блестящая комедия, богатая напряженной жизненностью и легкостью творчества, особенно если принять во внимание, что тема взята уж очень злободневная и избитая и что игра и постановка посредственны».
С такой оценкой одного из лучших спектаклей Вахтанговского театра нужно, по всей видимости, не согласиться, хотя и в ней была своя правда. Но вот что пишет о «Зойкиной квартире» М.О. Кнебель: «Трактовка была жестокой, беспощадной». Так требовал сердитый режиссер. Однако Булгаков, далекий от оправдания нэпманов, писал не о свинцовых мерзостях и монстрах-масках, а о живых людях и их реальной жизни: «Пьеса не дает никаких оснований для того, чтобы устроить на сцене свинство и хамство».
У пьесы и ее персонажей были своя глубина и логика. Гуманизм Булгакова обладал немалой, хотя и скрытой, силой. И это-то сыграли вопреки режиссерской трактовке умные талантливые актеры, не пожелавшие стать «прокурорами образов». М.О. Кнебель с некоторым недоумением вспоминала, что даже в пьяном «Мертвом теле» с его тяжелой тоской, замечательно сыгранном Б.В. Щукиным, вдруг стало видно что-то человеческое. Лиризм, грусть, общая безотчетная тоска и чувство обреченности, стремление любой ценой выбраться из жизненного тупика придавали действию трагическую поэтичность.
Актерам и зрителям было жалко этих обреченных, мечущихся людей, а жизнеспособность «отрицательного» Аметистова неожиданно вызывала симпатии к нему. Изгнанная режиссером человечность ушла в глубину образов, в подтекст и все же давала о себе знать постоянно, оставалась основой пьесы. «Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки», — говорил о милосердии Воланд. В трагическом фарсе «Зойкиной квартире» при всей силе реалистической сатиры автор и актеры вместе искали и находили в падшем, униженном человеке человеческое. И это было победой драматурга и в конечном итоге определило успех спектакля, ставшего классической вахтанговской постановкой. И обрекло пьесу на запрещение. Сталин, не раз побывавший на спектакле, как-то промолвил с присущим ему жестоким лукавством: «Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного не вижу». Он все увидел и понял.
А Политбюро пришлось 20 февраля 1928 года опять решать вопрос о булгаковской пьесе. Пункт 19-й повестки дня — «О «Зойкиной квартире»: «Ввиду того, что «Зойкина квартира» является основным источником существования для театра Вахтангова — разрешить временно снять запрет на ее постановку». Сразу видно, что заседали марксисты, законспектировавшие все тома «Капитала»... Кому же Булгаков был обязан этим разрешением, становится ясно из секретного письма А. Рыкова Сталину: «По твоему предложению мы отменили решение Реперткома о запрещении «Зойкиной квартиры». Очередные «чудеса» за кулисами «реальной» политики...
Написав и поставив на сцене «Зойкину квартиру», Булгаков еще раз доказал, что настоящий театр живет единением со своим временем и зрителем. Пьеса защитила себя сама. Но для автора комедия стала, помимо всего прочего, и еще одним шагом к роману «Мастер и Маргарита». Ернические интонации Аметистова переходят к Коровьеву, а парижско-московское «ателье» Зойки легко переносится на пустую сцену Варьете и превращается в волшебный театр дамских мод, где женщин так же легко и весело покупают за тряпки и косметику. И, наконец, последний отзвук пьесы возникает в сцене бала у сатаны, куда в числе почетных гостей является и содержательница притона: «Московская портниха (речь, по-видимому, идет о той же А. Ляминой-Мориц. — В.С.), мы все ее любим за неистощимую фантазию, держала ателье и придумала страшно смешную штуку: провертела две круглые дырочки в стене...
— А дамы не знали? — спросила Маргарита.
— Все до одной знали, королева, — отвечал Коровьев».
Так в романе о дьяволе завершается тема соблазна и тонкой игры на женской суетности и самоупоенности, выраженная в комедии фразой Аллы Вадимовны: «Знаете, кто вы, Зойка? Вы — черт!»
Постановка «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры» дала Булгакову то полное знание и понимание театра, без которого драматург немыслим. И потому третья его пьеса, поставленная при жизни автора, посвящена волшебному миру сцены. «Багровый остров» блистательно, неувядаемо театрален. Комедия как бы предваряет грустную насмешливость «Театрального романа», ибо наблюдения и личный опыт автора не всегда радостны, в них есть понятные обида, ирония и горечь. Видно, как просится в строку сатира, умело пользующаяся таким своим традиционным оружием, как памфлет и пародия.
В Литературном музее хранится написанный Булгаковым титульный лист комедии с четко обозначенным жанром пьесы — «Драматический памфлет». Есть там и два интереснейших эпиграфа, совершенно напрасно не воспроизводящиеся при публикациях пьесы. Вот первый: «Не предполагая в читателе никаких предварительных размышлений и сведений о данном вопросе, памфлетист обращается только к простому здравому смыслу. Брокгауз—Ефрон, т. 44». Второй: «...Не печатать, но первее презентовать в коллегиум; а коллегиум рассмотреть должно, нет ли какового в письме оном погрешения, учению православному противного. Духовный регламент». Из второго эпиграфа следует, что бдительные саввы лукичи и грозные запретительные «инструкции» существовали еще в XVIII веке. Первый же эпиграф взывает к здравому смыслу зрителя, приглашая его прочитать в предлагаемом памфлете только то, что там написано. А это, как выяснилось, оказалось трудным делом и для профессионалов.
Булгаков посвящает свой драматический памфлет суетливому, легкомысленному театру, над которым вдоволь поиронизировал упоминаемый в «Багровом острове» Чехов. Это тот же клубок интриг, зависти и сплетен, «лазарет самолюбий» (Чехов), живущий неизбывной борьбой «лагерей», склоками, кумовством и «романами». Здесь бродят рычащие полупьяные трагики, легких нравов актрисы, вкрадчивые дирижеры «на все руки», настырные треплевы с их вечным лозунгом «Нужны новые формы», очень опытные режиссеры с гибким позвоночником и эластичными принципами, верящие только в нахрап и связи «наверху». Мало того, что у хора нет дикции, оркестр не звучит, балет разболтан, а у постоянно «переигрывающих» актеров отсутствует подлинный профессионализм, привычно подменяемый набором приемчиков и штампов. Сам театр в изображении Булгакова ужасающе беден — беден идеями, личностями, не говоря уже о декорациях, костюмах и прочей сценической «материальной части». Дубовато-прямолинейная политизация и идеологические трафареты 20-х годов его только больше испортили.
Отсюда с неизбежностью проистекает циничное и жестокое отношение к драматургу, его вечное унижение, ограбление и эксплуатация, бесцеремонные вторжения в текст пьес. Здесь автору легко могут сказать: «Ваше дело, хе-хе, музы, чернильницы». Не случайно Булгаков дарит рыжему, бритому, очень опытному Геннадию Панфиловичу фразу: «Я не допущу у себя «Зойкиной квартиры»!» И не допустит, стоит его только пугнуть чиновнику из Главреперткома или официозному критику из влиятельной газеты. В таком трусоватом, всегда готовом к предательству театре вольготно царствовать тихому зловещему старику Савве Лукичу с его запретительным красным карандашом. Здесь автор всегда будет убит, его и пьесу может спасти лишь волшебно счастливое стечение обстоятельств (см. историю «Дней Турбиных»).
Потому-то Булгаков выбирает для «Багрового острова» жанр драматического памфлета, иногда переходящего в пасквиль, то есть в сатирические нападки и намеки на конкретных лиц (см. соответствующую статью в словаре Брокгауза-Ефрона). Пародия на современный ему театр охватывает самые разные явления и имена и поражает гибкостью, беспощадностью и глубиной обобщений.
Если «Зойкину квартиру» автор именовал «трагической буффонадой», то «Багровый остров» буффонада пародийно-сатирическая, что отнюдь не исключает трагизма. И здесь важен стремительный темп «карусельного галопа», чему способствуют точно найденная идея «пьесы в пьесе» и присущая генеральной репетиции нервная атмосфера всеобщей беготни, накладок и тревоги. Эта веселая суета нравилась автору пьесы: «Его самого забавляет калейдоскопичность фабулы... Помнится, на сцене было много музыки, движения, авторского озорства». Но, как всегда у Булгакова, в калейдоскопе «Багрового острова» видна главная идея. На сцене происходит постоянное разрушение театральной иллюзии и условности и целеустремленное пародирование самых разных пьес, театров и режиссерских методов. Булгаковская пьеса — маленькая театральная энциклопедия, сатирическая история русской сцены.
Когда говорят, что в «Багровом острове» пародируется плохой провинциальный театр из чеховских рассказов, то лишь затемняют суть дела. Булгакову-сатирику незачем было оглядываться и вспоминать. Ведь в театре Мейерхольда шла тогда полная шумовых и звуковых эффектов пьеса С.М. Третьякова «Рычи, Китай!», где действовали капитан английской канонерки, французский коммерсант, корреспондент, европейские матросы. Булгаков дал пьесу Камерному театру, режиссеру А.Я. Таирову. Но именно там шла пестрая веселая пьеса «Жирофле-Жирофля» с пиратами, дикарями, и ее комические перепевы есть в «Багровом острове». А шутки о женах главных режиссеров, которым достаются лучшие роли, прозвучат иначе, если мы вспомним, что «звездой» Камерного театра была актриса Алиса Коонен, жена Таирова. Знаменита и пара Мейерхольд — Зинаида Райх. В стиль булгаковской комедии иронически вплетена легкая «турандотность», заставлявшая зрителей вспомнить знаменитый спектакль вахтанговцев с его подчеркнутой условностью и комичными принцами и султанами. Название же взято из мифологии, из описания десятого подвига Геракла, но как бы вывернуто наизнанку.
Цитируются «Остров сокровищ» Р. Стивенсона (попугай кричит о червонцах, как о пиастрах) и даже «Война и мир» Толстого (пародирующие знаменитую реплику разбитого генерала Мака слова бежавшего Кири: «Вы видите перед собою, лорд, злосчастного Кири-Куки»). И, наконец, в пьесе Булгакова есть значимые автоцитаты из «Дней Турбиных» (речь Кири со словами «друзья мои», подражающая монологу Алексея Турбина в гимназии), «Зойкиной квартиры» (Аметистов-Кири) и «Бега» (Хлудов-Тохонга-Лики). Остросовременный сатирический текст, точные по своему адресу пародии, шаржи и намеки превращают «Багровый остров» в фельетон на сцене, где театр изучается изнутри и высмеивается его же приемами и средствами. Страшноватый убийца талантов Савва Лукич и униженный, нищий драматург Дымогацкий делают этот фельетон серьезнее и глубже, напоминая о суровой и грустной реальности.
История русского театра в «Багровом острове» начинается с трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец», привычно цитируемой тертым актером Анемподистом Сундучковым. Другой трагик «старой щепкинской школы», Варрава Аполлонович Морромехов, на сцене блистательно отсутствует по случаю очередного пьяного скандала в «Праге», но ясно, откуда он пришел в булгаковскую пьесу — из «Леса» А.Н. Островского, где гордо именовался Несчастливцевым и уже имел на своем мрачноватом лице «следы беспокойной и невоздержной жизни».
Имя Островского вспоминается в связи с «Багровым островом» еще и потому, что автор «Талантов и поклонников» дал в своих пьесах точные и вполне сатирические очерки истории тогдашнего русского театра. Булгаков этой традиции следует. Но куда важнее для понимания «Багрового острова» цитируемая здесь с любопытными изменениями пьеса Грибоедова «Горе от ума», любимая комедия Булгакова, по свидетельству актера МХАТа В.В. Лужского.
Из этой комедии в булгаковскую пьесу приходит тема столкновения наивного либерала Чацкого и опытного чиновного хитреца Фамусова, тема трагическая, превращающая «Багровый остров» в драматический памфлет.
Памфлет этот направлен против Главреперткома и других зловещих закулисных сил, губящих драматургию и театр и воспитывающих беспринципных панегиристов и духовных рабов. «Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене», — сказано в письме Булгакова Правительству СССР. И напрасно режиссер Таиров увидел в этой многозначной пьесе лишь игрушечный, пародийный уровень и прошел мимо ее очевидного протеста и трагизма, привычно работая со сложным авторским текстам по «линии арлекинады». Потому автор имел право сказать: «Да они в Камерном черт знает что поставили вместо пьесы».
Но какова же «сверхзадача» «Багрового острова», что соединяет все эти разные авторские идеи в единую сценичную пьесу? Насмешка над театром, его пародийная история? Протест против цензурных утеснений? Горькая усмешка обиженного и страдающего драматурга?
Все это есть в пьесе Булгакова. Но все это детали. Из таких «случайных» деталей местный волшебник Метелкин ловко монтирует на сцене живое и целостное театральное зрелище и, взглянув на дело своих рук, восклицает: «Живет!» И далее следует знаменитая булгаковская ремарка: «На сцене волшебство...» Из случайного сора, житейской грязи, ограниченности людей сцены, иезуитского гнета и закулисных склок рождается похожее на сон чудо театра, начинается его пестрая короткая жизнь. «Существует театральное волшебство!» — писал Булгаков Станиславскому в 1931 году после репетиции «Мертвых душ». Его «Багровый остров» — веселая и грустная сказка о волшебном рождении и смерти спектакля.
Между тем политической смерти «Багрового острова» и его автора желали очень многие влиятельные люди и организации. Заместитель заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) П. Керженцев предложил коллегии Наркомпроса, в чьем ведении репертуар театров находился, снять спектакль. Однако получил в ответ неожиданные возражения. Заместитель народного комиссара просвещения В. Яковлева (есть предположение, что именно ее Булгаков изобразил в «Собачьем сердце» как девушку-юношу Вяземскую) пишет в ЦК: «Пьеса в окончательном ее виде не дает поводов для снятия ее... Снятие пьесы создало бы нездоровую сенсацию вокруг пьесы и вокруг театра без всяких тому оснований. Вместе с тем Коллегия считает, что пьеса скучна, не художественна и малопонятна широкому зрителю» (письмо от 5 января 1929 года. РЦХИДНИ). А рядом с письмом Яковлевой в архиве Агитпропа ЦК лежит перевод статьи М. Фишера из «Дойче Альгемайне цайтунг», где, в частности, сказано: «Однако публика, по-видимому, придерживается совершенно другого мнения. Камерный театр Таирова изо дня в день заполняется до последнего места». Но теперь на экономические аргументы внимания не обратили, и в мае 1929 года «Багровый остров» был запрещен.
Как уже говорилось, «Багровый остров» весело подводит предварительные итоги трудной жизни Булгакова в театре накануне катастрофы 1929 года, когда имя автора «Дней Турбиных» исчезло с афиш. Ощущение близящейся трагедии уже есть в комедии, где описана судьба драматурга. Но странное дело: все эти годы Булгаков шел в театре от успеха к успеху, его пьесы ставились на лучших сценах страны и за рубежом. Конечно, неурядицы, диспуты, клевета и доносительные статьи свою роль сыграли. Но почему же на вершине успеха автор «Багрового острова» пророчески говорит о трагической незащищенности драматурга? Ведь здесь предсказана до мельчайших подробностей и его судьба: клевета, запрещение, заговор молчания, нищета и одиночество.
«Первым звонком», предвестием крушения стала для Булгакова судьба его пьесы «Бег», принятой и репетировавшейся МХАТом и затем запрещенной при прямом вмешательстве Сталина. Именно здесь начались путаница, странные совпадения, роковые случайности, неясные предчувствия, надежды, сменяющиеся отчаянием, следующим образом описанные в послании к Е.И. Замятину 27 сентября 1928 года: «Вообще упражнения в области изящной словесности, по-видимому, закончились. Человек — разрушен... Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать. Написан «Бег». Представлен. А разрешен «Багровый остров». — Мистика. — Кто? Что? Почему? Зачем? — Густейший туман окутывает мозги».
«Бег» был любимой пьесой Булгакова, здесь он хотел сказать и сказал то, что не удалось выразить в «Днях Турбиных». «Он любил эту пьесу такой болезненной любовью, как мать любит своего незадачливого ребенка», — говорила Е.С. Булгакова. Да, в «Беге» ощутимы внутренняя свобода и полет мечты и мысли писателя. Тем большей трагедией стало запрещение этой пьесы по специальному решению Политбюро ЦК ВКП(б).
«Бег» — авторский сон-воспоминание о безнадежности и исторической катастрофе. В 1926 году, работая над пьесой, Булгаков говорил П.С. Попову: «Сны играют для меня исключительную роль. Теперь снятся только печальные сны». Он пишет свои вариации на предложенную испанским драматургом Кальдероном тему «Жизнь есть сон». Для Булгакова жизнь есть бег человека к покою. Сон как бы замедляет этот бег («Вот уже месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по градам и весям...»), обволакивает людей, расширяет внутреннее пространство пьесы, делает ее лирической и музыкальной, обостряет все чувства и мысли. Жизнь предстает странной и в то же время более понятной. Во сне приходят догадки и великие прозрения, есть в нем и пророчество. Из «Дней Турбиных» сны по разным соображениям выбрасывались. «Бег» же — пьеса в восьми снах, передающая ощущение рокового «полета в осенней мгле». Эта поэтическая и печальная атмосфера холодной осени и заката автору особенно дорога, и поэтому он написал замечательные ремарки, точно определявшие лирическую музыку пьесы, ее режиссерское и актерское решение и ставшие самостоятельным художественным произведением.
В волшебно замедленном сне-полете булгаковские герои на время забывают о конечной цели своего бега, обозначенной в эпиграфе из Жуковского (кстати, эпиграф этот найден уже в декабре 1924 года). Жизнь представляется им жестокой кутерьмой и катастрофой, старый мир неотвратимо рушится, новый страшен и непонятен. «Страшно жить, когда падают царства», — признавался автор пьесы. Бег не завершается в Крыму, персонажи попадают в Константинополь и Париж, а неугомонный весельчак Чарнота все мается: «В Мадрид меня чего-то кидает...»
География эмиграции беспредельна — от Шанхая до Уругвая. Цель же булгаковских героев — не Мадрид или какой-то другой знаменитый город мира, но покой и свет в душе, возвращение к простым, венным ценностям, восстановление утраченного согласия и единения между людьми. Обрести мир в душе можно и в Вязьме или Киеве, и герои пьесы рвутся домой, хотя и понимают, что испытания их на этом не закончатся. Все они хотят остановить свое медленное падение в небытие и вернуться к жизни.
Пьеса-сновидение Булгакова полна мрачноватой поэзии, живет предельным напряжением авторских чувств и страстей. Однако эта лирическая драма имеет тщательно воссозданную документальную и историческую основу. Каждый факт здесь обдуман и отобран. Книги генерала Я. Слащева и журналиста-эмигранта И. Василевского, мемуары белогвардейцев, устные воспоминания очевидцев и прежде всего крымские, константинопольские, берлинские и парижские впечатления Л.Е. Белозерской, эмигрантские сочинения А. Аверченко и А.Н. Толстого, газеты, полевые карты, собственное пребывание в белой армии — все служит Булгакову материалом. Ему нужны точные подробности, звуки города, яркие пятна: «Какая толпа? Кто попадается навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза?»
Даже собственные произведения становятся для Булгакова источником — огни в порту и тема бегства в Константинополь приходят в «Бег» из «Записок на манжетах», образ утлого, гибнущего корабля-ковчега и бегущих с него крыс встречается в «Днях Турбиных», рассказы о терроре белых есть в «Необыкновенных приключениях доктора» и «Красной короне», слова о жизни-сне возникают в «Зойкиной квартире», а «тараканий царь» Артур Артурович — обнаглевший двойник льстивого Ликуя Исаевича из «Багрового острова». Здесь же есть и насмешки над неграмотными беспринципными журналистами, знакомые нам по ранней сатирической прозе Булгакова.
Как всегда, в пьесе продуманно отобран и переосмыслен собственный жизненный опыт, впечатления киевской юности и офицерской службы на Северном Кавказе. Здесь нет ничего случайного или наспех придуманного. Мечтательный приват-доцент Голубков воплотил в себе реальные черты философа и писателя Владимира Николаевича Ильина, родившегося под Киевом в том же 1891 году, учившегося в том же университете и в 1918 году ставшего там приват-доцентом, затем бежавшего в Турцию, читавшего там лекции, перебравшегося в Берлин и Париж. Это не только земляк и однокашник Булгакова, но и эмигрантский знакомый Л.Е. Белозерской. Даже храбрый и веселый маркиз де Бризар — не просто персонаж «Бега»: в 1919 году вместе с Булгаковым служил в деникинской армии лейб-кирасир полковник А.Г. Шапрон дю Ларре, командовавший 2-м Офицерским конным полком и тяжело раненный; он был всем известен своей храбростью и был к тому же адъютантом Деникина и зятем Корнилова. Словом, в зеркале булгаковской пьесы отразилось много реальных лиц и обстоятельств.
Но все эти детали, сами по себе интересные, для автора всего лишь необходимое подспорье. «Бег» — не просто лирическая драма настроений. Здесь, как и везде у Булгакова, пружина действия стремительно и сильно закручена, интрига остра и неожиданна.
Пьеса живет соединением высокого и низкого, трагедии и комедии, вечной книги Апокалипсиса и самого расхожего просторечия, стилизованной под царские манифесты велеречивости белого главнокомандующего и чисто разговорных фраз Чарноты типа: «Что ты, папаша, меня расстраиваешь?» Гибель, грозящая этим людям, не мешает чисто гоголевским комическим эффектам (позаимствованные из «Ревизора» шутки об Александре Македонском). Тема тяжкой вины и крови, больной совести соседствует с веселой парижской сценой игры в карты у азартного циника Корзухина, этой пьесой в пьесе, маленьким шедевром сценической сатиры. Баллада о всемогущем долларе, это очередное булгаковское пророчество, звучит рядом с мрачной народной песней о Кудеяре-разбойнике, у которого вдруг совесть господь пробудил (на пластинках того времени ее пел эмигрант Шаляпин, а вторил ему великолепный хор бывших белых офицеров). И даже трагический Хлудов произносит смешную фразу Бегемота из «Мастера и Маргариты»: «Я никого не обижаю...» Кстати, он прекрасный актер и среди общей трагедии разыгрывает свои маленькие комедии с гаерством и жестокими шутками. Исторические события и судьбы людей переплетены, и каждая история как бы подталкивает, ускоряет действие пьесы.
Все эти очень разные персонажи своими путями приходят к пониманию необходимости завершить самоубийственный бег и обрести тихую пристань. Недаром Чарнота вспоминает имена двух легендарных вечных странников — Агасфера и Летучего Голландца. Люди, гонимые гражданской войной и страхом, очнулись, одумались и устремились к покою. Даже прирожденный воин Чарнота, не запятнавший себя казнями, успокоился за карточным столом и на любимых тараканьих бегах, простодушное жизнелюбие и запорожская хитрость помогут ему выплыть. А Серафиму и Голубкова спасает и возрождает любовь. Причем чистый открытый приват-доцент явственно напоминает мягкого, болезненно мечтательного князя Мышкина, героя романа Достоевского «Идиот». А отсюда тянется ниточка к образу Иешуа.
Среди обычных людей титаническая фигура Хлудова одинока и вызывает общий страх и жалость безысходным отчаянием и очевидной болезнью виновной души. Она ужасна какими-то нечеловеческими очертаниями и страданиями. Недаром красноречивый вестовой Крапилин называет Хлудова «мировым зверем». Это живая руина, обломки могучей личности, сильного, смелого ума, выдающегося полководца, храбреца и знатока литературы. Ум и офицерско-дворянская честь соединяются в нем с диким самодурством (похож на несчастного императора Павла I), изощренной безграничной жестокостью и капризным самолюбием.
В ремарке сказано, что Хлудов моложав, но глаза у него старые. Человек уходит в небытие с тяжкими грехами. Душа состарилась, опустошена точным, полным и, увы, запоздалым знанием смысла происходящих событий, ощущением собственного бессилия и огромной вины: «Никто нас не любит, никто... Он (Бог) уже явно и давно от нас отступился».
Не случайна в «Беге» тема картежной игры, подчеркнутая соответствующими ариями из оперы Чайковского «Пиковая дама»: здесь играют и отчаянно проигрывают не только деньги, но и свою и чужую жизнь, честь, родину. Самая высокая ставка и проигрыш у Хлудова. Этот белогвардейский Макбет медленно низвергается в пропасть небытия с большой высоты, ибо ему многое было дано. Тем тяжелее расплата. Его самоубийство в финале — уход, но не выход. Поздно пробудившаяся совесть порождает в больном разуме страшные видения.
Здесь продолжается русская трагедия, описанная Достоевским. В доносительном отзыве П. Керженцева о «Беге» сохранено любопытное свидетельство: «По неоднократным заявлениям Булгакова... основное в пьесе — это проблема преступления и наказания». За лютым зверем Хлудовым неотступно следует тень повешенного им солдата Крапилина, и все время больная душа генерала говорит с казненным: «Как ты ушел от вечного покоя?» К Хлудову смерть не идет, он странник, изгой. Жизнь становится для него медленной казнью. И сразу вспоминается другая неразлучная пара: раздавленный своей всемирной славой и тягостным бессмертием Понтий Пилат и казненный им Иешуа. Опять тянется нить от пьесы к роману.
Борьба вокруг «Бега» снова велась на уровне Политбюро, где Сталин вычеркнул из подготовленного Ворошиловым проекта решения слово «политически» («политически нецелесообразным») и тем самым отменил неизбежные репрессии. Вмешательство великого пролетарского писателя также ничего не дало, о чем сказано в очередной агентурно-осведомительной сводке ОГПУ: «Горький поддерживал пьесу в «сферах», кто-то (Сталин, Орджоникидзе) сказал Ворошилову: «Поговори, чтобы не запрещали, раз Горький хвалит, пьеса хороша», но эти слова, по мнению Булгакова, не более чем любезность по отношению к Горькому. Последнего окружили лестью, поклонением, выжали из него все (поддержку режима в прессе и т. п.) и потом попрощались. Горький не сумел добиться даже пустяка: возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ».
Гибель пьесы «Бег» потрясла Булгакова. Л.Е. Белозерская пишет: «Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник». Не смог ожить на сцене светлый, лирический мир снов, сотворенный с таким трудом и любовью из человеческой трагедии и комедии. Потухла великая надежда. И что же? Автор снова сел за письменный стол и в сентябре—декабре 1929 года, то есть в год своего театрального уничтожения, создал новую пьесу о театре и драматурге: «В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 г. я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из моих пяти пьес». И предложил эту пьесу МХАТу.
Выбор героя точен и значителен. Мольера Булгаков любил, для него это был не просто великий драматург-сатирик и родственная душа человека насмешливого и ранимого. Это и великий театр, это прекрасная Франция, ее великая культура, это «призрачный и сказочный» Париж, «мой недостижимый город», как называл его автор «Дней Турбиных», так и не увидевший тогдашних постановок своих пьес на парижской сцене. Даже отзвуки мушкетерских романов Дюма слышны в «Кабале святош». «Побывать в Париже было всегда вожделенной мечтой писателя Булгакова, поклонника и знатока Мольера», — говорила Л.Е. Белозерская.
Сама пьеса о Мольере написана в традициях великого драматурга, с блистательным знанием сцены и виртуозным литературным мастерством. В рецензии для Политбюро Керженцев именно это и отметил: «Это ловко скроенная пьеса в духе Дюма или Скриба, с эффектными театральными сценами, концовками, дуэлями, изменами, закулисными эпизодами, исповедями в католических храмах, заседаниями в подземелье членов «кабалы» в черных масках и т. п.». Да, театр Булгакова растет из театра Мольера, учитывая историческую дистанцию и динамику мировой драматургии. И получается высокая комедия о трагедии гения и человека.
Здесь, как всегда, сошлось множество любопытных случайностей. В 1922 году праздновалось трехсотлетие со дня рождения Мольера. Вышло много книг во Франции и России; в Париже даже поставили посвященное великому драматургу ревю, где танцевала будущая жена Булгакова Л.Е. Белозерская. Она-то и переводила в 1929 году биографии Мольера для мужа, который и сам, впрочем, знал французский язык и изучал все написанное о драматурге у него на родине и в России. Булгакова окружали тогда знатоки французской литературы, и прежде всего друг Н. Лямин, ему помогала и отлично владевшая языком Е.С. Шиловская. Так что материала хватало. Но, как сам автор признавался, кроме «работы в книгохранилище» смело действовала его творческая фантазия. Нужна была идея, и к ней привели трагические жизненные обстоятельства. Так начиналась булгаковская «мольериана».
«Бывший драматург» (так он подписал одно из писем) Булгаков пишет пьесу о том Мольере, о котором Гете сказал: «Да, прямой человек, в нем не было ничего неискреннего, изломанного, при всем том такое величие. Он господствовал над нравами своего времени». И Гете был прав, ибо великий сатирик всегда выше нравов и заблуждений своей эпохи и потому так беспощадно и метко смеется над ними. Но ключевое слово здесь — «человек».
Отвечая Станиславскому, требовавшему показать на сцене гений Мольера и даже сыграть что-нибудь из «Тартюфа», Булгаков вежливо, но непреклонно ответил: «Я и стремлюсь, собственно, дать жизнь простого человека. Моя главная забота была о том, чтобы Мольер был живой». Гениальность драматурга должны были сыграть окружающие его персонажи. Отсюда и идея «романтической драмы» с сознательными «сдвигами» в биографии, служащими, по словам Булгакова, «драматургическому усилению и художественному украшению пьесы». Его Мольер простодушен, беззащитен, открыт всем соблазнам и ударам жизни. Этой-то обыденной драмы великого человека, так похожей на трагедию Пушкина, не захотели и не смогли понять и сыграть Станиславский и его театр: «Ведь автор нам ничего не дает положительного».
Нет, Булгаков дал им все, что потребно для сотворения театрального волшебства. Об этом сказал прочитавший «Кабалу святош» Горький: «О пьесе Булгакова «Мольер» я могу оказать, что, на мой взгляд, это очень хорошая и искусно сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал... Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней, Мольера, уставшего и от неурядиц его личной жизни, и от тяжести славы... Так же хорошо, смело и, я бы сказал, красиво дан Король-Солнце...»
Рецензия Горького точна в своих оценках и невольно выражает скрытые мысли (особенно в словах о короле, в заглавных буквах), но в ней с намеренным нажимом обозначена главная пара персонажей — Мольер и король Людовик. Ранимый творец и бесчеловечный золотой идол. Гений и угнетающая его деспотическая, чуждая всякому творчеству власть. Эту мысль великого пролетарского писателя исследователи булгаковского творчества давно усвоили и полюбили: достаточно прочитать книгу американки Э. Проффер «Булгаков. Жизнь и творчество» (Анн Арбор, 1984), чтобы еще раз услышать, что автор «Мольера», «Пушкина» и «Батума» интересовался тиранами и имел в лице Сталина своего Людовика и Николая I. Сразу же возникают соответствующие аллюзии и параллели. Но они уже намечены в 1936 году тем же Керженцевым, сообщившим в докладе на заседании Политбюро ЦК о тайных намерениях автора пьесы «Кабала святош»: «Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV».
В сталинскую эпоху такая идея считалась преступной, ныне она либеральная и выигрышная. Но осведомленный политик Горький не случайно назвал пьесу «Мольером». Здесь он волей-неволей следовал требованиям других, куда более опытных и трезвых знатоков политических кулис — руководящих чиновников Главреперткома, восставших против авторского названия — «Кабала святош». В «формальной» придирке скрывалось коварное и дальновидное иезуитство. «Реальные» политики умели читать между строк, сразу почуяли опасность темы («Писатель, власть и закулисная свора «святош») и хитро отвели ее с помощью отработанного аппаратного трюка.
Ведь так удавалось изменить смысл пьесы, замолчать ее третьего «героя» — тайное могущественное общество злобных фанатиков, травящее Мольера и заставляющее отступать самого Короля-Солнце. Это реальная, подлинная власть, всегда скрытая за кулисами парадной, самодовольной диктатуры. Знал эту силу, считался с ней осторожный реалист Сталин. Более того, он пытался от тайной черной власти отмежеваться и именно поэтому ответил ободряющим телефонным звонком на отчаянное письмо Булгакова в 1930 году. Вот как это выглядело в умело льстящем изображении безымянного информатора ОГПУ: «Он (Сталин. — В.С.) ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу». Сталин и Булгаков знали, что дело обстоит куда серьезнее и что одним щелчком тут не отделаешься.
Вот что сказано булгаковским Мольером в черновой редакции пьесы: «Все равно, как бы писатель ни унижался, как бы он ни подличал перед властью, все едино, она погубит его. Не унижайтесь! Я унижался и погиб! Ненавижу государственную власть!.. Он думает, что он всесилен, он думает, что он вечен! Какое заблуждение! Черная кабала за его спиной точит его подножие, душит и режет людей, и он никого не может защитить!» Жаль, что Сталин не прочитал эти вещие слова, он, быть может, вспомнил бы их, когда лежал, отравленный, на полу кунцевской дачи и из последних сил поднял руку, чтобы погрозить на прощание обступившим его убийцам и перетрусившим лакеям из того же Политбюро.
Но затем и было изменено название булгаковской пьесы, чтобы такие тревожные «звонки наверх» не доходили до адресата, и без того, впрочем, осведомленного о постоянной тайной опасности. Черная кабала умела изворачиваться, защищаться, всегда оставаться в тени, за кулисами политической жизни. Ее оружие — большая ложь, любимый аргумент — нет никакой кабалы! Где она? Что это такое? Но с кем же тогда десятилетиями велась тяжелейшая борьба?
На сцене оставалась описанная Горьким пара персонажей: писатель и тиран. Но замысел Булгакова был совсем иной: «Он хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленном черной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля». А эта идея не соответствует либеральной мысли о гении и его гонителе, скрывающей подлинную суть дела. Изменив название булгаковской пьесы, неожиданные защитники французских святош XVII столетия дали возможность совсем другого ее толкования и тем самым пьесу в конце концов погубили. Тут им много помог чуткий к руководящим «советам» Станиславский, «затерший» «Мольера» в многолетних репетициях и требовавший показать на сцене (?!) гений Мольера в полном соответствии с рецензией Керженцева.
Почему же Булгаков дал пьесе о Мольере название «Кабала святош» (то есть «тайное общество святош»), так ценил непонятую и несыгранную сцену в соборе, постоянно указывал актерам и режиссеру на очень серьезную фигуру умного и безжалостного епископа-фанатика? Представляется, что разгадку надо искать в самой эпохе.
Вся вторая половина 20-х годов полна закулисной и тем более изощренной, яростной борьбой за власть, ощущавшейся всеми и всюду. Сталин вовсе не так легко «взошел на трон», как это представлено в некоторых новейших исторических сочинениях. Лишь к 1929 году ему удалось покончить со своим вечным врагом Троцким и одержать верх в иезуитских аппаратных играх. Но главные его противники и их многочисленные ставленники в правительстве, партии и литературе уцелели, отчасти сохранили влияние, действовали, опрометчиво вынуждали памятливого и самолюбивого Сталина на временные уступки; борьба продолжалась и завершилась лишь «ежовщиной» и пресловутыми публичными «процессами» конца 30-х годов. В дикой кровавой бойне ощутима страшная логика: всем все припомнили.
Заглянув в длинный список жертв репрессий, мы обнаружим почти всех гонителей Михаила Булгакова — от Л. Каменева до Л. Авербаха. Расстрелян «очень мрачный человек с малюсенькими, коротко подстриженными под носом усиками и тяжелыми глазами» (портрет Генриха Ягоды в черновой редакции «Мастера и Маргариты»), родственник Авербаха и покровитель В. Киршона, с привычным чекистским садизмом обманувший Булгакова, поманив его желанной поездкой в Париж и затем отказав в последний момент в заграничном паспорте. И до беглого Ф. Раскольникова дотянулась эта бестрепетная рука. Уцелели, дорого заплатив за жизнь и предав всех прежних «друзей», лишь О. Литовский, Я. Эльсберг и Вс. Вишневский. В дневнике Е.С. Булгаковой появилась полная скрытого торжества запись: «Да, пришло возмездие». Несчастную женщину можно понять, но для черной кабалы судьба отдельного ее «брата» не значит ничего. Как сказал Пилату очень мрачный Каифа, сразу понявший, что его агента Иуду убьют: «Другого наймем». Впрочем, и эта фраза осталась в булгаковских черновиках.
Сравнив списки высокопоставленных жертв «большого террора» с составленным Булгаковым альбомом ругательно-доносительных статей и рецензий о нем, мы определим, пусть и не совсем полно и точно, состав «черной кабалы», два десятилетия травившей автора «Дней Турбиных» в печати и за кулисами жизни и литературы, постоянно взывавшей к верховной власти с откровенными письменными (донос вроде письма Билля-Белоцерковского Сталину) и устными (навет) просьбами его уничтожить.
Не надо здесь все сводить к глубоким личным обидам привыкшего к грубой лести «писателя» Раскольникова, чью дубоватую пьесу о французской революции Булгаков высмеял публично в присутствии побагровевшего автора, или другого чиновного «драматурга», О. Литовского, об очередном опусе которого автор «Дней Турбиных» сказал на заседании Главреперткома: «Если это комедия, то крематорий — это кафешантан». Ненавидели и мстили, конечно же, но оскорбленным самолюбием всего не объяснишь. Хотели уничтожить не только остроумного и правдивого человека с блистательным талантом и злым языком, но и само явление, честную настоящую литературу, независимую творческую мысль, проникающую в мрачные и тайные глубины текущей истории. Но что-то им все время мешало, и эта бессильная ярость политических дельцов, у которых руки коротки уничтожить ненавистного врага, описана в «Мастере и Маргарите».
Уже само постоянное обращение влиятельных врагов писателя «наверх» показывает, что между черной кабалой и верховной властью существовал изрядный «зазор», некая опасливая дистанция, говорящая о давнем и органичном взаимном недоверии. Позиция же власти Булгаковым тоже определена четко — «полное попустительство» его гонителям, но было оно таковым до определенных пределов, раздражавших власть, стремившуюся к беспредельному господству над миром и людьми. «А объем моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как все на свете!» — злобно выкрикивает Понтий Пилат, обращаясь к обреченному Иешуа в черновой редакции «Мастера и Маргариты». Знал эту малоприятную истину и практический политик Сталин.
Когда говорят о безграничной власти Сталина, проявляют полное непонимание природы власти как таковой и данной исторической ситуации. О власти прекрасно сказал долго живший в России дипломат и философ Жозеф де Местр: «Ничем нельзя исправить странную привычку большинства обыкновенных людей судить о могуществе государей по тому, что они могут делать, тогда как его нужно оценивать по тому, что они не могут делать». Именно с такой точки зрения надо взглянуть повнимательнее на булгаковского короля Людовика XIV, чья роль в пьесе «Кабала святош» — великолепное воплощение бесчеловечной диалектики власти, считающей себя безграничной, абсолютной и в то же время вынужденной считаться с волей других людей и давлением исторических обстоятельств. Король то защищает Мольера, то предает своего драматурга, бросает на растерзание врагам. Поведение не очень достойное, не соответствующее знаменитой формуле: «Государство — это Я». Получается, что государство — это «ОНИ».
Мысль об исторической слепоте и ограниченности любой власти развита потом в «Мастере и Маргарите». Всесильный прокуратор Понтий Пилат не может спасти даже безвестного бродягу, ибо тогда рухнула бы вся пирамида безнравственной власти, не верящей в добрых людей. Нельзя создать и особую литературу для Мастера, ведь иначе пришлось бы назвать все своими именами, выгнать всех ловких тертых берлиозов, латунских и лавровичей, разогнать Массолит, отдать подлинным талантам издательства, журналы и газеты, Дом Грибоедова, привилегированные квартиры и дачи Перелыгино, закрыть Торгсины — и т. д. и т. п. Принцип домино... Во всех этих образах видно глубокое знание и понимание природы власти и реальной политики, от которых всегда зависела судьба Булгакова.
Недавно опубликованы выдержки из стенограммы беседы Сталина в феврале 1929 года с группой украинских писателей. Имен их, к сожалению, публикатор почему-то не назвал, но сообщил, что встречу организовал великий мастер интриги Л.М. Каганович. Да, здесь чувствовалась рука умелого режиссера. «Посланцы Украины», обнаружив трогательное единодушие с москвичами Киршоном и Биллем-Белоцерковским, вдруг потребовали убрать из репертуара МХАТа пьесу своего земляка Булгакова «Дни Турбиных». Сталин им сначала миролюбиво поддакивал, назвав «этого самого всем известного» Булгакова «безусловно, чужим человеком» «едва ли... советского образа мысли», хотя и заметил со значением, что драматург принес «все-таки пользу, безусловно». Но когда назойливые гости, не расслышав этой интонации, стали донимать хозяина своими требованиями (вспомните быстрый и жесткий ответ изумленного Людовика на требования отца Варфоломея в «Кабале святош»), Сталин вышел из себя и раздраженно прервал их: «Насчет «Дней Турбиных» я ведь сказал, что это антисоветская штука и Булгаков не наш». То есть: что вам еще надо?! И чуть ли не в тот же вечер пошел еще раз смотреть эту «антисоветскую штуку».
Отчаянный нажим продолжался. В «Правде» появилась разгромная статья все того же Керженцева. И тут Сталину пришло обиженное письмо наркома А. Луначарского. Он напомнил вождю, что по предложению Главреперткома коллегия его комиссариата уже запретила «Дни Турбиных»: «Но Вы, Иосиф Виссарионович, лично позвонили мне, предложив снять это запрещение, и даже сделали мне (правда, в мягкой форме) упрек, сказав, что НКПрос должен был предварительно справиться у Политбюро». Как видим, Сталин умело защищал пьесу Булгакова и даже на шумной встрече с украинскими писателями спокойно заметил: «Она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов». И через голову своих настырных посетителей ответил Луначарскому и его друзьям: «Я не считаю Главрепертком центром художественного творчества».
И все же после дружного и мощного нажима ловких демагогов и влиятельных политиканов (среди них не случайно оказался певец и будущая жертва Сталина Карл Радек, задетый в «Роковых яйцах») пьесу «Дни Турбиных» через месяц запретили, с нею погибли другие спектакли и замыслы драматурга. А директивные слова «Булгаков не наш» ему пришлось выслушивать до конца своих дней. Похоже все это было на временный компромисс в долгой жестокой борьбе у трона, на умелую «жертву фигуры», причем сама «фигура» таинственным образом уцелела, ее не сбросили с шахматной доски в черный ящик.
«Черная кабала» очередной бой выиграла, а Булгаков, отлежавшись после тяжелого нервного потрясения, стал писать пьесу «Кабала святош». Борьба вокруг драматурга продолжилась, чаша весов судьбы замерла на месте и затем медленно пошла вверх: звонок Сталина Булгакову, работа в МХАТе, разрешение пьесы «Кабала святош» и возвращение на сцену «Дней Турбиных». Позиции и намерения сторон определились, и дело было за властью, ее ход был следующим. Но противники сделали все, чтобы оттянуть неизбежный роковой финал игры, и с этой целью прибегали к тем же уловкам, что и кот Бегемот в шахматном поединке с Воландом. То есть нарушали все правила, лгали и изворачивались.
Теперь понятно, почему автор пьесы о Мольере так протестовал, когда в ней усматривали автобиографичность. Изящная и веселая комедия о театре XVII века постепенно перерастала в весьма современно звучавшую лирическую трагедию, точно описавшую историческую расстановку разных сил, столкнувшихся в непримиримой и циничной борьбе за власть и по дороге оклеветавших и растоптавших драматурга и его пьесы. Пьеса Булгакова о Мольере больше, чем автобиография, это трезвое свидетельство очевидца, облеченное в драматическую форму и предназначенное для сцены и зрителей. А среди зрителей были пока все «прототипы» действующих лиц. Поэтому вокруг «Кабалы святош» медленно затянулся запутанный узел тайной войны, тревожно ощущавшийся автором и театром. Обычно трусоватые чиновники и «братья»-писатели шли на все, чтобы «открытое письмо» Булгакова не дошло до адресата. Чаша весов опять качнулась вниз, и все рухнуло.
А в заключение этой не проясненной до конца истории напомним два отзыва.
Первый взят из использованной Булгаковым старой книги Гримаре о Мольере. Король Людовик XIV спросил знаменитого критика Буало, кто величайший писатель, прославивший его царствование. Тот сразу ответил: «Мольер». — «Я этого не думал, — сказал король, — но в этом вы понимаете лучше меня». Вот откуда безукоризненная и бесчеловечная вежливость булгаковского «золотого идола» Людовика.
Второй отзыв сохранился в передаче Вишневского и записи О.С. Бокшанской, свояченицы Булгакова и секретарши Немировича-Данченко. Это слова Сталина: «Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать». В пьесе о Мольере Булгаков в лицах изобразил все приемы этой бесчеловечной и иезуитской «педагогики», дал ей точную художественную и историческую оценку. Когда он писал грустную историю о медленном уничтожении драматурга, то не знал еще, что она не закончилась и что его предали и лишили всего лишь на время. Пьесу о Мольере разрешили 3 октября 1931 года. Но поставили и сразу же запретили лишь в 1936-м. «Жизнь куда хитрее на выдумки самого хитрого выдумщика», — сказано в булгаковском фельетоне о Юрии Слезкине.
Стоит напомнить, какое воздействие все эти «игры» оказали на талант и здоровье драматурга Булгакова. В надгробном слове об авторе «Кабалы святош» завлит МХАТа П.А. Марков свидетельствовал: «Жизнь он воспринимал очень болезненно. Казалось, его нервы обнажены. Разговор с ним никогда не мог быть спокойным, и работа с ним никогда не могла быть спокойной». Но есть куда более красноречивые документы. Партийный чиновник А.И. Свидерский, «ведавший» искусством, 30 июля 1929 года писал А. Смирнову: «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом». Смирнов, в свою очередь, пишет Молотову о Булгакове: «Литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться. Нельзя пройти мимо неправильных действий ОГПУ по части отобрания у Булгакова его дневников. Надо предложить ОГПУ дневники вернуть». И их вернули, сняв, к счастью, копию, ибо оскорбленный вторжением в его мир автор рукопись тут же сжег.
Всю эту ведомственную переписку о медленно гибнущем великом писателе завершает его краткое письмо Сталину. Мы знаем обширные булгаковские послания Генеральному секретарю, но эта записка предельно выразительна в своем скупом на слова трагизме:
Генеральному секретарю ЦК ВКП (б)
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность.
Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая.
Средств к спасению у меня не имеется.
Уважающий Вас
Михаил Булгаков
5.V.1930
Воспоминания киевского режиссера В.А. Нелли-Влада о встрече с Булгаковым в 1934 году содержат медицински точные описания духовного облика вечно гонимого драматурга: «Все время он чего-то нервничает, беспокоен до крайности, плохо ест, мало разговаривает... Пошел дождь... началась гроза... ливень... Гость стал еще сильнее нервничать, ерзать на стуле, но окно закрывать не позволил». В новонайденном письме Сталину 1934 года Булгаков цитирует медицинское заключение: «Я действительно страдаю истощением нервной системы, связанным с болезнью одиночества». И в 1937 году этот загнанный человек пишет: «Безмерная усталость точит меня... средства спасения нет... ничего предпринять нельзя, все непоправимо». Однако и в роковом 1929 году Булгаков не отступил, секретные архивы с неожиданной полнотой и точностью отразили этапы его отчаянно смелой, открытой борьбы за свою жизнь в театре и литературе. Внутренне свободный человек и его самобытное творчество сопротивлялись беспощадному давлению «системы», ни во что не ставящей человеческую жизнь.
Тем не менее эта невозможная «моя жизнь в искусстве» продолжалась, и театр снова позвал драматурга Булгакова. Но какой ценой драматург этого добился! После запрещения в марте 1930 года «Кабалы святош» он обратился с отчаянно откровенным письмом к Правительству СССР, и вскоре последовал знаменитый телефонный разговор со Сталиным. Булгаков стал работать в Художественном театре, его всецело увлекла инсценировка «Мертвых душ» Гоголя. И снова удивительный поворот судьбы. «А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал», — пишет он В. Вересаеву 29 июня 1931 года. Красный театр заключил с Булгаковым договор на фантастическую пьесу «о будущей войне», «о времени настоящем или будущем». Эта же пьеса предложена вахтанговцам. Потому и сказано в письме Вересаеву: «Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла... Но какая тема дана, Викентий Викентьевич!»
Да, богатая и причудливая фантазия снова пригодилась, ибо Булгаков начал тогда, сам того не ведая, фантастическую трилогию, за «Адамом и Евой» последовали «Блаженство» и «Иван Васильевич». Великолепным введением, эту трилогию разъясняющим, были, как уже говорилось, повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Однако теперь фантазия Булгакова выявилась в драматической форме, в «Адаме и Еве» осмыслен новый исторический опыт, здесь действуют другие люди и возникают иные мысли.
Пьеса писалась быстро. 22 августа 1931 года закончена ее первая рукописная редакция, а осенью автор уже читал готовую пьесу в Красном и Вахтанговском театрах. Оба театра «Адама и Еву» отвергли сразу же, даже не представляя текст в Главрепертком. Завлит Красного театра Е.М. Шереметьева, присутствовавшая на чтении, вспоминает: «Кажется, меньше всех был расстроен автор. Он объяснил это тем, что когда кончил писать, то ему самому показалось, что, пожалуй, его «Адам и Ева» не выйдут на сцену».
Это ясно сегодня любому читателю пьесы. И не в том дело, что по ходу действия под фашистскими бомбами гибнет Ленинград. Этот пророческий рассказ напугал лишь командующего ВВС страны Я.И. Алксниса, слушавшего авторскую читку в Вахтанговском театре. «Адам и Ева» — не просто фантастическая пьеса о будущей войне. Она пронизана современностью и говорит о стремительном нарастании в 30-е годы ненависти, злобы и разобщения между людьми и народами. Человека в обоих лагерях окончательно вытеснили массы. Характеры и идеи упростились, спокойное объективное размышление заменилось «героическим энтузиазмом», эмоциями и лозунгами. Да, капитализм и социализм ненавидят друг друга и идут к неизбежному столкновению, причем свою роль играет уже в «Багровом острове» упомянутый крепнущий фашизм: «Под котлом пламя, по воде ходят пузырьки, какой же, какой слепец будет думать, что она не закипит?»
Но продолжается другая война — гражданская. «Война... будет потому, что в трамвае мне каждый день говорят: «Ишь, шляпу надел!» — предсказывает академик Ефросимов. И чтобы все войны прекратились, хочет отдать свое изобретение всем странам сразу. Тема ответственности ученого и науки перед человеком, природой и историей, тема «Собачьего сердца» здесь продолжается, как бы предвидя создание ядерной бомбы и межконтинентальных ракет. Конечно, Булгаков многое узнал от преподававшего в военно-воздушной академии Б.М. Земского и из западной прессы, но предвосхитил он гораздо большее. Ожидание химической войны приводило тогда к массовому психозу, и в «Мастере и Маргарите» появляется на секунду обезумевший от страха человек, напяливающий бесполезный противогаз. А в конце романа есть пророческий сон Иванушки о наваливающейся на землю страшной туче, предвестнице мировой катастрофы.
В «Адаме и Еве» интересно продолжается тема человеческой ослепленности, и не случайно теряет зрение Дараган, этот сталинский сокол, железный аскет и фанатик, легко пускающий в дело маузер и убийственные обвинительные словечки типа «чужой человек» и «ефросимовское дело». Под стать ему инженер Адам, стальной «фантазер в жандармском мундире», очень легко распоряжавшийся «человеческим материалом». Он не видит людей и не любит жизни. Его жена Ева отвечает ему: «А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей, а больше всего одного человека». Понятно, как будет воспринят этот «абстрактный гуманизм».
Само название «Адам и Ева» и цитаты взяты из Библии, и чтение «вечной книги» в пьесе напоминает о ценностях вечных и преходящих. Человек, добро, знание, культура — это вечно. Ненависть, ослепленность, «идеи», порождающие смерть и войны, — античеловечны и преходящи. А «вечный старец» на всесильной зеленой долларовой бумажке, столь любимый литератором Пончиком-Непобедой, несет в себе оценку лакейской, неискренней литературы, состоявшей из романов типа «Красные Зеленя» и 10 ноября 1930.года демонстрировавшей свои «достижения» в московском Доме писателя на выставке «Писатель и колхозы». Ее легко можно купить за «вечные» доллары, что позднее и подтвердилось.
Как всегда у Булгакова, научная фантастика служит созданию «пограничной ситуации», внезапной всеобщей катастрофы, заставляющей людей действовать, сталкиваться и выявлять свои истинные мысли и чувства. «Адам и Ева» — грандиозная картина мировой катастрофы, очень похожая на сегодняшние стандартные американские кинофильмы о ядерной войне и прочих геологических и космических катаклизмах. Но она, конечно, несравненно глубже, умнее и художественнее, ибо главное для автора не быстро устаревающая научно-техническая выдумка, а живые люди, движение их души, их ослепленность и прозрение.
Тема темой, идеи идеями. И все же булгаковские характеры сами по себе хороши. Вспомним хотя бы пришедшего из ранней прозы Захара Маркизова, задиристого, малограмотного и пьющего «человека из народа», которого ловко натравили на высоколобого интеллигента Афросимова. Ведь Захар меняется, медленно умнеет, начинает читать «вечную книгу», по-своему ее толкуя, и даже сам пишет косноязычный дневник-роман. А Ева — один из лучших женских характеров у Булгакова: страстная, мечтательная, капризно-требовательная, посреди мировой катастрофы занятая только своей любовью. Такие портреты всегда интересны, появляются вовремя, играют свою роль, точны и убедительны в мельчайших деталях: вспомните хотя бы письмо жены профессора Персикова, убежавшей с оперным тенором. Автор пьесы до тонкостей знал психологию женщин, предпочитал беседовать с ними, а не с мужчинами. Поэтому женские характеры у него всегда хороши и обладают любопытной «драматургией». В 1984 году на булгаковском симпозиуме в итальянском городке Гарньяно дель Гарда канадский профессор А. Колин Райт прочитал доклад «Роль женщин в поэтике Булгакова». Так вот Ева еще раз доказывает, что роль эта весьма важна и велика.
В 1929 году Булгаков задумал сатирическую комедию о полете в будущее его современников. Но лишь в 1933 году он начал писать ее для И.О. Дунаевского, обещав Ленинградскому эстрадному театру «Мюзик-холл» «эксцентрическую синтетическую» пьесу как основу для музыкальной комедии. Оперетка о полете в светлое будущее! В 20-е годы это было можно и звучало забавно. Но, как уже говорилось, наступили иные времена.
В «Блаженстве», как и в «Адаме и Еве», серьезного и печального больше, нежели прежнего веселья. Похоже, что автор прочел антиутопию своего друга Е. Замятина «Мы». Светлое будущее показано обществом без проблем, но вместе с проблемами ушли жизнь, борьба, душа, полная непосредственность ощущений. Здесь даже женщины присмирели, и их страсти строго регулируются мифическим Институтом Гармонии4. Реальной властью в этом холодноватом и скучном раю обладает Радаманов, чья звучная фамилия происходит от имени страшного и строгого Радаманта, неподкупного судьи в царстве мертвых. А на смену ему идет еще больший догматик и деспот Саввич. И не случайно этих людей так боится гордая дочь Радаманова Аврора, жаждущая «неправильностей», неожиданностей, приключений и обычной, не утверждаемой Институтом Гармонии любви, то есть живой жизни.
Появление в «Блаженстве» очень несовершенных, но живых людей из «Зойкиной квартиры» (Жорж Милославский — Аметистов, Бунша — Портупея и неизбежная милиция в финале) породило целый каскад остроумнейших выдумок и стало прекрасным дополнением к сатирам 20-х годов и «Мастеру и Маргарите», показав путешествие в будущее ловкого жулика-демагога и глуповатого бюрократа, доносчика и дурака.
Тут произошел чисто булгаковский парадокс: реальные люди из народа Милославский и Бунша принесли с собой малосимпатичный багаж (авантюризм, воровство, пьянство, бескультурье, страх, склонность к доносам и политическим обвинениям и прочие «родимые пятна»), но породили у скучающих людей будущего естественные эмоции и мысли, произвели в геометрически правильном, застывшем раю живую веселую кутерьму. А беззащитный инженер Рейн, оказавшийся в почетном плену, так же беззаветно, по-донкихотски отстаивает свою свободу мыслителя-ученого и свою любовь, как и профессор Афросимов в «Адаме и Еве». Так начинается движение, без которого мысль и пьеса невозможны.
И все же в этой сатирической комедии мало блаженства и много печали. Характеры Рейна, Радаманова, Саввича и Авроры для комедии слишком сложны и серьезны, есть в «Блаженстве», как и в «Роковых яйцах», грустное предвидение будущих великих испытаний, причем не только военных.
В Театре сатиры, куда Булгаков отдал комедию, она в таком виде идти никак не могла. Отказался от нее и ленинградский Красный театр. Мало было убрать следы либретто для музыкальной феерии, что и делал автор с января до апреля 1934 года. 25 апреля он прочитал «Блаженство» труппе театра: «Очень понравился всем первый акт и последний. Но сцены в «Блаженстве» не приняли никакой. Все единодушно влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил». И в другом письме: «А поправлять все равно, что новую пьесу писать».
И все же к концу 1934 года написать ее пришлось. И жалеть нам об этом не приходится, ибо родился «Иван Васильевич», одна из лучших наших комедий. Пьеса была закончена, прочитана с «бешеным успехом» друзьям и сдана в Театр сатиры в октябре 1935 года, какие-то ее варианты писались позднее. Никакого «Блаженства» в «Иване Васильевиче» уже не было. Перед настоящим и прошлым будущее отступило.
У «Блаженства» и «Ивана Васильевича» есть одна общая тема — настоящее. И здесь научная фантастика, очень забавно перелицованная и спародированная, сделала социальную сатиру более глубокой и более прозрачной. Булгаковский Иван Грозный — одна из самых выигрышных, богатых по своей драматургии ролей комедийного репертуара. Царя и людей той эпохи автор увидел совсем иными, нежели А.Н. Толстой. Как ни странно, в комедии Булгакова изображения Грозного, его двора и опричников более реалистичны и историчны, чем иконописные образы Толстого — Эйзенштейна. Столкновение очень серьезного, простодушного и жестокого прошлого с сатирой на настоящее в духе «Зойкиной квартиры» дало замечательный эффект подлинно сценического юмора, породило эксцентрическую комедию характеров и положений, к которой не раз потом обращались режиссеры театра и кино. Драматург опять пошел навстречу театру и зрителю.
«Ивана Васильевича» отличают сюжетная теснота, сжатость, единый темп, блестящий диалог, глубина и меткость сатиры, мастерское сцепление комических ситуаций. Будущее всему этому мешало, сбивало ритм, требовало иного стиля, размывало самый жанр. Исчезало непосредственное веселье. Лишившись этой помехи, комедия Булгакова стала цельной и очень сценичной, в ней появился единый тип юмористической условности, прежняя серьезность и грусть ушли. Читавшие пьесу находили ее слишком остроумной.
Действие «Ивана Васильевича» уже не космично, а камерно и реалистично, сконцентрировано на узком пространстве сцены, где нет колоссальных хрустальных дворцов и заполненных народом площадей. Все происходит в трех замкнутых пространствах — комнате Шпака, комнате изобретателя Тимофеева и в палатах Ивана Грозного. Автор безукоризненно владеет техникой легкого комедийного жанра. Умело мотивированная и в то же время откровенно несерьезная фантастика разрушает стены между несовместимыми мирами, стягивает художественное пространство и время во внутреннем мире сцены, и зритель искренне и безудержно веселится и в то же время обретает уникальную точку зрения на происходящее.
Блеск авторского юмора и фантазии показывает, что, работая над «Иваном Васильевичем», Булгаков забывал все свои несчастья и обиды. Комедия его — островок чистого веселья, не отягощенного предчувствиями и сомнениями. Мы порой несправедливы к художнику, требуя какой-то «сверхзадачи», подводных частей айсберга и т. п. Но разве так уж плохо написать великолепную, ни в чем не устаревшую комедию, удивительно светлую и живую сатиру, которая хороша сама по себе?
Между тем Булгакову жилось по-прежнему трудно и невесело. Не ладилась работа над киносценариями по Гоголю. Все тянулась тягостная история с постановкой и правкой «Мольера» и лишь в 1936 году закончилась запрещением и снятием пьесы после удачной премьеры. Это, кстати, погубило и «Ивана Васильевича». И тем не менее драматург написал эту веселую комедию и одновременно задумал в августе и начал в октябре 1934 года вместе с В.В. Вересаевым работу над пьесой «Александр Пушкин».
Совсем другая идея, совсем другая цель. Парадоксальная, всех увлекшая и встревожившая драма о Пушкине без Пушкина, неожиданное возрождение «мольеровской» темы «Писатель и власть». Понимая всю важность «юбилейной» темы и силу автора, энергичный и жаждущий успеха в преддверии пушкинского юбилея А.Н. Толстой попытался «влезть» в работу над пьесой и вытеснить старика Вересаева, предвкушая очередные правительственные награды и поощрения. Булгаков эту не очень красивую попытку резко отверг, потом расстался и с Вересаевым («Вы сочиняете — не пьесу») и в сентябре 1935 года отдал своего «Пушкина» тем же вахтанговцам и Красному театру. Катастрофа с «Мольером» уничтожила и этот спектакль, готовившийся к юбилейному «пушкинскому» 1937 году, причем вмешательство МХАТа, вырвавшего пьесу у вахтанговцев, еще больше осложнило положение Булгакова. Такова внешняя канва событий, имевших свои серьезные и сложные причины и особый смысл.
Между тем «Пушкин» Булгакова слишком важен и самоценен, чтобы быть заслоненным другими пьесами и «Мастером и Маргаритой». Чтобы лучше эту драму о поэте и ее место в круге идей автора понять, надо вернуться к ее творческой истории.
К первостепенно важным для нашей литературной пушкинистики документам принадлежит переписка Булгакова и Вересаева, автора известной книги «Пушкин в жизни». В переписке этой запечатлены разные этапы их работы над пьесой о поэте. И именно Булгаков, всегдашний поклонник поэта и автор пьесы о нем, сразу указал на суть дела, на причину постоянных своих споров с Вересаевым: «Вся беда в том, что пушкиноведение, как я горько убедился, не есть точная наука». Понятно, что, прочитав это, Вересаев глубоко обиделся, огорчены этой острой и, увы, справедливой репликой и лучшие наши пушкинисты, чьи труды почтенны, полезны и незаменимы для писателей, о чем говорил Булгаков автору книги «Пушкин в жизни».
Дело, понятно, не в чьих-то обидах, а в том, что Булгаков этим парадоксом и самой своей пьесой о поэте показал всем, что наша писательская пушкиниана стремится восполнить на свой лад, то есть художественно, явную недостаточность академического пушкиноведения. Ведь собрав воедино известные им факты, ученые неизбежно убеждаются в том, что факты эти неполны и к тому же часто противоречат друг другу. Образ Пушкина, здесь отразившийся, искажен и двойствен. Отсюда множество взаимных обвинений, неудовольствий и сердитых поправок, этих «заметок крохобора» о пользе точности в пушкиноведении.
Неудивительно, что писательский «мой Пушкин» неизбежно возникает там, где нет Пушкина полного и подлинно научного и где факты творчества и биографии поэта по тем или иным соображениям замалчиваются или же трактуются с очевидной субъективностью. Ибо наука до сих пор не обладает полным знанием, истиной объективной, мы до сих пор не имеем полного «академического» собрания сочинений поэта, а лучшие его произведения (см. «Воспоминание» и «Полководец») печатаются неполно и неисправно, чему неизменно находятся «научные» объяснения. Пушкинистам, так любящим поделом ругать малограмотных литераторов и их очевидные неточности с помощью сердитых слов типа «это ненаучно и неисторично», стоит перечитать переписку Булгакова и Вересаева. Ибо здесь, как и в самой булгаковской пьесе «Пушкин», обозначена грань между отдельным реальным фактом биографии писателя и живым и целостным образом Пушкина в художественном произведении.
М. Булгаков. Шарж Кукрыниксов. 1929 г.
Наверно, сегодняшние ученые найдут, что поправить в булгаковской пьесе о Пушкине, добавят свое к давним замечаниям Вересаева, благо дуэльная история разрабатывалась в последние десятилетия с особенным вниманием. Именно по этому пути шел и Вересаев, требуя от автора «Пушкина» «исторической правды» и «усиления ее общественного фона». С этой целью им правились и выбрасывались живые булгаковские диалоги и решительно вписывались в пьесу прямые цитаты из собственной книги «Пушкин в жизни».
Но было бы неверно видеть в этом споре Вересаева как защитника исторической правды, а Булгакова представлять своевольным исказителем фактов и самого образа великого поэта. Нет нужды доказывать, что драматург почитал своего отсутствующего на сцене героя, видел в Пушкине ценность абсолютную, вершину русской литературы и здесь принципиально расходился с ученым романистом Ю.Н. Тыняновым5.
Важно напомнить о другом: пьеса Булгакова написана с давней великой любовью к Пушкину, причем автор пьесы постоянно соизмеряет судьбу свою и поэта, видя при этом всю их несоизмеримость. В одном булгаковском письме об очередной литературной неудаче есть горькая шутка: «Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжелую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине. Меняется оружие!»
Драматург не только любит, но и знает и глубоко понимает Пушкина. Обширные подготовительные материалы к «Пушкину» об этом свидетельствуют. Работая над пьесой, автор добивается исторической точности, но на свой лад, отстаивая в спорах с Вересаевым право фантазировать, по-своему понимать факты, следовать поэтической правде истории и законам сцены и создавать живые образы с присущей им речью. Когда оппонент его «как пушкинист» выступил против булгаковской трактовки Дантеса, ему было отвечено: «Вся беда в том, что пушкинисты (и это я берусь доказывать) никакого образа Дантеса в своем распоряжении не имеют и ничего о нем не знают. О нем нет данных ни у кого. Самим надо выдумать Дантеса».
Этим драматург и занимается, но он «выдумывает» своего Дантеса, опираясь на сводку всех доступных тогда пушкиноведению материалов. В. Вересаев считал Дантеса дегенератом и ничтожеством. Булгаков честно сказал ему: «Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика... Дело идет о жизни Пушкина в этой пьесе. Если ему дать несерьезных партнеров, это Пушкина унизит». Его Дантес — человек дюжинный, но очень неглупый, полный смятения и сомнений, прекрасно понимающий свою сложную роль соблазнителя и убийцы, чувствующий страшное давление таинственных могучих сил, затеявших эту гибельную игру.
Совершается продуманный отбор необходимых персонажу черт и деталей (этот же принцип ощутим и в вычеркивании целой сцены с А.К. Воронцовой-Дашковой). Булгаковская «выдумка» — живая и художественная, очень серьезный научный «подтекст» в ней есть, но он спрятан в глубине образа Дантеса, не противореча логике его сценического поведения.
То же можно сказать и о великолепном жандармском генерале Дубельте, всемогущем умном цинике, чем-то напоминающем булгаковского Воланда и неизменно выплачивающем своим агентам разного ранга и сословий одну евангельскую ставку — тридцать сребренников Иуды. Хорош и маленький трогательный часовщик-шпион Битков, ставший вдруг восторженным почитателем своего поднадзорного и бескорыстным знатоком его бессмертной поэзии. Таких дубельтов и битковых Булгаков видел вокруг себя, понимая, что в русской жизни и русском человеке ничего за эти тяжелые сто лет не изменилось.
Все эти разные живые образы «выдуманы», то есть творчески созданы Булгаковым на основе известных тогда науке фактов и документов, и объединяет их не только логика сценического действия, но и сам Пушкин. Его, как известно, в пьесе нет, но на самом деле постоянный «эффект присутствия» поэта в «Последних днях» ощутим сильнее, нежели в иных биографических толстенных романах. Все действие вращается вокруг отсутствующего поэта, все действующие лица и их реплики обращены к нему, все время рождаются в пьесе пушкинские лейтмотивы.
Здесь существует любопытный документ — недавно найденное письмо Б.Л. Пастернака, с интересом следившего за работой Булгакова и Вересаева над «образом» отсутствующего Пушкина: «По их замыслу он все время должен чувствоваться где-то рядом, в соседней комнате или же только что ушедшим со сцены, или с минуты на минуту на ней ожидающимся. Потому что в нашем ощущенье он из человека (оставаясь в нашем чувствованье страшно именно человеком) давно стал мифом или каким-то идеальным началом». Этого «величайшего поэта отечества» (Булгаков о Пушкине) «играют» все, и прежде всего сам драматург, весь материал обращающий к Пушкину.
Образу Пушкина в булгаковской пьесе предшествует и помогает его поэзия, пришедшая из «Дней Турбиных» гениальная строка «Буря мглою...» С метели все начинается и все кончается ею. Стихи чаруют даже жандармов и возрождают падшую душу несчастного соглядатая Биткова.
Пушкин, с «государственной» точки зрения, всего лишь жалкий камер-юнкер и ничтожный «писака», но вот рождается волшебная строка «Буря мглою...», и всему скрипучему и сложному организму власти, начиная с императора и кончая мелким шпионом, приходится к этим словам тревожно и недоуменно прислушиваться (непонятная, но сила!) и автором их заниматься даже после его смерти, бросив все другие «государственные» дела. «Я и то опасаюсь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствие не настанет», — пророчествует Битков. Спокойствия нет и сегодня, после грандиозного двухсотлетнего юбилея. Это победа Пушкина, купленная неслыханно дорогой ценой, ценой самопожертвования, о чем хорошо сказано в статьях Платонова о поэте.
Булгаков пишет пьесу о трагедии последних дней поэта. Повторяем, Пушкин, отсутствующий в списке действующих лиц, на самом деле присутствует в каждом эпизоде пьесы, все реплики и образы повернуты к нему. Это Пушкин страдающий, яростный и трагический, вышедший на последний и решительный бой. Дано его одиночество в роковом бою, обреченном на поражение. Но Булгаков задает себе и нам вопрос: за что же, собственно, сражается великий поэт? За жену, семью, честь дворянина и писателя, за оскорбленное достоинство русского человека, гордо презирающего все подлые хитросплетения долгой закулисной интриги? Да, да, все это так, но булгаковский Пушкин не просто «невольник чести». Все его поведение — это продуманное действие сильной, зрячей и, главное, свободной воли великого человека. Он все время заставляет своих невидимых могущественных врагов принимать его условия и не останавливается даже на пороге смерти.
Недаром в третьем действии булгаковской пьесы простодушный пушкинский камердинер Никита читает знаменитую строку «Давно, усталый раб, замыслил я побег» и недоуменно спрашивает: «Куда побег? Что это он замыслил?» Булгаков пишет пьесу о побеге великого человека в бессмертие. Ценой великой жертвы его Пушкин уважать себя заставил, заставил понять, пусть не всех и не до конца, свое назначение и смысл, в том числе и «государственный».
Совсем недавно у его журнала «Современник» едва набралось несколько сотен подписчиков, а после гибели поэта ждала «всенародная печаль» (слова Жуковского в пьесе), и Дубельт в четвертом действии, оглядывая из окна пушкинской квартиры собравшуюся толпу народа, дает точную справку на основе жандармских донесений: «Сегодня здесь перебывало сорок семь тысяч человек».
Это не просто толпа, это уже народ, лучшие его представители, там уже читают знаменитое лермонтовское стихотворение на смерть поэта и прямо говорят: «Гибель великого гражданина совершилась потому, что в стране неограниченная власть вручена недостойным лицам, кои обращаются с народом, как с невольниками...» Здесь звучит прямая цитата из пушкинского стихотворения «Андрей Шенье»: великий народ прощается со своим великим гражданином.
Иными словами говоря, в пьесе М. Булгакова, как и в «Ученике Лицея» А. Платонова, есть «мысль народная», хотя драматург понимает эту мысль иначе, нежели Платонов, и идет к ней своим путем, показывая подлинный смысл трагедии последних дней Пушкина. Образ поэта создается в булгаковской пьесе не вопреки, а благодаря историческим фактам, благодаря знанию эпохи и биографии поэта. Однако Булгаков понял и показал на сцене Пушкина не «по Вересаеву», без буквализма и ученого крохоборства, без ложного объективизма.
Для Булгакова Пушкин в жизни и Пушкин-творец неотделимы друг от друга, и потому его пьеса стала художественным исследованием жизни и творчества великого поэта и открыла в них то, мимо чего проходили составители многочисленных «хроник дуэльных дней». А это, в свою очередь, говорит о том, что автор пьесы видел в явлении Александра Сергеевича Пушкина великое, главное событие отечественной культуры, обязывающее всех русских писателей последующих эпох помнить об этом уникальном явлении и быть предельно строгими к себе и к другим. Это не «мой», а наш Пушкин, которого автор «Мастера и Маргариты» стремится объяснить правильно и полно не только себе, но и всем нам, вынося свои думы на высокую трибуну русской театральной сцены.
Несчастье с пьесой Булгакова потрясло: «А теперь без содрогания не могу слышать слово — Пушкин — и ежечасно кляну себя за то, что мне пришла злосчастная мысль писать пьесу о нем». И бывшему соавтору Вересаеву сказаны очередные горькие слова: «Я очень утомлен и размышляю. Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше его я не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет. Я имею опыт, слишком много испытал...»
Опять погибли все пьесы, за исключением поистине бессмертных «Дней Турбиных». Театры требовали вернуть авансы. Пришлось продать полного Шекспира в издании Брокгауза. Обиженный Булгаков порвал с МХАТом («Это кладбище моих пьес») и ушел в Большой театр писать и редактировать оперные либретто. Часть жизни канула в прошлое. Однако обратим внимание на слова из письма Вересаеву — «чистейшее донкихотство». Слова эти вещие. В 1937 году тот же таинственный В. Куза, столь много сделавший для появления на сцене «Зойкиной квартиры», предложил Булгакову инсценировать для вахтанговцев роман Сервантеса. Жарким летом 1938 года в Лебедяни и Москве была написана пьеса «Дон Кихот». Хозяйка лебедянского дома вспоминала, что Булгаков выглядел суровым и сумрачным. Его сосредоточенность понятна, ибо «пьеса была им решена в голове еще до Лебедяни» (Е.С. Булгакова). Таков метод драматурга.
Р. Симонов, сыгравший Дон Кихота, говорил потом, что в пьесе вахтанговцы сразу узнали не только рыцаря печального образа, но и «самого автора пьесы, который нес свою правду в жизнь». Булгаков написал лирическую трагедию о «тревожном счастье» рыцарского служения добру и высокой идее, столкнувшейся с железным веком и каменными сердцами, убивающими мечту. Он и себе, своим словам из письма к Вересаеву отвечал, когда подарил Дон Кихоту замечательную мысль: «Ведь ты будешь иметь дело с врагами, а для этого требуется мужество... Пойми, что бури... неразрывно связаны с нашим званием, и без них оно бы потеряло всякую прелесть».
Картина булгаковского «Дон Кихота», как всегда, составная и пестрая. Рецензент пьесы, великолепный знаток эпохи Возрождения и сам даровитый писатель, А.К. Дживилегов сразу понял главную мысль автора: «Он хотел сделать сценичную, динамическую пьесу, которую всякий будет смотреть не только не скучая, но с огромным, все возрастающим интересом». И Булгакову это удалось. В его пьесе помянуты дьявол и разбойник Варрава, персонажи «Мастера и Маргариты». В год «большого террора» и публичных «судебных» процессов Дон Кихот требует от верховного судьи не прибегать к произволу и быть милосердным к осужденному, искать истину: «Все может быть на суде». И замечателен второй герой пьесы, Санчо, народный мудрец и весельчак, так интересно противопоставивший возвышенной «испанской» речи своего хозяина-дворянина живое острое просторечие, близкое к русскому разговору 30-х годов. Булгаков любил этого персонажа: «Правлю Санчо, чтобы блестел». И роль действительно написана с блеском.
Глубокая грусть перемежается весельем и сатирой. Здесь снова происходит характерное для Булгакова соединение лирической трагедии и веселой комедии, которое так и не смогли до конца раскрыть ни вахтанговские мастера легкой «французской игры», ни Н. Черкасов и ленинградские актеры. «Дон Кихот» остался загадочным и непонятым, хотя в нем — завещание драматурга и тот же сложный, отраженный автобиографизм, что и в «Мастере и Маргарите». Ибо роман писался одновременно с пьесой, хотя перебивали работу случайные заработки вроде либретто балета «Калоши счастья» по Андерсену.
«Дон Кихот» еще раз доказал: пьесы Булгакова противятся обыкновенной хронологии, их трудно выводить одну из другой. Автор видел и писал все сразу, забывать об этом не стоит. Нельзя завершать разговор о драматурге и его театре рассказом о «Батуме», хотя формально это последняя булгаковская пьеса, ускорившая болезнь и смерть (см. свод биографических данных в книге А. Смелянского и альманахе «Современная драматургия», 1988, № 5).
Говорить о «Батуме» трудно не только потому, что главный герой пьесы — молодой Сталин. Назвав это заколдованное имя, далее уже спорят о нем, а не о пьесе. Эмоции туманят взоры ученых и писателей. Булгаков все это, конечно, предвидел и сказал писателю Л. Ленчу: «Вы же, наверное, успели уже узнать наши литературные нравы. Ведь наши товарищи обязательно станут говорить, что Булгаков пытался сподхалимничать перед Сталиным и у него ничего не вышло». Действительно, далее последовали всевозможные вариации этой оригинальной мысли. Они повторяются по сей день, невзирая на тут же приводящиеся факты.
Не собираясь вступать в этот спор, напомним: «Батум» задуман в начале 1936 года, то есть до катастрофы с «Мольером». Пьеса очень неровная, «рваная» (результат непрерывных переработок), в ней есть провалы и удачи. Автор явно увлечен характером юноши-революционера, но он показывает не только убежденность борца, но и удивительно цельный, полный колоссальной уверенности в себе, сильный и жесткий, беспощадный к себе и другим нрав. Какая-то первобытная гордыня кроется в булгаковском герое. Этот Сталин ни перед чем не останавливается и не знает сомнений, в достижении целей ему помогают семинарская риторика и казуистика, убедить же его или заставить изменить решение невозможно и опасно. Он всегда говорит то, что надо, и перед ним все пасуют. И не в том только дело, что этот человек все время побеждает презираемых им «слабаков» и интеллигентных хлюпиков. Булгаков показывает появление совсем другой психологии и морали, не считающейся с традиционными нормами и верованиями старой культуры. Следуя ей, Сталин вполне последователен, а его противников погубила именно интеллигентская непоследовательность и слепота.
У Булгакова, естественно, было мало подлинных документов, но нрав и ухватки генерального секретаря к середине 30-х годов стали видны невооруженным глазом, так что собирать архивные материалы, слухи и сплетни было необязательно. Художническая догадка тоже ведь чего-то стоит, да и опыт работы над Людовиком XIV пригодился. Драматург, много думавший о «кремлевском горце», просто попытался представить, каким этот человек был в молодости. Мнение Сталина о творческой «реконструкции» его характера известно по дневниковой записи Е.С. Булгаковой от 18 октября 1939 года: «Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». И эта «рецензия» персонажа чего-то стоит.
А вот две очевидные удачи в «Батуме» есть, и забывать о них за разговорами о Сталине не нужно. Это замечательные комические характеры губернатора и императора Николая II.
Царь, абсолютный владыка гигантской державы, не понимает, что в ней происходит, занимается чудесами, святыми, канарейкой, говорит смешными гоголевскими фразами («Среди тульских чиновников вообще попадаются исключительно талантливые люди»). Тень молодого Цоцо Джугашвили и ему подобных, встающая за «революционными» событиями, ему не видна, он наивно пытается устранить грозный призрак беды тремя годами ссылки в Сибирь. Это тоже смешно, но уже не комично. Подписав этот приговор, Николай II, его власть, его семья обречены, их гибель — вопрос времени. Наступает то, что историк Карамзин назвал «оцепенением власти».
Губернатор ближе к событиям и умнее, суждения и догадки его здравы, но и он вяловат и ничего не может поделать с историей. Опять возникает традиционная для Булгакова тема исторической слепоты. Пьеса живет сцеплением этих трех очень разных характеров. Встреча юного Сталина, царя Николая и губернатора неизбежно ведет к гибели империи, ибо ослепшая власть постепенно теряет силу, волю к жизни, ее поражает некий роковой паралич. Власть видит свою смерть и идет ей навстречу. Нечто подобное было с несчастным Павлом I, который знал о заговоре, но до конца не верил, что подданные поднимут руку на помазанника Божьего. Царь, губернатор и жандармы в «Батуме» беззащитны перед совершенно новым беспощадным характером, появившимся в нужном месте в нужный исторический момент и вооруженным гибкой и сильной политической идеей, не нуждающейся в традиционной морали.
Пьеса Булгакова как бы оборвана, но открытый «чеховский» финал все разъясняет. И мы догадываемся, что меланхолический император, любящий канареек и чудотворцев, вдруг оказавшись в марте 1917 года одиноким, беззащитным и беспомощным посреди своей колоссальной державы, пятнадцатимиллионной армии и могучего дворянства, вспомнил дело крестьянина Джугашвили и свой слепой приговор. Булгаков угадал железный и вместе с тем иезуитски-гибкий характер молодого революционера, и Сталин догадкой художника остался недоволен, она противоречила официальному мифу о добром кремлевском мудреце.
Булгаков взялся за столь опасную тему, потому что ощущал свою неразрывную связь с русской сценой. Он хотел, чтобы жил его театр: «Ничего не поделаешь со сценической кровью!» Потом Булгаков говорил о повествовательной и драматургической формах: «Тут нет разницы, обе формы связаны так же, как левая и правая рука пианиста». И в то же время понимал, что формы эти не всегда совпадают, ибо их порождают разные типы творческой мысли. Булгаков знал, что его прозу инсценировать нельзя. Потому и работал одновременно над прозой, пьесами, киносценариями и либретто. Пьесы его при жизни ставились во Франции, Польше, Чехословакии, Англии, Югославии, Латвии, Германии и США, а «Пушкин» и «Дон Кихот» вскоре после смерти автора появились на советской сцене.
Театр Булгакова живет, хотя Станиславский, Немирович-Данченко, А. Попов, А. Таиров и другие мастера не раз убеждались, как трудно воплотить эти пьесы на сцене. Замечено, что и нынешние режиссеры побаиваются этого театра, предпочитая ставить инсценировки булгаковской прозы, приспособленные к уровню их искусства. Но даже многочисленные неудачные постановки и откровенные спекуляции последних лет на имени Булгакова показывают, насколько даровит и влиятелен давно ушедший драматург, безжалостно раскрывают неблагополучное современное состояние нашего театра, в чем-то разъясняют нам и нас самих, жизнь сегодняшнюю. Булгаков оказался куда современнее и глубже многих ныне здравствующих благополучных авторов и оставил нам таких учеников, как Александр Вампилов. Сотворенное автором «Бега» театральное волшебство по-прежнему светит и греет.
Примечания
1. Напомним одно только чеховское высказывание: «Когда я бываю на репетициях, я испытываю одно страдание: Станиславский на моих же глазах безжалостно сокращает сцены». Потом это повторилось с Булгаковым.
2. История возобновления «Дней Турбиных» достаточно изучена. Приведем один лишь интересный новонайденный документ — дневник Ю. Слезкина, запись 21 февраля 1932 года: «В театральных кругах с определенностью говорят, что МХТ-I не хлопотал о возобновлении «Д<ней> Т<урбины>х». Установка одного из актов (лестница) была сожжена за ненадобностью. На просмотре «Страха» <А. Афиногенова> присутствовал хозяин <Сталин>. «Страх» ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: «Вот у вас хорошая пьеса «Дни Турбиных» — почему она не вдет?» Ему смущенно ответили, что она запрещена. «Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить. Ставьте...» И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить спектакль...»
3. Хитроумные способы борьбы власти с настоящими, работавшими без санкции партии и ГПУ коммерсантами описаны А.И. Солженицыным в «Архипелаге Гулаг», том первый, глава вторая. Теперь швейцарские банки открыли «спящие» счета тогдашних «новых русских», и стало ясно, сколько же их было уничтожено вместе с семьями, ибо за деньгами так никто и не пришел.
4. Впрочем, и здесь фантазия имеет реальную основу: Институт гармонического развития человека был создан психоаналитиком Г. Гурджиевым в Тифлисе в 1919 году. Об этом писалось в газетах, а Булгаков жил тогда на Кавказе.
5. См.: Сахаров В. Вечный спутник // Наш современник. 1987. № 11.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |