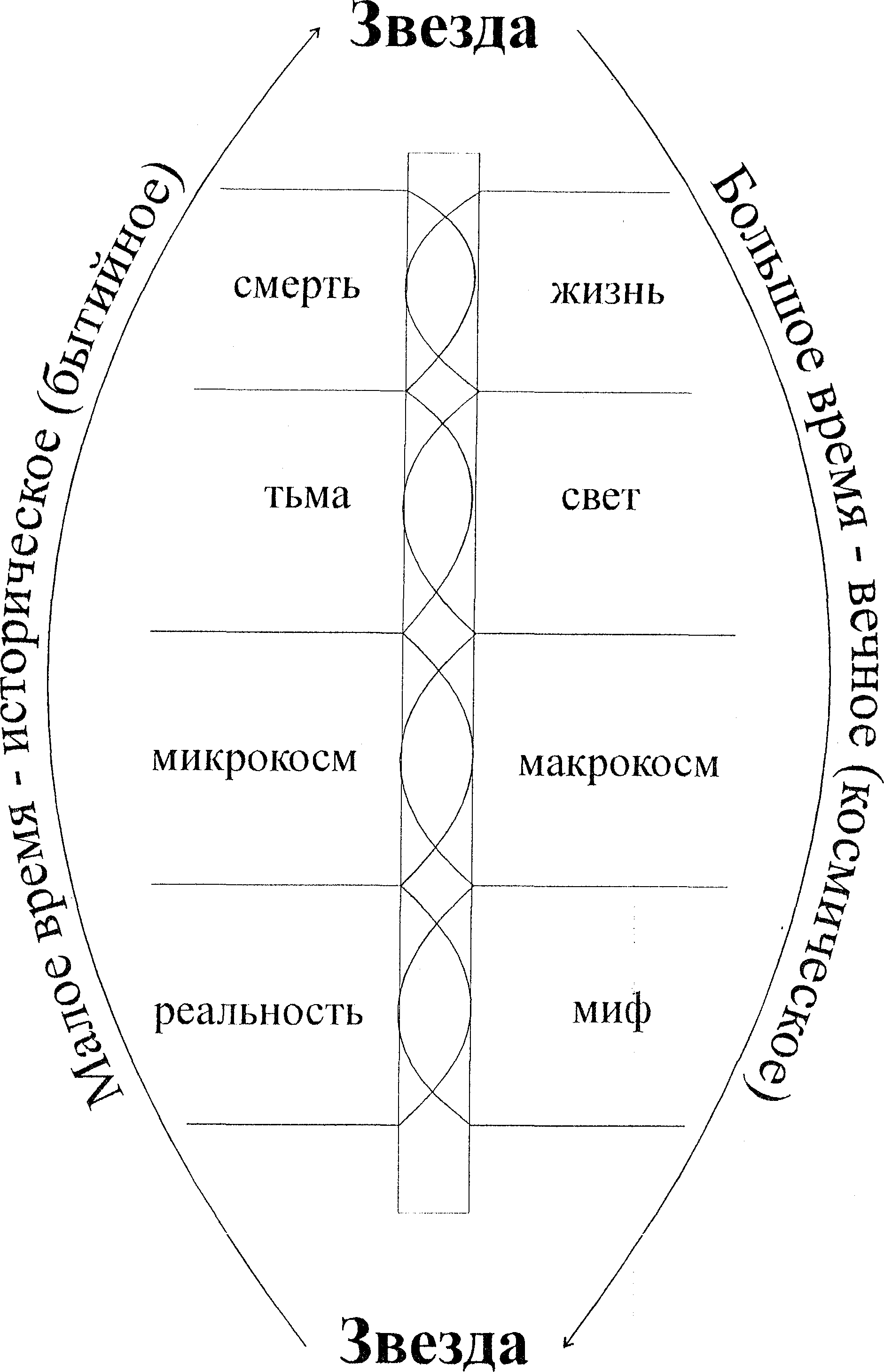2.1. Информативная функция
Одной из доминирующих функций вставок в художественном тексте является информативная. Опираясь на данные сплошной выборки, удалось выяснить, что любая вставка информативна независимо от того, какую роль она играет — собственно информативную или какую-либо другую. Относительная смысловая законченность вставки ставит ее в положение «дополнительной коммуникативной единицы по отношению к основному предложению» (Аникин 1967, 26).
В рамках информативной функции четко прослеживается основное и дополнительное назначение вставки. Основное связано с указанием на источник информации, субъект и адресат речи, пространственно-временную отнесенность и др.; дополнительное — с уточнением, выделением, пояснением, комментированием хода событий и действий. Эти потенции вставки являются факультативными по отношению к основной информативной роли.
Вставные конструкции, не нарушают сюжетную линию, а органично сливаются с ней, образуя второй план повествования, в котором заключены сопутствующая и наиболее важная для данной ситуации информация.
В структуре макроуровня информативные вставки способны выражать различные обстоятельственные значения (локальные, временные, причинно-следственные и т. д.), указывать на источник информации, способствовать расшифровке понятия, играть роль документальной отсылки.
В разряд вставных конструкций безальтернативного типа в рамках данной функции входят вставки, которые указывают на пространственно-временную отнесенность высказывания. Они не только обозначают глобальное пространство и время, какие мы наблюдаем в романах писателя, но и имеют характер пространственной или временной локализации действия или предмета. Информативная функция в данном случае сопровождается выражением дополнительных значений: уточнения, пояснения и т. д.
Через час пришел ответ (к вечеру пятницы), что Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом гостиницы «Астория»... («М. М.», т. 5);
Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич («Б. г.», т. 1).
Альтернативные вставки микроуровня этой функционально-семантической разновидности по сравнению с безальтернативными встречаются реже, но по структуре сближаются с последними. В основном в роли вставок выступают сочетания слов, словосочетания, простые предложения. Отличие заключаются в том, что при присоединительной связи обоих типов парантез с базовым контекстом альтернативные вставки обеспечивают общность семантического плана всего высказывания в целом. Безальтернативные такой общности не обнаруживают. Например:
Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повела его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке) («Комаровское дело», т. 2);
Видите ли, в Москве в доисторические времена (годы 1921—1925) проживал один замечательный человек («Тайному другу», т. 4).
Информативные вставные конструкции микроуровня участвуют в выражении причинно-следственных отношений и, выступая в качестве второго компонента, обозначают либо причину, либо следствие. Например, безальтернативная вставка:
Картавый Най-Турс забрал бумагу, по своему обыкновению дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем корпусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина («Б. г.», т. 1).
Вставная конструкция выражает причину, связываясь с базовым высказыванием, выражающим следствие, на основе присоединительной связи, но при этом четко усматривается тематическая связь базы и вставного компонента.
Пример альтернативной вставки:
Мой герой вынес из нее [из поездки. — И.С.] болезнь — он стал подозрительно кашлять, — усталость и страшное состояние духа... («Жизнь гос. де М», т. 4).
Вставной компонент выражает следствие, базовая часть — причину. Связь вставки с базовым высказыванием осуществляется за счет единства тематического смысла и лексически, при помощи личного местоимения 3-го лица.
В структуре микроуровня вставные конструкции могут нести в себе указание на источник информации. Следует отметить, что ссылка на источник — это в большей степени непременный атрибут научного, делового и газетно-публицистического стилей речи. Несмотря на это М. Булгаков довольно активно употребляет информативные вставки данной функционально-семантической разновидности в художественном тексте.
Вставка безальтернативного типа формально не обнаруживает семантической связи с базовым высказыванием. Глагол, как правило, стоит в форме повелительного наклонения и входит в структуру побудительного предложения. От подлинного побуждения оно отличается тем, что читателю нет необходимости указанное действие выполнять, т. к. оно функционирует лишь как констатация факта:
Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:
— Пошел мой сукин сын (читай: квартхоз — муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками («Самогонное озеро», т. 2);
Начиная с пятого явления дамы в ложах вытаращили глаза (явления мы считаем по тому тексту «Драгоценных», который дошел до наших дней) («Жизнь гос. де М.», т. 4).
Информативные вставки альтернативного типа сохраняют семантические отношения с базовым высказыванием и связываются с ним чаще всего на основе лексико-грамматической связи. Как правило, они содержат в себе вводные элементы и могут быть причислены к разряду вводных слов и выражений, тем более, что при снятии скобок семантическая структура высказывания не нарушается. От сугубо вводных альтернативные вставные компоненты отличаются большей степенью изолированности от базового контекста, что обусловлено авторским замыслом:
Оказалось, что заведующий городским филиалом, «вконец разваливший облегченные развлечения» (по словам девицы), страдал манией организации всякого рода кружков («М. М.», т. 5);
Прогорел настолько, что, когда моя судьба закинула меня именно в тот дом и квартиру, где приютился прогоревший, я видел его единственное средство (по его мнению) к спасению («Тайному другу», т. 2).
В художественных текстах М. Булгакова вставные конструкции микроуровня выступают как средство расшифровки или уточнения какого-либо лица, понятия, аббревиации. Важно отметить, что предпочтение здесь отдается безальтернативным вставкам, т. к. при снятии скобок данные элементы могут восприниматься как уточнительные слова и обороты, потому что в базовый контекст могут быть введены с помощью уточнительного оборота то есть. Например.
Но так как человек без информации немыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры («Киев-город», т. 2);
Дамы — посетительницы Рамбуйе — очень быстро ввели в моду, целуясь при встрече, именовать друг друга «моя драгоценная» («Жизнь гос. де М.», т. 4);
Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один («Записки юн. вр.», т. 1).
Это довольно специфическое назначение вставных конструкций в художественной речи. В авторской речи расшифровка понятия иногда звучит в ироничной тональности, что достигается за счет лексического наполнения и коммуникативной заданности высказывания — создания иронии. Вставная конструкция в виде слова, реже словосочетания с базовым высказыванием связывается лексико-грамматически; во вставке указано слово, о котором идет речь в базе, в форме зависимого именительного падежа и представляет собой своеобразное приложение.
Вставные компоненты выступают в роли документальной отсылки. Суть ее заключается в том, что вставка представляет собой документы, письма, цитаты и т. д. Они оформляются как абзацные парантезы. Цитируемый материал включается М. Булгаковым в основную ткань повествования как дополнительный, но очень важный источник информации, раскрывающий суть явлений. Например:
С того рассвета до трех часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба.
«Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля, принять бой» («Б. г.», т. 1).
Структура текста включает в себя прямую речь — цитату, представленную вставной конструкцией альтернативного типа. Семантические отношения между компонентами текста поддерживаются единством тематического содержания, а также лексически при помощи повторной номинации объекта (Политехническое шоссе), но в данном отрезке текста обнаруживается нарушение видо-временной корреляции глаголов-сказуемых. Базовый контекст содержит глаголы в форме прошедшего времени, совершенного и несовершенного вида, во вставке употреблены инфинитивы глаголов.
Информативные вставки играют сопутствующую роль. Связь с включающим высказыванием может осуществляться включением в начало вставки вводного слова «кстати», подчеркивающего дополнительный характер содержания вставки, ее естественность, некую плавность с синтаксической точки зрения:
Пришлось разъяснять необыкновенный случай с поющими «Славное море» служащими (кстати: профессору Стравинскому удалось их привести в порядок в течение двух часов времени путем каких-то впрыскиваний под кожу), с лицами, предъявившими другим лицам или учреждениям под видом денег черт знает что, а также с лицами, пострадавшими от таких предъявлений («М. М.», т. 5);
И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык) («Самогонное озеро», т. 2).
Нередки случаи, когда вставной компонент напрямую указывает на факультативность информации, но обнаруживает синтаксическую близость с базовым высказыванием при альтернативном типе вставной конструкции:
Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е. печальная жена разбойника) должны были составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги («Записки на ман.», т. 1).
Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой) («Зол. корр.», т. 2).
Вставные конструкции безальтернативного типа связываются с базовым высказыванием на основе бессоюзного присоединения. Главное слово во вставке принимает форму независимого именительного падежа, что не характерно для авторского почерка М. Булгакова. По структуре ее можно отнести к научному стилю, но лексическое наполнение явно указывает на принадлежность к художественному:
Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет «Молитву девы», диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает и т. д. («Столица в блок.», т. 2).
Безальтернативные вставные конструкции макроуровня, реализуя информативную функцию, сопровождают речь персонажа и содержат в себе авторские комментарии по поводу того или иного явления действительности. Это может быть вставка — СФЕ макроуровня безальтернативного типа. Вставка вносит в контекст пласт информации, не соотносимой с содержанием базового контекста:
— А скажите, пожалуйста, где выучились?
— В церковноприходской школе, — ответил я проворно наобум. (Дело, видите ли, в том, что я тогда почему-то считал нужным скрывать свое образование. Мне было стыдно, что человек с таким образованием служит в газете, лежит перед керосинкой на полу и у него нет картин на стенах) («Тайному другу», т. 4).
Альтернативная вставка — СФЕ макроуровня может сопровождать речь автора:
Но та сущая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек, Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия — вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это не важно, повторяю) («Комаровское дело», т. 2).
Информативная функция является типичной для вставных конструкций в научном, деловом и публицистическом стилях речи. Однако в художественном тексте информативная вставка приобретает иное звучание. Здесь она не только указывает на факт, явление действительности, но и выражает, в некотором смысле, авторскую позицию по отношению к тому или иному описываемому событию, т. е. приобретает оттенок субъективно-модального значения. В то же время в информативных вставках наблюдается и наличие объективно-модального значения, что в значительной мере отличает функционирование парантез в художественном произведении от их употребления в других функциональных стилях речи.
2.2. Характерологическая функция
Используя вставные конструкции, автор получает возможность ярче и эффективнее выделить признак субъекта или объекта действительности на фоне высказывания. В характерологической функции обычно выступают компоненты, выражающие замечания автора о мыслительной деятельности человека, психологическом состоянии, внешнем виде персонажа, его вербальных и невербальных действиях, характеристику — описание событий.
Писатель прибегает к помощи парантез с целью привлечь внимание читателя к какому-то обстоятельству из жизни своего героя, чтобы тем самым дать свою авторскую оценку. Посредством вставки писатель как бы делает своеобразный фотоснимок персонажа или действия, запечатлевая лишь краткое мгновенье, которое выступает свидетельством часто целого отрезка жизни.
Характеристика — очень специфический аспект функционирования вставных конструкций. Наблюдения показали, что в основном характерологические вставки от автора сопровождают речь персонажа при прямой и несобственно-прямой речи, реже в косвенной. Наименее употребляемы такие вставки в повествовании, где преобладают, главным образом, информативные. Характерологические вставки воспринимаются только в совокупности с включающим высказыванием, т. к. между двумя компонентами высказывания устанавливается очевидная тематическая связь, при которой вставка комментирует тему базового высказывания. Формальным показателем связи является лексика. С точки зрения структуры характерологические вставки представляют собой микроуровень. Случаи употребления СФЕ и отрезка текста не замечены. Довольно часто писателем используются простые распространенные предложения.
Характерологическая вставная конструкция часто включается в основную канву повествования в виде попутных замечаний после каждой реплики персонажа. Такая вставка, выполняя роль слов автора, указывает на изменение состояния говорящего или адресата речи. Сопроводительная вставка такого рода в основном принадлежит безальтернативному типу. По структуре представляет собой двусоставное простое предложение, а по содержанию несколько сближается с ремаркой:
— Фельдшера пусть явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными... А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: погоны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В наши планы не входит особенно привлекать внимание к себе («Б. г.», т. 1).
Отличительной чертой вставных конструкций, выполняющих характерологическую функцию, является то, что зачастую информация вставки выражается имплицитно. Содержательная сторона вставки предельно удалена от основного контекста. Целые фрагменты эмоционально-психического процесса зашифрованы, но они легко поддаются дешифровке при умении читать между строк и реально представлять события повествования целиком, заполнив пробелы недостающими элементами. Примером тому служат отрывки из дневника доктора Полякова («Морфий», т. 1):
У неё голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...
(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)
...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически-глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла!
* * *
Этою глупою борьбою с морфием я только мучаю и ослабляю себя.
(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)
...ря
...ять рвота в 4 час. 30 минут.
Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.
* * *
Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома.
* * *
Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном, — о чудных божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханием...
(Здесь страница вырвана.)
...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо крал свой собственный костюм.
Небольшой по объему рассказ содержит определенное количество вставных конструкций, содержательно-фактуальная информация которых не имеет ничего общего с базовым контекстом. Это авторские замечания, представляющие собой сопутствующие прочтению дневника замечания.
Лексико-грамматические связи между компонентами текста практически отсутствует. Связь между фрагментами обеспечивается синтаксически, посредством бессоюзного присоединения. Однако полнообъемно прослеживается ситуативно-смысловая связь, скрепляющая все повествование. Имплицитный смысл вставки подсказывается сюжетной ситуацией. Ср., «Этою глупою борьбою с морфием я только мучаю и ослабляю себя». После вставки — «...ять рвота. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления». Следовательно, там, где вставка указывает на вырванные страницы, была информация об этих «ужасных впечатлениях». Ситуация дополняется, проявляя имплицитный смысл текста.
Характерологические вставки могут иметь обобщающее значение. Они сопровождают описание переживаний героя, имеют иногда философскую направленность и встречаются довольно редко. В качестве вставок используются генеративные, обобщающие конструкции всегда безальтернативного типа. Иногда это сложные предложения, связанные на основе подчинительной, но чаще присоединительной связи. Предельная изоляция объясняется самим смыслом вставки, который не выводится из значения включающего базового контекста:
Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим собой) припал к вешалке («Б. г.», т. 1).
Характерологическая вставная единица может приобретать дополнительные оттенки значения, например, усилительного, сопровождая базовое высказывание. В роли характерологических вставок выступают словосочетания, сочетания слов, односоставные и двусоставные предложения микроуровня в условном или повелительном наклонении, что иногда приводит к нарушению видо-временной корреляции глаголов — сказуемых базы и вставки. Часто это безальтернативные вставные компоненты. Предпочтительным видом связи является бессоюзное присоединение:
И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал... («Малые сатиры», т. 2);
Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже («Б. г.», т. 1).
Нередки случаи употребления сложных предложений с частями, осложненными различными обстоятельственными значениями. Смысл вставной конструкции выводится из общего значения базового контекста, включающего вставной компонент. В таких случаях легко устанавливается смысловая связь базы и вставки, которая в свою очередь приобретает дополнительный оттенок комментирования, при этом вставка несет указание на ментальные действия персонажа:
Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда — ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, — не то какая-то неловкость в словах сладостного видения («Б. г.», т. 1).
Характерологические вставные конструкции зачастую насыщены возвышенно-эмоциональной тональностью, выражая авторскую позитивную оценку события или персонажа. Как правило, это простые восклицательные предложения и вставные единицы, содержащие имена прилагательные в форме превосходной степени. Иногда базовый контекст может включать одновременно и безальтернативную и альтернативную вставку, при этом возможны и различные виды связи, например, лексико-грамматическая для связи альтернативной единицы с базой, присоединительная — для безальтернативной.
Но не успел он — лучший из театральных ораторов Парижа — договорить свое извинение, как скала на сцене распалась и среди падающих вод (вот каков был машинист Вигарини!) появилась наяда («Жизнь гос. де М.», т. 4);
Дочь французского посланника в Риме, урожденная де Вивонн, маркиза де Рамбуйе была утонченнейшим человеком и притом с самого детства (попадаются такие натуры!) (там же).
Вставные конструкции характеризуют позитивные и негативные эмоции, часто представляют собой эффект увиденного. Речь идет о тех вставках, которые своим содержанием возвращают действие к уже происшедшим событиям. Этот эффект можно квалифицировать как ретроспекцию, но в большей степени в данном случае проявляется характеристика действия или психологического состояния говорящего, и тогда доминирующей становится характерологическая функция. Ср., например вставку, указывающую на чувство растерянности и смятения персонажа в сцене исчезновения револьвера из «Театрального романа»:
Друг оглянулся и шепнул:
— Револьвер сперли сегодня... Вот гады...
— Ай-ай-ай, — сказал я.
Старушка — мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу в коридоре, заглядывала в какие-то корзинки.
— Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить!
— Сегодня? — спросил я радостно. (Он ошибся, револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе.) («Т. р.», т. 4).
В данном примере альтернативная вставная конструкция микроуровня представляет собой сложное предложение. Теоретически возможность снятия скобок существует. Однако, необходимость выделения фрагмента текста основана на намерении автора вернуть определенный эпизод из уже описанного с целью восстановить полную картину происходящих событий.
Иногда М. Булгаков заключает во вставку целую реплику в виде прямой речи в речи персонажа, которая предполагалась к сообщению, но не прозвучала по какой-то причине, например, из-за страха:
— Но как же... Я же... (Он хотел крикнуть: «Как, я же еще и расписку?!» — но у него не вышли эти слова, а вышли другие.) Вы... вам надлежит расписаться, так сказать... («Б. г.», т. 1).
Предлагается чуть ли не тональность реплики героя. Во вставке тональность решительного, разгневанного персонажа, контрастирующая с тем, как он говорит на самом деле — смиренно-заискивающим голосом.
Часто М. Булгаков объединяет во вставке указание на эмоции говорящего и средства их выражения. При альтернативном типе вставки возможна сочинительная связь с базой:
В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев (а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми) сыграл с актрисой сцену объяснения в любви («Т. р.», т. 4).
Автор с помощью вставных конструкций предлагает читателю представить состояние персонажа по его мимике, жесту, тому или иному внешнему или внутреннему психологическому проявлению чувства. Как правило, это безальтернативные вставки, сопровождающие диалогическую речь. По структуре они представляют собой простые односоставные и двусоставные предложения, соединенные с базовым контекстом по принципу присоединительной связи:
— Потом, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и... (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге («Б. г.», т. 1).
Характеристика внешнего вида персонажа, который часто выдает отношение человека к жизни, принадлежность к определенному социальному кругу, его настроение, воспитание и т. д. очень важна. Вставка позволяет дать это сообщение кратко, при условии, что в замыслы автора не входит необходимость создания полного словесного портрета персонажа. Читатель волен воочию представить себе изображаемое, а если каких-то признаков, по мнению писателя, недостаточно, то их можно «домыслить», представив в воображении описываемую ситуацию.
Приоритет отдается альтернативным вставкам, т. к. характеристика — описание внешнего вида не требует полной изоляции от базового контекста. Это обуславливает наличие лексико-грамматической и тематической связи вставки с базой.
Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках («М. М.», т. 5);
Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнить нельзя было с одеждой Измаила Александровича («Т. р.», т. 4).
Писатель пользуется характерологическими вставками для создания сатирического эффекта:
В 10 примел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии) («Самогонное озеро», т. 2).
Вставные конструкции альтернативного типа, представляющие собой определения, сопровождают речь автора, характеризуя физическое состояние персонажей. Лексический состав высказывания принадлежит нейтральному стилю, в отличие от лексики вставок. Именно лексическая наполненность вставок, выключенных из состава базового высказывания, обеспечивает комизм ситуации по принципу контраста.
Вставные конструкции в рамках характерологической функции становятся оригинальным и неповторимым средством обрисовки происходящих событий и поведения персонажей, а также создания различных речевых эффектов. Подобные вставки способствуют двоякому раскрытию образа героя или какого-л. явления действительности, что в немалой степени помогает экономно располагать информационные пласты в пределах единого смыслового блока.
2.3. Экспрессивно-прагматическая функция
Вставные конструкции представлены в авторском повествовании и используются для интенсивного воздействия на читателя. Вставка экспрессивна, выразительна по своей сути, т. к. является элементом новизны в высказывании, а эффект новизны сам по себе уже привлекает читателя, создавая атмосферу напряженности в восприятии, при этом информация подается частями. Синтагматическая расчлененность сопровождается повышенной интонированностью текста, увеличением количества логических и грамматических акцентов. Экспрессивные вставные конструкции используются для намеренного подчеркивания необходимых автору сторон высказывания.
Экспрессивной является лишь та конструкция, которая содержит установку на воздействие и достижение прагматического эффекта. Сравним, например, неэкспрессивную вставную конструкцию с экспрессивной.
а) неэкспрессивная вставка:
— Серию можно будет предсказать не ранее пятого тиража, то есть в 1924 году, — ответил Петухов, — но приблизительно могу сказать, что это будет (он сделал карандашом какую-то выкладку на обороте своего удостоверения) или третья, или пятая, а вернее всего — наша шестая [серия. — И.С.] («Серия ноль шесть», т. 2).
б) экспрессивная вставка:
Расписки действительно нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках («Столица в блок.», т. 2).
Экспрессивный эффект, создаваемый вставными элементами микро- и макроуровня, определяется различными факторами.
Наиболее существенным для создания экспрессивности является Факт обрыва повествования или самоперебив автора, что приводит к «рваности» фразы. Вставные конструкции, следуя параллельно базовому высказыванию, обычно несут дополнительную, но важную для понимания всего высказывания информацию, подсказывают правильное восприятие смысла, раскрывают позицию автора. Как правило, авторское «Я» во вставке выражено имплицитно и это характерно для синтаксиса прозы М. Булгакова. Но нередки случаи эксплицитного проявления «Я» автора. В таком случае во вставке употребляется неполное предложение с опущенным подлежащим, а глагол — в форме 2-го лица, единственного числа. В основном это единицы безальтернативного типа:
Театр стоял тут же, в двух шагах, на ст. Петушки, где человек служил в качестве ПЗП (говорю «служил», потому что, может быть, сейчас его уже убили) («Спектакль в Петушках», т. 2);
И перед человеком появились рабочие. Не известно никому, какие распоряжения он [человек. — И.С.] дал честным труженикам (они не виноваты, повторяю это тысячу раз). Известно, что к вечеру вокруг театра появились, как свеча, вколоченные столбы (там же).
Альтернативные вставки представляют собой полное простое или сложное предложение, где субъект речи выражен в форме личного местоимения 1-го лица, единственного числа:
...Епископ Кентерберийский был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу) («Киев-город», т. 2);
Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью) (там же).
2. В целях экспрессивного воздействия на читателя служит способность вставки создавать второй ярус повествования. Второй ярус может быть обеспечен концентрированием вставных единиц микроуровня в одном смысловом блоке, либо включением в текст единиц макроуровня: СФЕ и отрезка текста. Как правило, экспрессивные вставки имеют оценочно характеризующую направленность. Авторский комментарий, который сопровождает текстовый блок, переходит во второй ярус. При таком предельном противопоставлении двух субъектов речи, автора и персонажа, вставные компоненты однозначно представляют собой безальтернативный тип. Пример из диалога:
Когда его первая жена отравилась, оно — это существо — сказало:
— Ну и черт с ней!
Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.
— Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (Смешок.)
— Раз и квас! (На вопрос, как убивал. Смешок.)
— Хрен его знает! (На многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок.)
— Человечиной не кормили ваших поросят?
— Нет (хи-хи)... да если кормил, я бы больше поросят завел... (хи-хи) («Комаровское дело», т. 2).
Двуплановость контекста представлена наличием базового линейного повествования и второго, субъективно-авторского плана изложения. Авторская линия, содержащаяся во вставке, представляет собой второй ярус конкретного высказывания и всего текста, при этом эффект основан на обязательном контрасте основной линии повествования и сопровождающих авторских комментариев. Вставные конструкции микроуровня помимо того, что они составляет второй план повествования, способны вызвать коммуникативную разнонаправленность двух компонентов текста, базы и вставки. Такая единица в то же время способствует появлению субъекта автора, что вносит в текст элемент оценки. Например:
Вы интересуетесь вопросом о том, где же брал мой редактор деньги до встречи со страдальцем?
Теперь этот вопрос выяснен, и догадался я сам (я вижу мысленно, как Вы смеетесь! Если бы Вы были возле меня, наверное, Вы сказали бы, что вряд ли я догадался. Ах, неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы умнее меня, с этим согласен я...). Ну, догадался я: он продал душу Дьяволу («Тайному другу», т. 2).
3. Различия в коммуникативной направленности базового и вставного высказываний — это еще один способ создания экспрессивности. Вставной компонент может содержать побудительное, вопросительное или восклицательное предложения, а базовый — повествовательное. Несмотря на коммуникативную заданность вставки, она призвана лишь сообщить о факте действительности, но с определенной эмоциональной окраской.
При безальтернативном типе вставки субъект речи может формально не выражаться, если вставная конструкция представляет собой побудительное предложение, где глагол употреблен в форме повелительного наклонения. Однако от подлинного побуждения оно отличается тем, что не требует ответной реакции со стороны адресата речи:
...Благодаря повышенной рождаемости, вызванной Нэпом, народонаселение растет с угрожающей быстротой, и вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров (замените его буквами «Пе, Фе, Пе», а то будет скандал) решил выйти из положения кооперативным способом («Золотые корр.», т. 2).
Вставки — вопросительные или восклицательные предложения используются в функции риторических вопросов, т. е. фактически являются не вопросами, а сообщениями, либо риторическими восклицаниями, выражающими зачастую эмоциональное состояние говорящего:
Представьте себе развороченную крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Не менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) налеплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот («Путешествие по Крыму», т. 2);
Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман... Я разве не человек?) и решил завязать разговор («Т. р.», т. 4).
Коммуникативная разноплановость возможна и на макроуровне, где она сопровождается обрывом повествования при наличии субъективного «Я» автора. Примечательно то, что в одном смысловом блоке сосредотачиваются два и более парантетических внесения разных по типу (альтернативные и безальтернативные), по структуре (сложные предложения и СФЕ) и по уровню (микро- и макроуровни). Например:
Когда же оно [действие. — И.С.] начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!) («Столица в блок.», т. 2).
4. Созданию экспрессивности способствует несоответствие стилей между базовым контекстом и вставным компонентом. Это осуществляется за счет лексической наполненности компонентов высказывания. При нейтральном стиле базы вставка может содержать в себе разговорный стиль, научный, официально-деловой или публицистический. Несоответствие стилен возможно из-за различной эмоциональной окрашенности вставки и базы. Приоритет здесь отдается вставкам безальтернативного типа, которые с базовым компонентом связываются на основе бессоюзного присоединения, но в то же время сохраняют общность тематического плана в совокупности с базой. Альтернативные вставки при несоответствии стилей практически не используются, т. к. они при более тесной связи с базовым контекстом поддерживают заданный базой стилистический настрои высказывания:
И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая, изящная винтовка, отошел в сторону и «добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице» (так пишут молодые барышни революционные романы) («Столица в блок.», т. 2).
Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидали на странице 370-й («Крым». Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. физиотерапевтического общества и т. д. Изд. «Земли и Фабрики») буквально о Коктебеле такое:... («Путешествие по Крыму», т. 2).
5. Как носители новой информации экспрессивные вставные конструкции отличаются большей лаконичностью и предельной краткостью, чем неэкспрессивные. Это позволяет им резче вычленяться из состава базового высказывания. Например, безальтернативные вставки:
Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте («Записки на ман.», т. 1);
Пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш Международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика как зюзя пьяный. ...Позор Якову (отчество и фамилия) («Самоцветный быт», т. 2).
Альтернативные ставки:
В 10¼ того же вечера раздался звонок и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии)... («Рок. яйца», т. 2);
Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович ШАРИКОВ действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ («Соб. сердце», т. 2).
6. Экспрессивность вставных конструкций поддерживается употреблением различных лексических средств. Поскольку одной из основных функций экспрессивных вставок является оценочно-характеризующая функция, то правомерно использование во вставках лексических элементов оценочного плана. Такие экспрессивные вставки лаконичны и эмоционально окрашены. К их числу относятся: устойчивые сочетания слов, экспрессивно окрашенная и оценочная лексика, употребительны также грамматические средства. Пример альтернативных вставок:
Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что сколько бы спецов ни сажали, остается все же неимоверное количество (точная моя статистика: в Москве — 1 000 000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег («Столица в блок.», т. 2);
Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:
— Гражданин услужающий, пива! («Человеков» в Москве еще нет) (там же).
Безальтернативные вставки:
И в тоске и в отчаянии швырнул окурок на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся, — словно из стены вырос) появился некто с квитанционной книжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:
— Тридцать миллионов (там же).
Этот разряд могут дополнить вставные конструкции со значением усиления, сравнения, а также вставки, содержащие в своем составе прямую речь:
А. Уточняя смысл одного из слов базового высказывания, экспрессивные вставные конструкции могут иметь усилительное значение по отношению к нему. Повторяя это слово во вставке, автор противопоставляет ему более экспрессивное или распространяет его словами, которые усиливают общий смысл всего высказывания в целом. Это значение эмоционально напряжено. Усилительное значение имеют вставки альтернативного типа микроуровня, которые объединяются с базовым контекстом на основе сочинительной синтаксической связи, реже посредством бессоюзного присоединения:
Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу («Шансон Д'этэ», т. 2);
Показав (и очень хорошо показав), как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич просто окрестил Бахтеевым, он вдруг закряхтел и повел такую речь... («Т. р.», т. 4);
Что касается предбанника, то это актерская шутка. Так они прозвали (и это привилось) комнату перед верхним директорским кабинетом, в которой работала Поликсена Васильевна Торопецкая (там же).
Б. Одним из художественных средств создания экспрессии являются вставные конструкции со значением сравнения. Употребляются они преимущественно в авторской речи. Вставки вводятся при помощи союзов как, словно, а также вводных слов. Безальтернативные парантезы этого типа встречаются чаще, чем альтернативные.
Безальтернативные вставки:
— Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета («Б. г.», т. 1);
Так плохой и неуёмный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля (там же).
Альтернативные вставки:
Серенькие амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали («Рок. яйца», т. 2).
— Но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена) (там же).
В. Экспрессивная вставка, сопровождая речь автора или персонажа, может иметь в своем составе прямую речь. Чаще всего это альтернативные вставные компоненты, т. к. они, в сущности, не нарушают структуру базового высказывания и могли бы вводиться без скобок. Тем не менее содержание вставного элемента по намерению автора выводится на второй план повествования:
Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Ивановича, причем он порезал себе руку. (Василь Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: «Так я ж ей покажу») («Самогонное озеро», т. 2).
Безальтернативные вставки не так часты. В основном они употребляются для выделения микроконтекста в составе базы, т. к. возникает необходимость передать информацию так, как она выглядит в разговорной речи, т. е. без перевода в косвенную речь. Например:
Казалось бы, этот пустяк (Арнольф, обращаясь к Агнессе, повторяет слова Помпея: «Довольно! Я хозяин! Идите, повинуйтесь!») не причинил Корнелю никакого вреда, но Корнель страшно расстроился из-за того, что с его трагическими стихами так обращаются («Жизнь гос. де М.», т. 4).
7. Экспрессивность вставных конструкций проявляется на текстовом уровне. Например, один из рассказов М. Булгакова «Ревизор с вышибанием» (серия «Малые сатиры») целиком основан на использовании вставок. «Ревизор с вышибанием» — яркий пример смешения стилей с резким перекрещиванием как лексики, так и синтаксиса. По сюжетно-композиционному строению рассказ представляет собой действие в действии, что предполагает расслоение линий повествования на два плана. Первая сюжетная линия — непосредственная постановка на сцене гоголевского «Ревизора»; вторая — момент удаления со сцены административного работника. Сюжетные линии переплетаются, и именно это переплетение создает двуплановость произведения. Экспрессивную тональность рассказу задают вставные конструкции, т. к. они, с одной стороны, выполняют сугубо информативную функцию, с другой, несут эмоциональную нагрузку.
Произведение, на первый взгляд, представляет собой пьесу, предназначенную для постановки на сцене. Реплики персонажей расписаны по ролям. В список действующих лиц помимо гоголевских персонажей автор вводит суфлера, публику, голоса и 2-х членов клуба. Примечательно, что суфлер и публика, неотъемлемые субъекты театральных постановок, переведены автором в разряд действующих лиц. В образе реального персонажа выступают голоса из публики, которые появляются в пьесе два раза: в начале — Голос (с галерки) Ти-ша!; и в конце — Голос (с галерки, в восхищении) Валька, он молодой, глянь!
Писатель рисует напряженную обстановку, чему способствует нагнетание лексики, создание стилистического несоответствия за счет употребления вставок (звуковая характеристика и картинность изображения) — вот те составляющие, посредством которых автор добивается решения стоящей перед ним прагматической задачи — воздействовать на читателя.
Голоса раздаются на протяжении всего произведения. Языковое выражение голосов воспринимается читателями на уровне звуковых ассоциаций. Вставки являются своеобразным ориентиром, который помогает курсировать в звуковом пространстве. Вставка попутно несет информацию о качестве звука, принадлежности и месте его распространения. Сравним:
Публика (...за сценой слышны глухие голоса безбилетных, сражающихся с контролером...);
Суфлер (из будки сыплет шепотом);
Городничий (...за сценой страшный гвалт...);
Суфлер (змеиным шепотом);
Земляника (шепотом);
Суфлер (рычит);
Публика (слышен пронзительный свист с галерки);
Голос (свист).
Картинность изображения воспринимается на уровне зрительных ассоциаций. Вставка информирует читателя о месте действия, жестах и манипуляциях, внешнем виде персонажей, характеризует невербальные действия. Сравним:
Публика (топает ногами, гасят свет... На освещенной сцене комната в доме городничего);
Городничий (...Дверь на сцену распахивается, и вылетает член клуба. Он во фраке с разорванным воротом. Волосы его взъерошены);
Городничий (...Дверь раскрывается, и появляется член правления на сцене. Он в пиджаке и в красном галстуке);
Городничий (Снимает баки и парик);
Член правления (Хватает за шиворот члена клуба, взмахивает им, как тряпкой, и швыряет им в публику).
Особенность «Ревизора» с вышибанием» состоит в том, что, во-первых, эта «новая постановка» (по М. Булгакову) не предназначалась для постановки на сцене. Тому свидетельством является то, что это самостоятельное произведение с присущим ему стилем, композицией, сюжетом из ряда прозаических произведений, объединенных под общим заголовком. Во-вторых, оформление на письме и разбиение по ролям — не основание считать это драматургическим произведением. В-третьих, М. Булгаков не выдает своего намерения создать спектакль (отсутствие сносок, авторского вступления и т. д.) В-четвертых, публика, перемещенная автором на сцену, исключает возможность постановки. В-пятых, — непосредственно прозаический характер вставок, отличающийся от драматургических вставок-ремарок.
Сценические вставки-ремарки являются стилистически нейтральными. Прозаические вставки имеют экспрессивно-эмоциональную окрашенность. Различные типы простых предложений описывают действия, события и т. д. и имеют оценочную характеристику. В прозаических вставках употребляются стилистически окрашенные слова и выражения, принадлежащие разговорному стилю с явно негативной эмоциональной окрашенностью, конструкции с параллелизмами, нарушением грамматических норм. Опущение подлежащего усиливает эмоциональную окрашенность высказываний.
Необходимо отметить, что вставки с экспрессивно-прагматическим значением явились своевременным и важным элементом в аспекте эмоциональной заданности художественного текста. Все: начиная от описания физического состояния персонажа до его психологических переживаний — можно заложить в содержательно-смысловую фактуру вставной конструкции. И тут данные синтаксические единицы выступают мощным средством создания экспрессивно-эмоционального фона текста.
2.4. Ретроспективно-проспективная функция
Наблюдения над прозаическими текстами М. Булгакова привели к тому, что появилась возможность рассматривать вставные конструкции с точки зрения ретроспекции-проспекции, которые являются неотъемлемыми категориями художественного текста. М. Булгаков широко использует вставки для реализации в тексте вышеупомянутых категорий.
Парантетические внесения в художественном произведении наделены способностью перемещать повествование в пространственно-временном плане. Они разрывают линейное развертывание текста, унося внимание читателя то к событиям уже случившимся, но имеющим связь с настоящим, то к событиям еще не сбывшимися, но о которых уже упоминалось. Таким образом, вставка выполняет ретроспективно-проспективную функцию.
Ретроспекция, по определению И.Р. Гальперина, — «грамматическая категория текста, объединяющая формы языкового выражения, относящие читателя к предшествующей содержательно-фактуальной информации» (Гальперин 1981, 106).
О проспекции И.Р. Гальперин говорит, что это «один из приемов повествования, который дает читателю возможность яснее представить себе связь и обусловленность событий и эпизодов. Зная, что произойдет в дальнейшем, он глубже проникает в содержательно-концептуальную информацию, поскольку настоящее предстает перед ним в несколько ином плане» (Гальперин 1981, 112).
М. Булгаков при помощи заложенной во вставке информации возвращает читателя к каким-то значимым эпизодам в прошлом или приоткрывает завесу будущего, давая волю читательскому воображению.
Ретроспекция и проспекция являются выразителями художественного времени в тексте и таким образом тесно связаны с категорией темпоральности. Художественное время представляет собой образное отражение модели действительности. «В нем сочетаются отражение объективного мира (незеркальное, непрямое, иерархическое) и вымысел» (Тураева 1979, 14).
Опираясь на теорию поля было установлено, что ядром функционально-семантической категории темпоральности является микросистема видо-временных форм. Периферия представлена лексическими показателями времени, формами косвенных наклонений, сочетанием инфинитива с глаголами. Средствами выражения категорий художественного текста, наряду с системой лексических и грамматических средств, могут быть стилистические приемы, реалии, композиция текста.
У М. Булгакова переключения из одной временной и пространственной плоскости в другую, перенос действия из реального мира в ирреальный осуществляется не с помощью видо-временных форм, а с помощью композиции, паралингвистических средств, лексической системы и логико-ассоциативных отношений.
Столкновение двух планов: мистического и обыденного, ирреального и реального — основной каркас художественного времени. В создании структуры художественного времени в произведениях М. Булгакова видо-временным формам глагола не принадлежит ведущая роль. Художественное время моделируются с помощью комплекса взаимодействующих средств различных уровней: композиции, лексической системы, разного рода повторов, стилистических приемов (синтаксический параллелизм, дистантный повтор и др.). К разряду стилистических приемов можно отнести и парантетические внесения как выразителей темпоральности, а именно, ретроспекции и проспекции.
Как ретроспекция, так и проспекция вызваны, главным образом, авторским замыслом. Для М. Булгакова характерна такая манера повествования, при которой он вклинивает в общую канву текста эпизоды, которые не имеют ярко выраженных связей с базовым контекстом. Но, как это ни парадоксально, автор за счет подобного дробления текста добивается его целостности, при этом появляется возможность завладеть вниманием читателя самым оригинальным образом — посредством ложного запутывания, своеобразного эффекта «тупика», когда, казалось, автор доходит до абсурда, а читатель теряет нить последовательности описываемых событий.
Ретроспективно-проспективная функция парантетических внесений проявляется по-разному.
Ретроспективная вставка повествует о событиях и фактах, речь о которых уже шла. Зачастую это авторские замечания. Рассмотрим пример фрагмента абзаца из второй части романа «Мастер и Маргарита»:
Но если допустить первое, то несомненно, что, проваливаясь, он [маг. — И.С.] прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастного театра, учинив предварительно какую-то пакость (вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение Тузабубен!), бесследно скрылась
из Москвы («М. М.», т. 5).
Безальтернативная ретроспективная вставка не обнаруживает каких-либо формальных грамматических связей с базовым контекстом. В данном случае на первый план выдвигаются логико-ассоциативные отношения, основанные на несоответствии тематической общности базового и вставного компонентов. Видо-временной план отрезка текста, включающего вставку, игнорируется. В скобках употреблен глагол в форме повелительного наклонения, что свидетельствует о коммуникативной разнонаправленности двух составляющих текста. Временное расстояние между событиями настоящего и прошлого продленное, структура художественного времени дистантна. Смысл ретроспективной вставки заключается в открытом наставлении автора вернуться к прошедшим событиям, которые имели место в 1-й части романа. На основе ассоциативной связи выстраивается логическая цепочка, способствующая адекватному пониманию всего текстового блока.
Ретроспективная вставка по воле автора способна заставить читателя вызвать из памяти определенные, уже описанные события и факты, переосмыслить их в новом свете. Читатель идет на это «возвращение в прошлое», потому что у него остается инстинктивная потребность найти связь с настоящим. Порой это помогает по-новому взглянуть, например, на психическое состояние героя, обратить внимание на деталь и установить тот хрупкий мостик между временами, который позволит воспринимать текст как единое целое. Проанализируем один эпизод из романа «Мастер и Маргарита»:
Моя возлюбленная [Маргарита. — И.С.] очень изменилась (про спрута я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное), похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок («М. М.», т. 5).
Маргарита пытается найти причину душевных переживаний Мастера. Он замкнулся в себе и не идет на откровенный разговор. Она лишь догадывается о чем-то, но её догадки основаны на внешних наблюдениях — «но она видела, что со мной творится что-то неладное».
Маргарита, естественно, ничего не знает о спруте, а тем более о причинах, его породивших. М. Булгаков держит свою героиню в неведении, читателю же раскрывает секрет тем, что уже описал состояние Мастера в предыдущем абзаце:
Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности когда я замечал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу («М. М.», т. 5).
Содержание этих следующих друг за другом абзацев отражает значительную дистанцию между временными параметрами в тексте: момент, когда к Мастеру приходит ночное видение, и момент проявления психического расстройства, вызванного этим явлением. Безальтернативная ретроспективная вставка (ретроспективно-проспективные вставные конструкции, как правило, безальтернативные) с базовым контекстом связываются логико-ассоциативно, на основе принципа обратной связи. Читатели запоминают определенный пласт информации и декодируют её смысл при помощи смысла, заложенного во вставке. Структура художественного времени константна.
Ретроспективное парантетическое внесение, впрочем, как и проспективное (см. далее) способно актуализировать отдельные части текста. В качестве аргумента приведем пример парантезы безальтернативного типа макроуровня, взятой из «Белой гвардии». В роли ретроспективной вставки выступает воспоминание Алексея Турбина о юнкерском училище. М. Булгаков предельно выделяет вставку — СФЕ, поместив в рамки парантетического абзаца, т. е. задействован паралингвистический параметр:
Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся:
— Эк... км....
Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу.
Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.
...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.
— Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, — пущай по случаю радостного приезда господина попечителя господин инспектор полюбуются на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!
Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.
У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.
— Пустите нас, миленький Максим, дорогой, — молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.
— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!
Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, — белый, скорбный и голодный...
Ноги Турбина понесли его вниз сами собой («Б. г.», т. 1).
В парантетическом внесении кратко, но ёмко показан маленький эпизод из юношеских лет главного героя. В предтексте мы не найдем никаких упоминаний о прошлом Турбина. Писатель вводит ретроспективную парантезу с целью сделать паузу в линейном развертывании повествования, повернуть время назад, но связь времен остается и проявляется она в сравнении. Эпизод из прошлого юнкерского училища органично вливается в его настоящее: тот же коридор, те же юные офицеры, только «коренастый Максим» сильно постарел, и обстановка стала напряженной.
Логико-ассоциативные связи, способствующие сцеплению текста, апеллируют не к базовому контексту, а к фоновым знаниям читателя и провоцируют его тем самым сопоставить и сравнить факты изображаемого с жизненным опытом.
Проспективная вставка указывает на события, которые произойдут или не произойдут в будущем при определенных условиях. Декодирование такой вставки затруднено, т. к. объективно выраженная связь с настоящим отсутствует.
В отличие от ретроспекции, которая особенно эффективно воспринимается при повторном и многократном прочтении текста, проспекция может остаться непонятой на протяжении довольно длительного времени, сколь часто не прочитывался бы эпизод. Она осознается в восприятии всего художественного целого. И уж если смысл проспекции понят читателем, он неосознанно возвращается к ранее описанному эпизоду, чтобы удостовериться в правильности своих суждений, и тогда проспекция перевоплощается в ретроспекцию. Связующим звеном между ретроспекцией и проспекцией вставки является ее способность связывать части целого текста и актуализировать отдельные фрагменты.
Проспективная вставка реализуется в несколько ином ключе. Если ретроспективная вставка возвращает читателя к фактам уже свершившимся и апеллирует к способности читателя сохранять в памяти и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, то проспективная вставка призвана задействовать способность воображать, творчески мыслить, фантазировать, а также мысленно представлять развитие событий и предугадывать их.
Пример из «Мастера и Маргариты»!
— ...Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от ста тысяч деньги.
— Она была очень настойчива, а я, чтобы не спорить (что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю), обещал ей это сделать на днях.
Содержательно-фактуальная информация проспективной вставки всегда несет в себе элемент недосказанности. Автор оставляет читателю возможность домыслить и прийти к какому-то заключению. О том, верно или неверно была декодирована вставка, читатель узнает в процессе линейного развертывания текста и может сравнить свои суждения с художественными намерениями автора. Иногда возникают несовпадения, и тогда речь заходит об эффекте обманутого ожидания, которое возникает из-за нарушения субъективного читательского восприятия.
В указанном примере читателю дается возможность ответить на вопрос, — удастся ли мастеру уехать к морю. Ответ может быть либо «да», либо «нет». Подтверждение тому либо другому читатель найдет, прочитав еще несколько глав романа. Но более внимательный и наблюдательный сможет с точностью установить истину и очень скоро удостовериться в своей правоте, если обратит внимание на начало вставки — «что-то подсказывало мне...» Мастер интуитивно чувствует, что желаемому не сбыться. Читатель же на основе своего жизненного опыта сопоставляет факты реальной и художественной действительности и говорит себе: «Человеческая интуиция никогда не подводит».
М. Булгаков делает акцент именно на сопоставление опытов. В художественном произведении, где все подчинено строгой логике и иерархии, нет места случайной фразе. В данном случае проспективная вставка рассчитана именно на то, что читатель для её расшифровки прибегнет не только к повторному чтению, но и предпримет более сложные мыслительные действия.
Цель использования ретроспективных и проспективных вставных конструкций сводится к следующему:
1 — восстановить в памяти читателя факты прошлого и наметить пути будущего для восприятия художественного целого;
2 — дать возможность сопоставить жизненный опыт с реалиями текста;
3 — перемещать временные планы повествования;
4 — актуализировать отдельные части повествования.
Ссылки на предшествующую информацию способствуют более глубокому пониманию текста. В художественном произведении читатель обращает внимание на детали, которые, на первый взгляд, кажутся малозначительными, но «силой художественного изображения ставшие существенными характеристиками». Проспективная и ретроспективная вставные конструкции приводят к «разорванности» повествования, которое проявляется в виде вставных размышлений автора или персонажа, смены пространственно-временных планов. С другой стороны, эти вставные конструкции оригинальны по своей сути; в совокупности с графическим изображением они являются действенным средством воздействия на читательское восприятие. М. Булгаков придал новое звучание парантезам в рамках этой функции. Это, безусловно, солидный потенциал, способствующий раскрытию темпоральной структуры художественного текста.
2.5. Функция ремарки
Своеобразной чертой индивидуального стиля М. Булгакова является использование вставных конструкций в качестве ремарок.
Сценические ремарки, сопровождающие драматические произведения, детально описывают место действия, появление и поведение персонажей, их жесты, мимику, движения, интонацию, точку зрения автора, его симпатии и антипатии. Они представляют собой своеобразное «руководство к действию» для режиссера и актеров.
Возможности ремарки в прозаическом произведении более узки, чем в драматическом в плане функциональном, но более широки — в эмоциональном, потому что помимо объективной информации ремарка несет в себе указания на эмоционально-психологическое состояние персонажа.
Необходимо отметить, что вставки-ремарки сопровождают речь персонажа, квалифицируя ее, но даются от имени автора, в рамках диалога или прямой речи.
Подобно сценическим ремаркам прозаические вставки-ремарки содержат информацию об индивидуальных особенностях словоупотребления, произношения, отмечают некоторые особенности поведения, состояния героя. Во вставках-ремарках раскрываются эмоционально-экспрессивные оттенки произносимых реплик:
— Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шёпотом), в Париже, а, видали? («Б. г.», т. 1);
— Ну, я скорей умру (шепот), а не присягну (там же);
Анна (печально) — что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис — жена? («Морфий», т. 1);
Я (грубо):
— Дайте ключи (там же).
По своим синтаксико-морфологическим особенностям вставки-ремарки в текстах М. Булгакова варьируются от сверхфразовых единств до отдельных словоформ. Структура вставок-ремарок такова, что в рамках СФЕ функционируют несколько простых односоставных и двусоставных предложений, объединенных присоединительной связью с базовым контекстом. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения практически не характерны для структурных разновидностей вставок-ремарок.
Все простые предложения-ремарки характеризуются одним качеством: функционируя как единица речевой коммуникации, они акцентируют «действительность факта или события», о котором сообщают, «его автономность, самодовлеющую значимость» (Арутюнова 1973, 183).
По месту расположения вставки-ремарки можно разделить на вставные, находящиеся между именем персонажа и его словами, а также на вставные, находящиеся между словами персонажа или в конце его высказывания.
В качестве вставки-ремарки выступают безальтернативные вставки микроуровня:
Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что Петлюра войдет... а это, знаешь ли... («Б. г.», т. 1).
Сочетание слов:
— Никак нет, Филипп Филиппович, — (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили («Соб. сердце», т. 2).
Словосочетание:
Шмонин, предместкома (грим средних лет, серые брюки, штиблеты на шнурках, выражение лица умное) («Кулак бухгалтера», т. 2).
Простое односоставное предложение с опущенным подлежащим:
Войтенко (волнуется). Мне в Евпаторию надо, я опоздаю. (Идет к столу, кашляет) («Сильнодействующее средство», т. 2).
Пропуск подлежащего является естественным, потому что оно названо в имени персонажа. Сказуемое в предложениях данного типа может быть выражено личной формой глагола, причем соблюдается согласование сказуемого с опущенным подлежащим. Глаголы употребляются в настоящем времени независимо от синтаксических особенностей конструкции.
Простое односоставное с опущенным сказуемым:
Голос в телефоне: Который тут горит? Счас. Сей минуту (За сценой грохот колес) («Пожар», т. 2).
Простые предложения с опущенным сказуемым встречаются гораздо реже, потому что сказуемое обычно заключает в себе то новое, что выражается в предложении. С другой стороны, при помощи сказуемого в значительной мере выражается основное синтаксическое значение предложения — предикативность.
Простое двусоставное-ремарка.
Москва... Ты же (аппарат шипит) увлекалась Петенькой («Неунывающие бодистки», т. 2).
Простые двусоставные предложения встречается крайне редко, так как содержание вставки-ремарки восходит к другому предикативному смыслу, отличному от смысла включающего высказывания, что приводит к необходимости называть и субъект, и предикат.
СФЕ — ремарка:
Публика. Вре-мя. Времечко. (Топает ногами, гаснет свет, за сценой слышны глухие голоса безбилетных, сражающихся с контролером. Занавес открывается. На освещенной сцене комната в доме городничего) («Ревизор с вышибанием», т. 2).
Вставные ремарки — СФЕ макроуровня больше всего характерны для драматургических произведений. В прозаических произведениях ремарки — СФЕ используются с целью декомпрессии текста и обобщения содержания. Для СФЕ характерно наличие двусоставных распространенных предложений. Наличие таких предложений вне СФЕ в текстах М. Булгакова не зафиксировано.
С морфологической точки зрения во вставках-ремарках часто используются наречия, функционируя в качестве оценочной характеристики действия или персонажа:
Голос чужой жены (кокетливо): отчего вы так вздыхаете? («По телефону», т. 2);
Голос горничной (испуганно): Барыня, барыня, отойдите от телефона... Барин вернулся... (там же).
Деепричастия и деепричастные обороты:
Голос мужа (беснуясь): Мал-чать!! («По телефону», т. 2);
Гудзенко (одергивая куртку): Возьмем факт с медицинской точки зрения («Кулак бухгалтера», т. 2).
Сравнительный оборот:
Культотдельщик (бледный как смерть): Виноват... Зачем же так? Э... Спешить? («Сильнодействующее средство», т. 2).
Имя существительное в форме творительного падежа с предлогом:
Культотдельщик (с торжеством): Ну, вот видите, и нашлось. Хе-хе. А вы сейчас плакать (там же).
Имя существительное в форме предложного падежа с предлогом:
Голос барышни (в отчаянии): Повесьте трубку. Я вас не туда присоединила («По телефону», т. 2).
Вставки-ремарки используются писателем не только с целью охарактеризовать персонаж или действие, но и с целью выполнения ряда речевых задач, как то:
а) указание на адресат речи:
— Все билеты уже проданы, — говорила Торопецкая, — у меня нет контрамарок... Этим ты ничего не докажешь. (Мне) («Т. р.», т. 4);
— Да, — говорила Торопецкая, — нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет... Я застрелю тебя! (Это мне, повторяя уже записанную фразу.) (там же).
б) указание на автора высказывания:
— А как же Сивцев Вражек? (Евлампия Петровна) («Т. р.», т. 4).
Как уже отмечалось, в роли вставок-ремарок употребляются в основном вставные конструкции микроуровня. Эти элементы могут играть сопроводительную роль в прозаическом произведении. В них заключено указание на адресат речи. В основном такие вставки состоят из одиночного слова, причем с базовым контекстом они связываются не только на основе присоединительной связи, но и лексико-грамматической, которая проявляется в том, что вставка-ремарка несет номинативную нагрузку, называя адресат речи и, как следствие, принимает форму дательного падежа, выражая объектное значение. Приведем пример из рассказа «Мадмазель Жанна» («Малые сатиры»):
Зал побледнел.
(Жанне):
— Сделай загадочное лицо, дура. (Публике). Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (Жанне.) Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (Публике). Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (Жанне). Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (Публике). Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну... Прошу вас сесть, мадмазель... По очереди, граждане! (Жанне). Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне). Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне). Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике). Итак, она спит! Прошу...
Данный абзац представляет собой монолог сложной структуры, потому что монолог, как правило, предполагает обращение одного лица к адресату (будь то один слушатель или общность лиц) и, соответственно, тематически обусловлен.
Здесь же наблюдается поочередное обращение то к одному, то к другому адресату речи: либо к Жанне, либо к Публике. Разместить такую структуру в абзаце, состоящем в печатном варианте из 20-и строк, довольно сложно. Нарушение линейного построения повествования исходит из замыслов автора. Писатель сознательно избегает диалога, хотя такое построение явилось бы простым решением. Но монолог по отношению к диалогу статичен и не требует стремительности и быстроты действий. Именно «медлительность» монолога позволяет писателю включить в него столь емкий объем текста. Персонажу, произносящему монолог, необходимо обращаться сразу к двум адресатам по отдельности. В монологе два параллельных плана повествования, но реализуются они в тексте не изолированно друг от друга, а в совокупности. Своеобразным мостиком между планами выступают вставки-ремарки.
Ремарки, во-первых, указывают на обращение к лицу или группе лиц. Во-вторых, позволяют сохранить двуплановость повествования, придавая целостность монологу. При этом становится возможным «озвучить» печь, придав патетику голосу, адресованному публике, и шепчуше-назидательные интонации — Жанне. В-третьих, благодаря высокой изобразительной силе вставки-ремарки компонуют текст таким образом, чтобы в минимальном отрезке передать максимум информации: это позволяет избежать громоздкого диалога. В-четвертых, ремарки используются с целью создать комический эффект. В реальной речевой ситуации подобный монолог либо невозможен, либо он заранее направлен на создание комизма.
Вставки-ремарки абзаца напоминают сценические ремарки, но это не драматическое произведение. Нам представляется, что сценическая принадлежность вставки, ее природа позволила сюжет с Жанной использовать в художественном фильме по мотивам повести М. Булгакова «Собачье сердце». Авторы фильма включили этот эпизод в сцену посещения цирка Шариковым. В булгаковской повести этого момента нет, тем более, что «Мадмазель Жанна» — отдельное произведение. Однако, если понадобилось таким образом перекрещивать булгаковские произведения, значит на то были объективные причины, продиктованные творческими замыслами современных кинематографистов.
Нередко М. Булгаков включает в прозаический текст диалог, разбитый на роли, с авторскими ремарками, с той разницей, что не указывается имя автора реплики. Так, в рассказе «Псалом» представлен диалог с типичными сценическими вставками-ремарками:
(От двери) — А как я по паркету пойду?;
(Тягостная пауза) — Я ревел;
(Напряженная пауза) — Я Сурке ухо укусил;
(Обида) — Я с тобой не возусь;
(Пауза) — Папа приедет, я ему сказу (пауза). Он тебя застрелит;
— Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем. (Глубокий вздох).
Пра-зи-ве-ем;
(Безмятежная ясность) — Мама.
(Женский голос за стеной) — Славка!
(Тихая откровенность) — Я... не пил.
(Непрошеный заступник) — Не смей мою маму тянуть.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вставка-ремарка является своеобразной творческой находкой М. Булгакова. В современной русской литературе, пожалуй, нет писателей, которые прибегали бы к такому способу решения структурно-содержательной задачи художественного текста. Увлечение М. Булгакова театром наложило позитивный отпечаток на его прозаическое творчество.
Вставка-ремарка, благодаря своей краткости и лаконичности, становится идеальным средством привнесения дополнительной информации и приводит к некоторым изменениям в структуре повествования. С ее помощью автор строит второй план повествования, «разгружая» основную линию. Вставка-ремарка обладает мощной силой воздействия, стимулируя слуховые рецепторы читателя.
Вставка-ремарка в творчестве М. Булгакова служит созданию комического эффекта, привнося в текст дополнительную эмоционально-экспрессивную насыщенность. Возможности этих синтаксических конструкций в художественном тексте потребуют дальнейших глубоких наблюдений и серьезных исследований.
2.6. Функция лирического отступления
Лирическое отступление (ЛО) — важнейший элемент в системе авторской поэтики, яркая особенность идиостиля писателя. Организованное особым образом лирическое отступление включается в текст в виде вставки, имеет характер вставочности и достаточно четкие границы. По словам И.И. Ермолаевой, ЛО представляет собой «логико-смысловое, синтаксическое и коммуникативное единство» (Ермолаева 1996, 4).
Как правило, ЛО представляет собой микротему, которая стоит особняком по отношению к базовому контексту. Связь с базой осуществляется за счет синтаксических, лексико-грамматических средств и ассоциативных отношений. Чаще всего базовый контекст содержит ключевое слово, смысл и назначение которого раскрывается в ЛО — вставке.
Формальные границы вставки — ЛО в художественном произведении могут быть определены при участии графического параметра. Вставка — ЛО выделяется в отдельный абзац либо кавычками, либо скобками, либо в форме парантетического отступа. В качестве грамматических показателей выступают: смена временных форм глаголов во вставке — ЛО в отличие от базового контекста, выделение субъекта мыслительной ситуации и обозначение его формами личных местоимений.
Включенные фрагменты характеризуются сложной организацией форм речи. Вставка — ЛО функционирует в форме монолога и аутодиалога. Авторская речь сочетает повествовательный и описательный контексты, иногда предельно сближается с речью какого-либо героя и может быть «многоголосой».
Рассуждение автора идет в форме внутреннего монолога, который на определенном этапе переходит в аутодиалог, где герой в споре с самим собой пытается разрешить мучающие его сомнения.
В силу своей функциональной значимости вставка — ЛО имеет ретроспективных характер и поэтому тесно связана прежде всего с предшествующим вставке базовым контекстом.
Как отмечает И.И. Ермолаева, «текстовая зона связи ЛО и контекста может быть разделена на ближайшую, охватывающую предыдущие и последующие предложения вокруг ЛО, и на расширенную, которая характеризует дистантные связи между элементами текста, находящимися на значительном расстоянии друг от друга» (Ермолаева 1996, 6).
Семантическое содержание включенного текста организуется вокруг его темы. Тематическая заданность вставки — ЛО несомненна: тема всегда выделяется внутри микротекста в виде конкретной части высказывания, которое определяет его содержательную структуру. Такой структуре присуща субъективно-оценочная модальность, т. к. она выполняет функцию оценки описываемых событий в виде эмоциональных позитивных и негативных оценок.
Эти синтаксические единицы могут выражать различные оттенки чувств и сопровождаются соответствующими эмоциями. Вставка — ЛО может включаться в различные отрезки текста. По своей содержательно-структурной значимости она принадлежит макроуровню, что связанно с тем, что в роли лирических отступлений выступают вставки — СФЕ и отрезки текста. Включаться в текст такая парантеза может тоже различными способами. Например, вторая часть романа «Мастер и Маргарита» начинается с авторского лирического отступления — призыва. С базовым контекстом вставку — ЛО связывает ключевая фраза «за мной, читатель!» Последующий контекст связан с ЛО только по принципу линейного построения текста. Вставка — ЛО макроуровня не выделена, но обособлена семантически и представляет собой своеобразный ключ — эпиграф второй части романа. Для декодирования смысла вставки в первую очередь нужно восстановить ситуацию и в процессе анализа зафиксировать языковые составляющие, которые становятся сигналами ситуации. Помимо лексико-грамматических связей при наличии вставки — ЛО выступают еще и логико-ассоциативные, которые проявляются, как правило, при условии дистантного расположения частей текста, а декодирование смысла сложной синтаксической конструкции требует цельного восприятия всего художественного произведения. Например:
Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, — тем более что настала пора переходить ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 19
МАРГАРИТА
За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!
Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь перевалила через полночь, что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла («М. М.», т. 5).
Вставка — ЛО относится к безальтернативному типу и содержит непосредственную речь автора, призывающего следовать за ним. Это прямое обращение к читателю.
Вставные конструкции: микроуровня малочисленны. Очень часто это вставные единицы безальтернативного типа, представляющие собой неполные восклицательные предложения, и сопровождают речь автора или персонажа. Вставные слова, словосочетания и сочетания слов функцию лирического отступления не реализуют.
Вставки — ЛО воспринимаются только в тексте. В этой роли выступают высказывания, выражающие предельное проявление эмоций говорящего. Например, отчаянное негодование:
— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?) («Записки юн. вр.», г. 1).
Умиротворения:
Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена! О, миг блаженный, светлый час!.. (там же).
Тоски:
...Будет лежать на станции [телеграмма. — И.С.], пока не случится оказия. Знаю я это Горелого. О, медвежий угол! (там же).
Как правило, такие вставки — ЛО сопровождаются междометиями. Иногда эмоции передаются в сатирической тональности, что обусловлено лексикой:
— Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли! («Т. р.», т. 4).
В роли вставок — ЛО выступают парантетические внесения — СФЕ макроуровня, сопровождающие авторскую речь. При наличии лексико-грамматических и ассоциативных связей прослеживается и тематическая общность двух компонентов текстового фрагмента. На материале исследования конкретных текстов М. Булгакова удалось выявить следующие функционально-семантические разновидности парантетических внесений макроуровня в художественном тексте:
— авторское лирическое отступление — парантеза;
— мысль — парантеза;
— сон — парантеза;
— воспоминание — парантеза;
— письмо — парантеза.
Следует отметить, что эти парантезы относятся к безальтернативному типу.
Парантетическое внесение безальтернативного типа при отсутствии грамматических связей с базовым контекстом сохраняет общность тематического плана.
Авторские ДО — парантеза. Например:
Но были и еще жертвы, и уже после того, как Воланд покинул столицу, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты.
Штук сто примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. Десятка полтора котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделения милиции в разных городах. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами.
Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное с вороватым видом (что же поделаешь, что у котов такой вид? Это не оттого, что они порочны, а от того, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, — собаки и люди, — не причинили им какой-нибудь вред или обиду. И то и другое очень нетрудно, но чести в этом, уверяю, нет никакой. Да, нет никакой!), да, так с вороватым видом кот собирался устремиться зачем-то в лопухи («М. М.», т. 5).
Мысль — парантеза, на наш взгляд, понятие философско-лингвистическое и относится к сфере ирреального. Это второй уровень художественного произведения. Зачастую М. Булгаков придает этим вставкам — ДО сатирический оттенок. Сюда относятся ментальные действия: мысли, домыслы, суждения, слухи, умозаключения. Например.
Да еще слухи о земельной реформе, которую измеревался произвести пан гетман, — увы, увы! Только в ноябре восемнадцатого года, когда над Городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана — гетмана, как бешеную собаку, — и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая, мужицкая реформа... и т. д. («Б. г.», т. 1).
Данная парантеза — ЛО безальтернативного типа интересна по своей структуре. Здесь явно слышится голос автора, налицо яркий пример авторского отступления. Вставка — ЛО выражает мысли писателя. По сути дела, это одно авторское суждение, но оно, в свою очередь, осложнено диалогом. Подобное осложнение имеет целью материализовать суждение и, озвучив, подвести его к реальности.
Сон — парантеза — сложное явление в художественном произведении. По сути дела она встретилась лишь единожды в романе «Белая гвардия», где описан сон главного героя. Сон — парантеза принадлежит к числу авторских лирических отступлений. По структуре он представляет собой парантетическое внесение — отрезок текста макроуровня безальтернативного типа. Помимо своей основной функции сон — парантеза в романе играет и сугубо композиционную роль: он явился зачином, предопределением дальнейших событий произведения. Это обуславливает и наличие ассоциативных связей парантез не только с близлежащим контекстом, но и со всем произведением в целом.
В роли вставок — ЛО выступают и СФЕ, состоящие из нескольких абзацев, которые объединены единством темы. К числу таких вставок — ЛО в произведениях М. Булгакова относятся воспоминания. В частности, в романе «Белая гвардия» воспоминания, относящиеся ко второму ярусу повествования, часто графически выделены в виде абзацного отступа. Воспоминание — категория ирреального, устремленная в прошлое по своей содержательной структуре. Вставка — ЛО ретроспективна. Связь с настоящим осуществляется через субъект мысли, коим является в данном случае доктор Турбин.
Письмо — парантеза в роли лирического отступления ко второму уровню произведения не относится. Она легко вписывается в ткань повествования. С воспоминаниями — ЛО его сближает лишь графическая оформленность. Но и эти конструкции несут важную смысловую информацию. Вот пример письма:
Выпавший из рваного конверта листок рубчатой, серенькой бумаги лежал в пучке света.
«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж, вместе с семьей Герц, говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах мужиков. Здесь в газетах пишут, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...» («Б. г.», т. 1).
Письмо показано в отступе и представляет собой ЛО, в котором заложена микротема. Письмо совершенно свободно трансформируется в косвенную речь: Елена из письма узнала, что Тальберга видели в посольстве, он собирается жениться и уезжает в Париж... и т. д. Однако писатель прибегает к использованию вставки. Обратимся к тексту:
Елена ушла с письмом в спальню...» Письмо из-за границы? Да неужели?... И как оно пришло. Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать с оказией... Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата...»
«Такое письмо дойдет» подчеркивает автор и строит новый образ, и уже дальше совсем невозможно заметить о нем вскользь. Еще не зная содержания письма, читатель уже приходит к пониманию того, что в письме — важные сведения, которые перевернули жизнь героини. Автор выделил с помощью письма — ЛО целый пласт дополнительной информации, связанной с предопределениями.
Лирическое отступление — это совершенно новый прием употребления парантез. Благодаря своей автономности в тексте, вставки — ЛО явились новым и оригинальным средством выражения субъективного авторского «Я». Есть основание допустить, что такое синтаксическое явление послужит и для решения более сложных композиционных задач в плане создания художественного текста в том случае, если возникает необходимость изолировать объемные фрагменты в составе целого произведения.
2.7. Тексто- и стилеобразующая функция
Стилеобразующая функция вставных конструкций, на наш взгляд, наиболее ярко предстает в плане изображения той своеобразной философской основы, того особого взгляда на окружающую действительность, которые повлияли на формирование языковой мастерской М. Булгакова. Автор использует целый арсенал лингвистических средств, способов и приемов, посредством которых доносит до читателя важную идею, воздействуя при этом на его мысли и чувства. Из всех потенциальных возможностей языка М. Булгаков отбирает те, которые наиболее ёмко способны отразить его мировосприятие и пробудить в читателе ответную реакцию.
Вставные конструкции не являются единственно принятым писателем средством решения коммуникативных, прагматических и стилистических задач. Вставки способствуют формированию авторского идиостиля наряду с другими лексическими, морфологическими и синтаксическими средствами (рассмотрение этих категорий, впрочем, не входит в сферу изучения предпринятою исследования), но в то же время представляют собой оригинальный и неповторимый способ подачи информации.
Вставные конструкции разной структуры и разного уровня, реализуя стилеобразующую функцию, во многом обеспечивают становление фантасмагорического стиля, который базируется на полуреальном и полумифическом охвате описываемых событий, требует активного задействования огромного числа стилистических решений. Для реализации таких стилистических задач, предопределяющих индивидуальный стиль М. Булгакова, как
— непременное смешение стилистических пластов;
— формирование подтекста;
— построение второго яруса повествования;
параллельное следование двух пространственно-временных пластов, писатель прибегает к широкому использованию парантетических внесений, которые наиболее активно проявляют себя в системе авторской стилистики и способствуют реализации прагматических установок.
Смешение стилей является наиболее распространенным явлением в рамках стилеобразующей функции вставных конструкций. Автор намеренно объединяет различные стилистические пласты с целью создания сатирического, трагикомического или какого-либо иного эффекта, вызванных различными проявлениями эмоций. Это позволяет писателю, во-первых, дифференцировать два яруса произведения, предельно противопоставив один другому; во-вторых, добиваться контраста между персонажами и явлениями объективной действительности и ирреального мира; в-третьих, обособить авторскую речь.
Смешение стилей в рамках стилеобразующей функции вставок наблюдается на обоих структурных уровнях. На микроуровне речь идет не глобальном смешении стилей, какое мы наблюдаем во всеобъемлющем рассмотрении произведений, а лишь о некоторых вариантах стилистических оттенков, эмоциональных тональностей. Стилистическая отнесенность вставного и базового компонентов может не совпадать или совпадать лишь частично; при нейтральном стиле базы вставка может относиться к разговорному, включая элементы просторечья, жаргоны и наоборот. Подобное явление вызвано необходимостью имитировать разговорную речь, что придает речевому произведению элемент сатиры. По отношению к нейтральному возможна комбинация делового, научного, публицистического стилей в пределах базового высказывания, включающего вставную конструкцию. Возможно смешение не стилей, а стилевых черт: образности, эмотивности, интенсивности и т. д. Например, вставные конструкции безальтернативного типа:
«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю («Необ. приключ. док.», т. 1);
— Вчера в этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами сделал (непечатные слова) («М. М.», т. 5).
Вставные конструкции альтернативного тина:
Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно («Малые сатиры», т. 2);
В 7 часов вчера я вырвал Наташу из рук её супруга, пекаря Володи. («Не сметь бить // — Моя жена и т. д.) («Самогонное озеро», т. 2).
Смешение стилей достигается за счет несоответствия форм речи базы и вставки. Вставной компонент может содержать прямую или несобственно-прямую речь, а база — повествование и наоборот:
Сестра послала записную книжку по почте мне с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «о пользе чтения», перепачканные пятнами от слез) («Записки на ман.», т. 1);
Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна — Польша), в Германию... («Б. г.», т. 1).
В сферу интересов предпринятого исследования вошли не только художественные прозаические произведения М. Булгакова, но и частная переписка. Письма писателя, по нашему мнению, представляют собой нечто совершенно особенное, неповторимое явление и в некотором смысле характеризуют стиль самобытного мастера слова.
Выявленные нами особенности индивидуального стиля М. Булгакова в полной мере находят отражение в письмах, потому что они практически не подверглись цензурным купюрам и корректировкам, сохранили исключительно полное проявление писательского таланта. Переписка с языковой точки зрения демонстрирует яркий образец спонтанной, неподготовленной речи и, соответственно, стиля.
Парантетические внесения в письмах писателя выполняют самые разнообразные функции: комментирования, пояснения, отсылки, дополнительного сообщения и т. д. Помимо этой своей классической роли вставки реализуют и все выявленные художественные функции, которые есть суть выражения стилеобразующей функции. Как и в художественной прозе парантезы в письмах влияют на смешение стилей, организуют подтекст, строят второй план повествования и т. д. Во вставках заключена, как правило, всегда только авторская субъективно-эмоциональная оценка описываемых событий. Для демонстрации явления смешения стилей приведем фрагмент из письма М.А. Булгакова А.Д. Попову от 26 июля 1926 года:
Ответьте мне, пожалуйста, Вы — режиссер, как можно 4-х актную пьесу превратить в 3-х актную?!
2-й акт. Кончается демонстрацией (по плану Вашего Совета).
Из задачника Евтушевского: спрашивается, что должно происходить в 3-м (последнем?!) акте?!
Новую трехактную пьесу я писать не буду. Я болен (во 1-х), переутомлен (во-2-х), в 3-х же, публика, видевшая репетицию, совершенно справедливо говорит мне:
«Не слушайте их (Совет, извините!), они сами во всем виноваты».
Но у меня нет театра! (К сожалению!!)
Одна возня с кутежом может довести до белого каления (изволь писать новый текст для 4-го акта и для 3-его!!).
Я еще молчу о том, что у меня безжалостно вышибали (и без всякой цензуры!) лучшие фразы из текста.
А публика (квалифицированная, отборная, лучшая — театральная!) говорит, что я даром себя мучаю.
Я надеюсь, что Вы не будете на меня в претензии за некоторую растрепанность этого письма. Я очень спешу (оказия в Москву), я переутомлен.
На днях я студийской машинистке начну сдавать для переписки новую «Зойкину». Если не сдохну. Если она выйдет хуже 1-й, да ляжет ответственность в этом на нас всех! (Совет в первую голову!)
На художественное восприятие текста оказывает влияние подтекст булгаковских произведений. Значителен своей семантической наполненностью подтекст в текстах повышенной концептуальной сложности, к числу которых относятся повести и романы М. Булгакова. Мощный пласт подтекста формируется в произведениях писателя путем вовлечения «фоновой информации» и внутритекстово — в процессе взаимодействия речевых единиц различного уровня. Первая тенденция проявляет себя в запрограммированной автором направленности текста к ассоциативному мышлению читателя, причем глубина восприятия подтекста читателем измеряется его интеллектуальным и эмоциональным уровнем.
Вставные конструкции участвуют в создании подтекста, в котором заложена имплицитная информация об авторе или персонаже. Для доказательства этого тезиса проведем эксперимент на примере фрагмента текста, включающего вставки, взятый из «Записок юного врача».
Текстовый оригинал записи врача:
«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол. (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полости (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».
Для создания подтекста наиболее оптимальными являются парантетические внесения безальтернативною типа, связанные с базовым контекстом на основе бессоюзного присоединения. Этим вставкам присуще субъективно-модальное значение достоверности.
В данном примере раскрытию имплицитного смысла отрезка текста способствуют короткие, обрывочные фразы, незаконченные предложения, сокращенные слова с языковой точки зрения, а также отсутствие стилистического порядка, спонтанность изложения мысли с точки зрения логики. Все это даёт основание предвидеть психологическое состояние писавшего с явно негативной эмоциональной реакцией страха за жизнь человека. Текст в совокупности со «скобочной» информацией позволяет, во-первых, визуально представить записку. Во-вторых, ощутить состояние трагического отчаяния человека беспомощного что-либо предпринять для спасения женщины. Имплицитная информация заключена и в авторских вставных комментариях, сопровождающих записку. Два раза употреблено слово «зачеркнуто», «подпись неразборчива». От автора исходит субъективная оценка явления. Выделяя графические особенности записки, автор подчеркивает эмоциональное, а, если точно, психическое состояние пишущего. Зачеркивание в данном случае не является знаком ликвидации ошибки, либо неточности, либо неудачного стилистического выбора. Но, зачеркивание — знак состояния. А ведь о состоянии пишет и сам доктор.
Произведем некоторые изменения, убрав вставные вкрапления:
«Уважаемый коллега! Прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор N.»
Теперь полностью изменилась эмоциональная направленность текста. Автор записки как бы только констатирует факт несчастного случая, но в подтексте все-таки улавливается имплицитная информация. Во фразе «справиться не могу» — страх и отчаяние от бессилия налицо. Тем не менее читателю уже труднее уловить какой-либо намёк на душевное страдание и безысходность создавшегося положения. Отсутствие авторского комментирования затрудняет раскрытие имплицитного смысла фрагмента текста и ограничивает предпосылки для реализации прагматических задач.
В последнем эксперименте представим текст согласно заложенной во вставках информации, опираясь на визуальную основу, но вставки по-прежнему исключим:
«Уважаемый коллега! Умол. прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полости из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)»
Теперь не требуется добавочных замечаний, чтобы понять состояние пишущего. Между первым (авторским) и третьим (трансформированным) вариантами можно поставить знак равенства. Целесообразность же использования скобок заключается в том, что не возникает ощущения чтения черновика с правками и исправлениями. Следовательно, вставные конструкции играют немаловажную роль в организации подтекста, а в плане языковой реализации в некотором смысле «экономят» текст, отведя автору минимальное композиционное и максимальное модально-оценочное местоположение в тексте.
Вставные конструкции играют важную роль в системе структурно-композиционного строения текста. Сложная организация прозаических произведений М. Булгакова требует комплексного подхода для решения этих вопросов. Индивидуальный стиль писателя допускает одновременное следование нескольких линий повествования, которое тем самым приобретает ярусный характер. Два и более повествовательных направления как бы вплетаются друг в друга, но в то же время самоотграничены различными смысловыми рамками. Базовый контекст составляет общую канву повествования, парантетические внесения берут на себя нагрузку дополнительной, но параллельно следующей информации. Это позволяет избежать смысловой «путаницы» и экономно ввести в текст громадный пласт новой информации.
С помощью вставных синтагм строится второй, надповествовательный ярус, который вступает во взаимодействие с первым ярусом, собственно повествованием, роль которого играет базовый контекст.
Способность парантез переводить смысл высказывания на другой ярус позволяет совмещать в тексте не только разные формы речи, но и разные планы повествования. В тексте могут совмещаться как событийные, так и временные планы:
Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский — Бионкур (Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: «Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!») и итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году («Т. р.», т. 4);
Кратко опять — таки: за фанерной перегородкою был брат Рвацкого (Рвацкий уехал за границу через десять минут после подписания договора со мною — помните плацкарту?) (там же);
Врать не стану, по всем четырем векселям я получил, правда, не сполна, а меньше (до срока их выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а до половины! Рвацкий исчез. Это так, но не через месяц, а в тот же день. И, понимаете, с тех пор я его не видел никогда (однако, надеюсь, что рано или поздно увижу, если буду жив) («Тайному другу», т. 2).
Парантетические внесения как выразители авторского «Я» способствуют изоляции места автора в художественном тексте так, что авторская субъективная оценка происходящего воспринимается автономно:
И вот он говорит:
— Мальчик, мальчик... А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь («Воспаление мозгов», т. 2);
Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином (я сам её читал) и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится 2 гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был, несомненно, одним из двух гениев («Паршивый тип», т. 20).
Авторская речь в рамках второго яруса может содержать лирическое отступление во вставке:
Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты — чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя — московские нищие! Родился НЭП в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный в дырах с гнусавым голосом и сел на всех перекрестках, заныл у подъездов, заковылял по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба! («Столица в блок.», т. 2).
Часто встречаются ситуации, когда вставные конструкции позволяют совмещать речь героя (внешняя речь) и его размышления (внутренняя речь). Использование парантетических внесений позволяет сохранить характеристику персонажа «изнутри» (различными способами передачи чужой речи) и «извне» (при помощи авторской речи). Персонаж, таким образом, предстает в двояком аспекте:
— Он говорил, что этот роман никуда не годится, — холодно ответил Рудольфи и перевернул страницу. («Вот какая сволочь Ликоспастов! Вместо того, чтобы поддержать друга и т. д.») («Т. р.», т. 4).
Возникает вопрос, конечно, и прежде сего он возникает у меня самого — почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь) не сделал вторичной попытки лишить себя жизни (там же).
Помимо этого вставные конструкции выносят на второй ярус повествования такие художественно-выразительные явления, как:
а) картинность изображения:
— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальни, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухарка и муж её, бессменный сторож больницы) («Записки юн. вр.», т. 1);
б) «голос за кадром»:
Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор её предлагал ударить, и крепко ударить; по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) её в печать («М. М», т. 5);
в) реальность действия, события:
Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд приедет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... («М. М.», т. 5).
Вставные конструкции способны переносить на второй ярус целые микротемы, которые несут информацию о явлениях мыслимых, но объективно не существующих в материальной мире. В романе «Белая гвардия», например, строго фиксировано чередование двух времен, что приводит к логичности изложения. Базовый контекст прерывается объемными вставками — лирическими отступлениями, которые повествуют о снах, воспоминаниях, содержат сентенции и рассуждения автора, выдержки из Библии. Значительны по своей содержательной и смысловой значимости парантетические внесения, которые указывают на образ ночи, звезды, вьюги. Парантезы этого типа с базовым контекстом связаны лишь семантически. Вставка макроуровня представляет собой микротекст в составе базовой части главы. Приведем пример такой главы, где вставным компонентом является фрагмент из Библии. Тот факт, что это вставленный микротекст доказывается тем, что с предтекстом парантеза формально связана лексически, но связь здесь более глубокая и восходит к ассоциативному мышлению.
Декодирование смысла всего текста, включающего микротекст, происходит с учетом ретроспективного перехода в повествовательную канву романа и проспекции, восходящей к фоновым знаниям адресата:
Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевенькой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.
«И увидел я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».
По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.
Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов:
«...слезу с очей их, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Парантетические внесения обеспечивают параллельное следование двух пространственно-временных планов повествования. Это явление глобальное по своей структуре, на котором, подобно стержню, располагается сюжетный пласт текста. М. Булгаков в зависимости от своих стилистических замыслов вынужден перемещать действие и героев во времени и пространстве, а для поддержания пространственно-временных координат писатель использует так называемую «закрытую антитезу» микротем. Для того, чтобы её обнаружить, нужно провести всеобъемлющий анализ всего текста. Для демонстрации этого тезиса рассмотрим структурно-композиционное строение романа «Белая гвардия», где автор важную роль отводит вставкам.
Каркас «Белой гвардии» состоит из витков двух взаимоперекрещивающихся спиралей. Одна несет позитивно-эмоциональную информацию, другая — негативно-эмоциональную. Каждый виток спирали представляет определенную микротему. Их в романе обнаружено четыре: реальность-миф; микрокосм-макрокосм; тьма-свет; смерть-жизнь. Микротемы составляют антитезу, на которой строится повествование. Они выявляются на основе слуховых ассоциаций. На слух улавливаются по эмоциональному значению и по смыслу похожие слова и выражения, которые выстраиваются в ассоциативный ряд. Слова и выражения строятся в две колонки в зависимости от того, какую оценку, позитивную или негативную, они вызывают. В качестве примера приведем анализ 20 гл. III ч. (Глава выбрана произвольно в связи с тем, что любая глава романа может быть подвергнута анализу; результат так или иначе приведет к общему выявлению микротем). Например, каким образом выявлена микротема «тьма-свет».
|
Позитив |
Негатив |
|
червонные поля ночь расцветала (2 раза) милое солнышко солнышко сияло голубоватые лучи сусальная звезда солнечный шар покрылась звездами алмазный шар зеленый луг |
черное небо черная даль гуща ночи черная и синяя высь тьма погасли огни углубляющийся во тьму смутная мгла тяжелая синева |
На основе этих двух синонимических рядов позитива и негатива отчетливо выделяются доминанты: солнечный — черный. Это цветовые ощущения. Понятия абстрагируются, и появляется микротема «тьма-свет», которая наряду с другими микротемами проходит через весь роман (схематично структуру «Белой гвардии» представлена на рис. 3).
Антитеза микротем составляет основу романа. Нам представляется целесообразным ввести понятие «закрытая антитеза», т. к. в данном случае она заключается в совершенно определенные рамки, ограниченные семой «звезда» с одной и другой стороны. Символом звезды начинается роман, им же и заканчивается. Явление «закрытой антитезы» мы впервые обнаружили в произведениях М. Булгакова.
Сложные по структуре вставные конструкции используются для изображения вечного (космического) времени с его категориями мифического, следовательно, ирреального. Вставки на основе логико-ассоциативной связи объединяют текст, и уже на этой основе они способствуют поддержанию антитезы созданных автором микротем.
Малое историческое время реализуется в процессе линейного развертывания повествования. Это базовый контекст, первый ярус, которому присуща объективная модальность реальности. Большое вечное время — второй, надповествовательный ярус, объединенный с базовым контекстом тематически и ассоциативно при наличии «закрытой антитезы».
Рис. 3
В языковом выражении большое время реализуется за счет использования разноструктурных вставных конструкций макроуровня. Жизнь, свет, макрокосм, миф находят отражение в парантетических внесениях, повествующих о воспоминаниях (гл. 1, с. 263), философских размышлениях (с. 426), снах (с. 233), многочисленных записях, восходящих к проспекции и ретроспекции (с. 183, 205, 290). Категории вечного времени взаимодействуют с категориями времени исторического (базовый контекст). Здесь находится описание реальных событий, происходящих в Городе, начало военной агрессии на Украине, кровопролитие, смерть, здесь же и жизнь семьи Турбиных, главных героев романа.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в результате использования таких синтаксических конструкций, как парантетические внесения, появляются дополнительные (при этом весьма специфические) возможности в организации художественных текстов.
Выводы
Характерной особенностью идиостиля М. Булгакова является фантасмагоричность, проистекающая из реальной философской основы, которая допускает одновременное существование материального и мистического начал в объективном мире. Для изображения действительности этот писатель прибегает к таким приемам, как:
— непременное смешение стилей;
— введение имплицитной информации в рамках подтекста;
— формирование двух и более пространственно-временных планов (хронотопов) повествования, следующих параллельно друг другу;
— создание образов-символов как вымышленных, так и реальных.
Употребление вставных конструкций как одного из таких способов повествования и описания является неотъемлемой чертой идиостиля М. Булгакова. Использование этих синтаксических единиц является для писателя нормой. Вставка способствует решению коммуникативных и прагматических задач.
С их помощью автор добивается решения и стилистических задач. Будучи оригинальным способом подачи информации, парантезы приводят к усложнению структурно-композиционной системы художественного произведения, что свидетельствует об их роли в текстообразовании.
2. На основе анализа художественных произведений М. Булгакова выявлены функции вставных конструкций в художественном тексте, которые делятся на две большие группы:
— доминирующие функции — информативная, характерологическая, экспрессивно-прагматическая, ретроспективно-проспективная, стилеобразующая.
— периферийные — функция ремарки и лирического отступления.
3. Любая вставка по своей содержательно-смысловой структуре информативна. Информативная функция наиболее типична для вставных конструкций, так как реализует основное назначение вставки (указывать на источник информации, субъект и адресат речи, пространственно-временную отнесенность) и дополнительное (уточнение, пояснение, выделение, дополнение). В структуре микроуровня информативная вставка выражает обстоятельственные значения, причинно-следственные отношения, выступает как средство расшифровки понятия. На макроуровне она играет роль документальной отсылки, комментирует авторский текст, внося сопутствующие замечания.
4. Вставные конструкции, реализующие характерологическую функцию, используются с целью выделить признак субъекта или объекта действительности, подчеркнуть внутреннее или внешнее его проявление. Характерологические вставки от автора сопровождают речь персонажа при прямой или несобственно-прямой речи. Они обнаруживают тематическую связь с базовым контекстом, формально объединяясь с базой на основе лексической связи. Эти вставные единицы выражают различные обстоятельственные значения, приобретают оттенок усиления, обобщения, сравнения и являются экспрессивно окрашенными.
5. Парантетические внесения используются как средство интенсивного воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферы адресата. Вставка экспрессивна по своей сути. Её экспрессия основана на таких критериях, как: обрыв повествования или самоперебив автора, различие в коммуникативной направленности базового и вставного высказываний, несоответствие стилей, лаконизм и предельная краткость вставки. Экспрессивность вставных конструкций проявляется на текстовом уровне.
6. Парантезы в художественном тексте призваны перемещать повествование в пространственно-временном плане, таким образом вставка выполняет ретроспективно-проспективную функцию. Ретроспекция и проспекция выступают выразителями художественного времени. Для реализации перехода из одной пространственно-временной плоскости в другую автор использует композицию, паралингвистические средства, лексическую систему и логико-ассоциативные отношения. Парантезы относятся к разряду стилистических приемов, выражающих в художественном тексте категорию темпоральности. Ретроспективные и проспективные вставки восстанавливают в полном объеме факты прошлого и будущего по отношению к настоящему, апеллируют к фоновым знаниям читателя с целью сопоставления реалий текста с жизненным опытом, актуализируют отдельные части текста.
7. Выполняемая вставкой функция ремарки является наиболее своеобразной чертой индивидуального стиля М. Булгакова. Прозаические ремарки, отличные от драматургических, несут указания на эмоционально-психологическое состояние персонажа. Вставки-ремарки исходят от лица автора и сопровождают диалог или прямую речь. В разряд вставок-ремарок входят парантезы микро- и макроуровня, которые акцентируют определенные явления действительности, но при этом сохраняют предельную автономность по отношению к включающему контексту. Вставки безальтернативного типа — самый распространенный вид ремарки в прозаических произведениях писателя и играют, главным образом, сопроводительную роль в структурно-содержательной канве произведения.
8. Лирическое отступление в виде вставки представляет собой микротему в составе базового контекста и характеризуется сложной организацией форм речи. Вставка — ЛО является принадлежностью макроуровня и функционирует в форме монолога, аутодиалога. Связь вставки — ЛО с базой осуществляется за счет синтаксических, лексико-грамматических средств и ассоциативных отношений. Этой синтаксической структуре присуща субъективно-оценочная модальность, она может выражать различные эмоциональные реакции. В произведениях М. Булгакова вставки — ЛО представлены функционально-семантическими разновидностями: авторское лирическое отступление — парантеза, мысль — парантеза, сон — парантеза, воспоминание — парантеза, письмо — парантеза.
9. Выразителем авторского индивидуального стиля, а также всех потенциальных стилистических возможностей вставных конструкций в художественном тексте выступает тексто- и стилеобразующая функция. Парантетические внесения, реализуя стилеобразующую функцию, способствуют проявлению авторского идиостиля. Для реализации стилистических и прагматических задач, таких как: непременное смешение стилистических пластов, формирование подтекста, построение второго яруса повествования, параллельное следование двух пространственно-временных планов автор широко использует вставные конструкции в рамках данной функции.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |