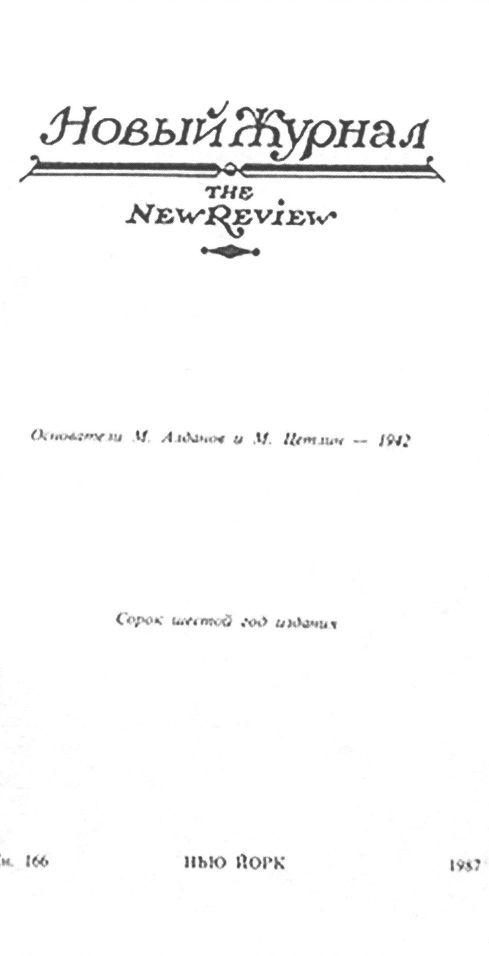О мертвых или ничего, или правду...
С глубоким отвращением и даже омерзением приступаю к этой работе, которую откладывал долгие годы, хотя друзья и коллеги всё время торопили: ну, давай же, пиши, наконец...
Но приходилось по крупицам собирать факты, беседовать со многими людьми, пробиваться в учреждения, которые очень неохотно раскрывают свои архивы. И вот час настал...
Моя задача — очистить Михаила Булгакова от той грязи, которой пытались умышленно или не умышленно запачкать его образ недобросовестные воспоминатели. А теперь вот и многочисленные публикаторы выискивают в его биографии какие-то «темные пятна», причем очень многие ссылаются на воспоминания Сергея Ермолинского, принимая их за чистую монету. Ну, как же — был его другом, да к тому же еще и пострадавшим за эту дружбу...
Как это ни прискорбно, они ошибаются. Верить воспоминаниям Сергея Ермолинского нельзя, несмотря на их кажущееся правдоподобие. Не надо забывать, что он был опытный литератор, сценарист, создавший много сценариев, несколько пьес, какие-то повести и рассказы. Этот свой опыт беллетриста он использовал очень изощренно, а как известно, чем ближе ложь к правде, тем она опаснее.
Воспоминания его можно разделить на три части... Первая — статья в журнале «Театр» № 9 за 1966 год, вторая — записки о Булгакове в книге «Драматические сочинения» — 1982 года, и книга «Из записок разных лет», вышедшая в издательстве «Искусство» в 1992 году. Была еще публикация в журнале «Современная драматургия» (1988—89 гг.), но это была вторая часть его записок, затем вошедшая в книгу 1992 года, началом которой стали записки 1982 года.
Да простит меня читатель за то, что я перефразировал правило древних — «О мертвых или хорошо, или ничего». Нет! Или ничего, или правду. Это совершенно необходимо — от умолчания плохого в делах покойного могут пострадать живые люди или другие покойники. Именно так происходит в нашем случае: искажается правда о великом русском — российском — писателе...
Статья в журнале «Театр» была опубликована при жизни Елены Сергеевны Булгаковой, и там Ермолинский еще проявлял определенную осторожность, а далее уже поступал так, как ему вздумается, не оглядываясь на столь опасного свидетеля.
У меня есть одно очень неудобное свойство: я чувствую, когда человек говорит неправду или пишет ее. Но тут у меня неожиданно произошла осечка: во время первой встречи с Сергеем Александровичем Ермолинским (далее — Е.) я этой неправды не уловил. Вероятно, это было связано с тем, что я, как и многие другие, был загипнотизирован разговорами о том, что он был главным другом Булгакова и пострадал из-за него, — иначе говоря, был арестован со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Встреча наша состоялась в июне 1983 года. Я пришел со многими вопросами, потому что тогда еще почти ничего не знал о Булгакове и только подступал к изучению его жизни и творчества. Сергей Александрович сказал, что мне надо сначала прочитать его книгу, и тогда мои вопросы отпадут сами собой... Так как в этот момент он собирался уезжать на все лето в Переделкино, мы договорились встретиться осенью...
Встретились мы в октябре, и вопросов только прибавилось. Он отвечал обстоятельно и веско, но всё, что я тогда записал, к теме сегодняшнего разговора не относится, кроме одного эпизода, к которому мы еще вернемся. Задать всех вопросов я не успел — пришла компания студентов, — конечно, говорить о Булгакове, и я ушел, рассчитывая на следующую встречу. Но она не состоялась. В его книге (а это были «Драматические сочинения») я почувствовал неправдоподобие трех эпизодов, а когда прочитал статью в журнале «Театр», то обнаружил столько странных моментов, что должен был сначала во всем этом разобраться. Поговорить с Е. я уже не успел — через четыре месяца после нашей последней встречи его не стало.
Но о том, как я с этими вопросами разбирался, поговорим позже, а сейчас займемся той частью его книги, которая рассказывает об аресте и всем, что за ним последовало...
Итак, воспоминания Е. состоят из двух частей — первая должна показать, что он был главным, самым близким другом Михаила Булгакова, как бы его душеприказчиком, а вторая — рассказать о том, как он из-за этой дружбы пострадал... В какой момент он придумал и распространил эту версию, точно установить невозможно, но представлена она была весьма своевременно...
Начнем со второй версии — «Пострадал из-за Булгакова...».
Буквально с первой страницы Е. вводит нас в курс событий, связанных с арестом. Еще даже не было первого допроса, а перед ним уже разыграли целый спектакль:
Тут действовали, как я теперь понимаю, по одной и той же нехитрой, но хорошо отработанной системе. Выдержав положенное время, меня сразу провели в чей-то просторный ковровый кабинет. В его режуще-солнечном свете (я стоял против окон) передо мной возникли силуэты военных в энкаведистской форме, мне показалось, что их очень много, и все они почему-то, едва я вошел, стали громко кричать на меня. Они кричали негодующе, перебивая друг друга, словно нарочно создавая сутолоку из голосов, но из их крика я все же понял, что меня обвиняют в наглой пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью, так называемого писателя Михаила Булгакова, которого вовремя прибрала смерть. Как я ни был сбит с толку, но все же пытался объяснить, что ни я, ни Союз писателей не считаем Булгакова контрреволюционером и что, напротив, мне поручили привести в порядок его сочинения, имеется специальное постановление, и что я... Несвязные обрывки моих объяснений вызывали всеобщий хохот, меня тотчас прерывали и опять, словно состязаясь друг с другом, кричали, пока кто-то коротко не приказал: «Уведите его. Пусть подумает».
Можете себе представить: перед Е. разыгрывают такой балаган, в то время как других подследственных просто жестоко избивают, доводя до полуживотного состояния, как это произошло с Всеволодом Мейерхольдом и другими деятелями искусства и литературы... Тут не церемонились ни с маршалами, ни с генералами — уже в приемной с них срывали ордена и все знаки различия и демонстративно швыряли в мусорную корзину... А вот Е. почему-то за всё время следствия ни разу не били...
Пострадал из-за Булгакова — это легенда, он тут был вообще ни при чем — в постановлении об аресте он даже не упоминался. Значилось, что поводом для ареста Ермолинского явилось «участие в контрреволюционной группе работников искусства». Булгаков в этой группе состоять не мог, потому что его уже восемь месяцев не было в живых.
Уточнить этот момент я попросил Виктора Николаевича Ильина, бывшего в 1940 году начальником отдела НКВД, «ведавшего» творческой интеллигенцией, в том числе — писателями. Разговор состоялся 10 марта 1988 года. Вот что он сказал: «Обвинений ему (Ермолинскому. — Ю.К.) по Булгакову не предъявлялось, и арестован он был вне связи с Булгаковым. Булгаков для нас интереса не представлял, никаких претензий к нему у нас не было. Поэтому и Лямину при аресте ничего такого не предъявлялось, и о Михаиле Булгакове его не спрашивали. Если бы были зацепки за Булгакова, тогда бы спросили...».
И это правда: несмотря на слежку и досье (а они велись по отношению ко всем видным деятелям литературы и искусства) Булгаков их действительно не интересовал. Доказательство тому: Елену Сергеевну Булгакову ни разу не побеспокоили, на архив писателя лапу не наложили...
О причине ареста Е. мне рассказала его жена Мария Артемьевна (их брак длился с 1929 по 1956 год), которую в кругу друзей и знакомых звали просто Марикой. Так и будем ее называть, для краткости. Шел разбор работы над фильмом «Танкер Дербент», сценарий которого написал Е. Председатель комитета по кинематографии Большаков раскритиковал сценарий, сказав, что Е. исказил повесть Крымова, по которой этот сценарий делался. Е., не сдержавшись, назвал его болваном. И через месяц был арестован. Вот и вся предыстория...
Теперь обратимся к протоколам допросов...
Разумеется, Е. расспрашивали обо всех, с кем он общался, в том числе и о Булгакове. Процитируем:
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Гор. Москва. 11 марта 1941 г. Военный прокурор Главной Военной Прокуратуры, военюрист 2-го ранга — ХАРНАШОВ допросил в качестве обвиняемого ЕРМОЛИНСКОГО Сергея Александровича. Допрос начат в 13 час. Допрос окончен в 16 час.
Вопрос: С какого времени вы работаете киносценаристом?
Ответ: В 1925 г. я окончил МГУ — факультет общественных наук, затем работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», а с 1927 года и по день ареста я работал сценаристом.
Вопрос: Расскажите о вашей связи с БУЛГАКОВЫМ.
Ответ: С писателем БУЛГАКОВЫМ я познакомился в 1929 году у него на квартире через его жену БЕЛОЗЕРСКУЮ. В первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко. Примерно с 1931—1932 г., когда БУЛГАКОВ женился второй раз — на ШИЛОВСКОЙ, я с ним стал встречаться чаще, и в результате этих встреч у меня с ним установились дружеские отношения. За 3—4 года до его смерти (умер он в 1940 г.), я встречался с ним значительно чаще, бывал у него на квартире, где встречал дирижёра Большого театра МЕЛИК-ПАШАЕВА, художника ВИЛЬЯМСА Петра Владимировича и художника ДМИТРИЕВА.
Кроме указанных лиц, у БУЛГАКОВА я встречал ряд актеров, главным образом Художественного театра.
При посещении квартиры БУЛГАКОВА велись разговоры главным образом на театральные темы. В разговорах за последнее время БУЛГАКОВ увлекался СТАЛИНЫМ. Во всех разговорах БУЛГАКОВ очень хорошо отзывался о СТАЛИНЕ.
Никаких антисоветских разговоров на квартире у БУЛГАКОВА не проводилось, во всяком случае, я на таковых не присутствовал...».
Было еще несколько вопросов о Булгакове, даже не о нем самом, а в связи с его произведениями, которые, наряду с другими «нежелательными» книгами, изъяли у него при обыске, а также о людях, посещавших Булгакова. Вот, что отвечал Ермолинский:
— На квартире собирались нерегулярно. У Булгакова были одни и те же лица — Мелик-Пашаев, художник Вильямс Петр Владимирович, художник Дмитриев Владимир Владимирович... Несколько раз я встречал Качалова Василия Ивановича, Сахновского Василия Григорьевича, Станицина Виктора Яковлевича, Хмелева Николая Петровича. Литовцеву — жену Качалова, Яншина Михаила Михайловича, Маркова Павла Александровича, Виленкина Виталия Яковлевича и других.
Вопрос: Что их объединяло?
Ответ: Совместные театральные работы, отдохнуть, повеселиться, главное — театральные темы. На политические темы разговоры не велись... Булгаков мой лучший друг...
И о произведениях:
Вопрос: Произведение БУЛГАКОВА «Роковые яйца» вы читали?
Ответ: Произведение «Роковые яйца» БУЛГАКОВА я читал, когда оно было помещено в альманахе «Недра».
Вопрос: Каково ваше мнение о этом произведении?
Ответ: Я считаю «Роковые яйца» наиболее реакционным произведением БУЛГАКОВА из всех, которые я читал.
Вопрос: В чем заключается реакционность произведения «Роковые яйца»?
Ответ: Основной идеей этого произведения является неверие в созидательные силы революции.
Вопрос: О своем мнении вы как писатель (!) сообщали в соответствующие органы?
Ответ: О реакционном содержании произведения «Роковые яйца» я никуда не сообщал потому, что произведение было опубликовано в печати.
Вопрос: С БУЛГАКОВЫМ вы говорили о контрреволюционном содержании этого произведения?
Михаил Булгаков с четой Ермолинских
Ответ: «Роковые яйца» были опубликованы задолго до моего знакомства с БУЛГАКОВЫМ, поэтому разговоров по существу произведения не было, но я помню, что БУЛГАКОВ говорил мне о том, что «Роковые яйца» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе, он стал рассматриваться как реакционный писатель...».
Всё! Больше Булгаков в деле не фигурирует и не упоминается. Это всё, что о нем было сказано за два года следствия... Подробно расписанные дальнейшие, якобы, допросы — это чистой воды беллетристика, сочиненная с единственной целью: многократно подтвердить, что он пострадал из-за Булгакова. Причем вставлены весьма хитрые фразочки, вроде реплики следователя:
Тебе, как лучшему другу, нужно толково, без длинных рассуждений и объективно изложить антисоветскую атмосферу в доме Булгакова...
Читать всё это тягостно, да, честно говоря, и противно, особенно возмущают грязные матерные слова в адрес Елены Сергеевны и жены Е. Марики, якобы сказанные следователем. Да если бы такое и было на самом деле, то и тогда недопустимо было бы повторить в своем сочинении такую мерзость. Но ему казалось, что это добавляет убедительности...
Далее он живописует свои военные «наблюдения»:
Ночью гудели пролетавшие самолеты.
И стало ясно, что началась война. Об этом нельзя было не догадаться, хотя мы ничего не знали, что делается за нашими стенами. Самолеты гудели еженощно, они летели низко, казалось, над нашей крышей, и слышались разрывы отдаленных бомб. Значит, война подступала чуть ли не к самой Москве?
Эта тирада свидетельствует о том, что во время бомбежек в Москве он уже не был, иначе знал бы, что немецкие самолеты летали на очень большой высоте, до них даже зенитки на доставали, да и нельзя им было низко летать — над городом были подняты аэростаты заграждения, тросы которых представляли своеобразный частокол, соваться в который самолетам, да еще в ночной темноте было невозможно... Я все бомбежки провел в Москве на крыше своего дома и знаю это, как говорится, «из первых рук». Кажется, в августе была попытка спикировать, но крыло этого бомбардировщика срезало как ножом, и он рухнул в Москва-реку. Экипаж этого пикировщика оказался сплошь из асов — все четверо были увешаны орденами и медалями за бомбардировки Норвегии, Лондона, других европейских городов. Видимо, поэтому они были столь самонадеянными, что пренебрегли заграждением. А сам самолет потом выставили на Театральной площади, и мы ходили на него поглазеть...
А вот еще интересное описание событий:
Это был грозный октябрь 41-го года... По глухим, без единого огонька, московским улицам тащилась группа арестантов, сопровождаемая конвоем, с собаками. Шли тесно. Шаг в сторону — или выстрел, или растерзает овчарка. (Сказка для легковерных — арестованных по Москве так не водили, да еще с собаками, да еще со стрельбой в случае побега, не говоря уже о том, что с наступлением темноты почти всегда объявлялась воздушная тревога, и куда тогда бы девать арестованных? — Ю.К.) Небо было темное, беззвездное. Мы очутились где-то на окраине, у полотна железной дороги. На запасных путях, далеко от станционных построек, нас ожидал столыпинский вагон, прицепленный к какому-то товарному составу, и нас стали загонять в вагон. Мы его заполнили до отказа — стояли, и нельзя было шевельнуться. Прокричал маневровый, стукнули буфера, и наш вагон двинулся. Поверх голов, приподнявшись на цыпочки, сжатый со всех сторон, я видел зарешеченное окно, в нем промелькнули силуэты каких-то зданий, потом они исчезли, стало еще темнее, а затем чуть высветлило, и вагон остановился. (Еще одна несуразность: так высоко окно находилось в товарных вагонах, а в столыпинских оно было на обычной высоте, только зарешеченное и закрашенное. — Ю.К.)
Вдруг вспыхнули огни, похожие на праздничный фейерверк, а в вагоне люди ни с того ни с сего задвигались, потекли. Общей волной вынесло и меня. Я очутился на воле. Поезд стоял недалеко от станции Перово. (Откуда это ему известно, раз дело происходило ночью, да еще и при светомаскировке? — Ю.К.) Передо мной открылась зловещая картина воздушного налета. Низко над нами с звеняще-грохочущим звуком пронесся пикирующий немецкий самолет. Небо прорезали белые щупальца прожекторов, скрещивая лучи во всех направлениях, вылавливая в небе вражеских бомбардировщиков. Они метались, как воронье, ускользая от этих лучей. Красные трассирующие пули возникали там и здесь, падали вниз зажигалки, где-то за станционным зданием взорвалась фугаска, а невдалеке от железнодорожных путей загорелся деревянный сарай, вспыхнул, сразу охваченный ярким пламенем... Мы стояли у вагона, не двигаясь. Никого из наших конвойных не было. Все они бежали. И ни одного человека не было вокруг. Только мы — прибившиеся к арестантскому вагону, а над нами — адское небо. Никто и не думал шагнуть дальше. Бежать? Да ведь проще простого! Но куда? Каждый из нас понимал, что первый же патруль захватил бы любого из нас и расстрелял на месте. Никто не сомневался в этом. Удары зенитных орудий нарастали, и стервятники, взмывая в небо, рассыпались в разные стороны и уходили. Казалось, уже вся станция пылает. Зарево пожаров окружало нас... Светало. В наступившей тишине появились, наконец, перепуганные стражи, призванные нести бдительную охрану «врагов народа», и спешили к нашему вагону. Мы встретили их издевательским гоготом и, не ожидая окриков, сами полезли в вагон, спрессовываясь, нажимая друг на друга!
Снова вымышленный воздушный налет — опять летят низко, да еще прогремел пикирующий самолет — а откуда ему известно, что он пикирующий, если просто пролетел, а не спикировал? И как можно было вылавливать в небе немецкие самолеты, разлетавшиеся в панике, как воронье, если к Москве прорывались только одиночные самолеты и никогда группами? И как вообще они могли бы лететь группой в кромешной тьме? И уж самое главное неправдоподобие в истории с вагоном. Не могли они из него «вытечь». Е. просто не знал, что такое столыпинский вагон, который устроен как купейный, только вместо передних стенок и дверей у него решетки. Арестантов загоняют в первое (или последнее) купе и оно запирается на замок, потом в следующее, и так до полной загрузки. Проход же остается свободным, и по нему ходит охрана. И где бы она могла находиться, если бы вагон был набит «под завязку»? Не могли бы они «вытечь» и из товарного вагона, имевшего тормозную площадку, на которой располагалась охрана: его дверь задвигалась, накидывалась щеколда, которая запиралась на висячий замок.
А уж то, что охрана разбежалась, да еще в военное время, — так это верный трибунал и — марш за проволоку. Упустивший арестанта охранник занимал его место... Такое вот было правило. И не могло этого быть даже в середине октября: все подследственные были этапированы из Москвы еще раньше, а в октябре, когда немцы стояли уже под самым городом, в одну из ночей всех, кого не успели вывезти, расстреляли безо всякого суда...
В свете вышеизложенного у меня возникли сомнения по поводу того, как и когда Е. вывезли из Москвы, и тут обнаружилась еще одна странность в его деле: там не указаны даты убытия из Москвы и прибытия в саратовскую тюрьму. За разъяснениями я обратился к Марике. Разговор наш состоялся 14 сентября 1988 года. К этому времени в журнале «Современная драматургия» были напечатаны отрывки из будущей книги, касающиеся его ареста, но уже шла перестройка с гласностью, и вдова Е., Татьяна Луговская, предоставила журналу этот материал.
Вот, что рассказала Марика:
«31 мая 1941 года меня вызвали на Лубянку. Приехал за мной молодой человек и сопроводил через шикарный подъезд в какой-то кабинет. Потом повел меня к «старшему товарищу». Им оказался Виктор Николаевич Ильин, которого я знала ранее по «светским встречам», — я в ту пору снималась в кино и вращалась в определенном кругу творческой интеллигенции. Ильин расспрашивал меня о разных вещах, я попросила перевести Ермолинского из Лефортова обратно во внутреннюю тюрьму, где условия содержания были значительно легче. Он это в тот же день выполнил. Мне была разрешена ежемесячная передача десяти рублей. И еще он попросил этого молодого человека, назвав его по фамилии — Ляшенко — дать мне свой телефон, чтобы я не ходила на Кузнецкий получать информацию, потому что там надо было ждать часами. А через три недели началась война. После первой учебной воздушной тревоги мне позвонили и сказали, чтобы я принесла Ермолинскому летние вещи, — арестовали его зимой, и кроме теплого у него ничего с собой не было. Отвозила я их уже в Бутырку, куда подследственных перевели для эвакуации в Саратов. Отправили его еще до начала бомбежек (первая бомбежка была в ночь с 22 на 23 июля 1941 года), следовательно, летом. Он мне потом рассказывал, что везли их в обычных товарных вагонах, их тогда в народе называли телячьими или сокращенно — телятники.
Правда, эти вагоны были специально оборудованы...».
А вот как прокомментировал Е. свое возвращение на Лубянку:
Но почему меня вернули сюда, вот загадка!.. Нет, тут что-то таилось. Кому-то и зачем-то я был нужен. Кто-то и почему-то оберегал мою жизнь. Именно это тревожило меня...
Я решил уточнить детали воспоминаний Е., и стал разыскивать Ляшенко. Но оказалось, что Марика не совсем правильно расслышала его фамилию, которая на самом деле была — Ильяшенко. Позвонил Ильину, он дал мне его координаты, которые оказались устаревшими, и не без приключений я его все же разыскал и приехал к нему в Солнцево. Павлу Степановичу в ту пору было уже 85 лет, но он всё помнил, много чего мне порассказал: «Насчет столыпинского вагона — это липа, выйти сами они не могли, а что охрана разбежалась — так это просто чушь. Это исключено, это он сам придумал. Что же касается Булгакова, то мы им не занимались и не интересовались, по нашей линии никакого дела на него не заводилось. И потом было известно отношение к нему Сталина, и что он чуть ли не двадцать раз ходил на его спектакли... Если бы его дело было бы связано с Булгаковым, это обязательно было бы отражено в постановлении об аресте, а там этого нет...».
Невозможно объяснить необычность поблажек Ермолинскому на Лубянке. Может быть, это связано с тем, что он давно был знаком с Ильиным? Виктор Николаевич Ильин — участник гражданской войны, политработник, до работы в НКВД — заместитель директора треста «Союзкинохроника», знал Е. еще по «Соввоенкино» и «Востокфильму». Знал он и Марию Артемьевну — Марику. Кстати, когда я с ней в первый раз беседовал, то решил проверить ее объективность — всякое ведь бывает с разведенными женами, и задал ей провокационный вопрос, ответив на который положительно, она выставила бы Е. в крайне неприглядном виде. «Нет, — твердо сказала Мария Артемьевна, — такого не было!..».
Настораживают странности и с переводом Е. в саратовскую тюрьму и с тем, что этому предшествовало.
Побывав с полчаса вне камеры, я особенно ощутил ее духоту. На полу по-прежнему валялись люди. Каждый день уводили куда-то группами по нескольку человек... потом настала и моя очередь.
Я был втиснут в узкий отсек «черного ворона». Куда меня везли? Из другого отсека постучали, и голос спросил:
— Вы кто?
Я назвался.
— А я Овалов. Писатель. Может быть, слышали про майора Пронина? Это я сочинил.
Поздравляем вас, гражданин, соврамши!
Лев Владимирович Овалов (Шаповалов) с 1941 по 1956 год пребывал в лагере, его рассказы о майоре Пронине вышли первым изданием в 1957 году! Сюжеты их полностью относились к периоду войны. Этот герой был тогда так же популярен, как потом Штирлиц, и даже анекдоты про того майора ходили...
И для придания себе большего веса Е. вставляет в свои воспоминания следующее утверждение:
Впоследствии я узнал, что в нашем вагоне стоял, может быть, почти вплотную рядом со мной, такой же безликий, такой же, как все, не отличимый ни от кого, гениальный русский ученый Николай Иванович Вавилов.
21 октября 1942 года Е. зачитали постановление Особого совещания о высылке. (В обвинительном заключении Булгаков опять-таки не упоминался.) 25-го его выпустили из тюрьмы с предписанием выехать в Кзыл-Орду. Но он почему-то еще целый месяц провел в Саратове, хотя в деле значится, что убыл он из Саратова в тот же день...
Тот раздел книги, где он рассказывает о своем пребывании в Казахстане, к нашей теме вроде бы и не относится, но хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, характеризующие автора по части искренности. Конечно, он не был обязан сообщать в точности все детали своего бытия, но, ради справедливости, мог бы рассказать о роли его жены Марики в тот период. Вот он пишет, что получил деньги, довольно большие по тем временам, но умалчивает, что ему их прислала именно она... Потом на станции Чиили, где он имел свое обиталище, вдруг словно бы случайно появляется кинорежиссер Юлий Райзман. А ведь ему и другому кинорежиссеру (Столперу) о Е. сообщила Марика и просила их помочь перевести его в Алма-Ату, где тогда находились киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». Они в свою очередь привлекли к этому Эйзенштейна и Козинцева и отправились со своей просьбой к начальнику НКВД республики. Тот им не отказал: ему было безразлично, где ссыльный отбывает срок, главное, чтобы не уезжал из пределов Казахстана. И Е. прикомандировали к киногруппе в качестве консультанта. Когда же наши войска двинулись на Запад и киностудии начали возвращаться в Москву и Ленинград, Е. оказался в подвешенном состоянии: уехать с ними он не мог, а оставаться в Алма-Ате уже не было оснований. И опять выручила Марика — через своих друзей — грузинских кинематографистов — актрису Нато Вачнадзе и других, она сумела перевести его в Тбилиси, где в то время находилась сама, работая медсестрой в военном госпитале. В его же воспоминаниях всё это получалось как бы само собой...
Однажды он пообещал Марике, что вернется в Москву на белом коне, правда, в книге он пишет — «на победном коне». В Москву они вернулись, но он въехал не на белом и не победном коне, а на темной лошадке Михаила Шолохова, который помог ему восстановить прописку (они были давно знакомы — Е. делал сценарии по его произведениям). К этому времени он написал пьесу «Грибоедов» и очень на нее рассчитывал. Прочитал ее в театре Ермоловой у Лобанова, но тот ее не взял, потом в Камерном, и тоже безуспешно, а принял и поставил ее Михаил Яншин в новосозданном театре им. Станиславского, где он был художественным руководителем. Не исключено, что тут сработала легенда, что автор пьесы пострадал из-за Булгакова, а у Яншина был комплекс вины перед Михаилом Афанасьевичем (об этом я подробно рассказываю в книге «Фотолетопись жизни и творчества Михаила Булгакова», в главе 68 — «Воскрешение «Дней Турбиных»»). А это был как раз тот случай, когда можно было облегчить душу... Но пьеса шла недолго, в репертуаре не задержалась, и теперь о ней уже никто не вспоминает...
Теперь займемся второй линией воспоминаний — «Лучший друг и душеприказчик...»
Как я уже сказал, сначала у меня никаких сомнений не было, но внимательно прочитав книгу-82, я споткнулся на трех эпизодах — рассказе о том, как Е. берет интервью у больного Булгакова, об «игре» в палешан и о сцене за столом у Булгаковых, которая происходила во время его первого посещения дома, в котором хозяйкой стала Елена Сергеевна. Это был период моего активного внедрения в булгаковскую биографию и в его произведения, и у меня накопилось много вопросов. Всё не мог решить, кому бы их задать, а тут появилась на горизонте книга Лидии Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова». И я, долго не размышляя, отправился к ней в Харьков. Когда я высыпал перед ней все мои вопросы, она дала на некоторые исчерпывающие ответы, а по поводу воспоминаний Е. сказала: «Юрий Михайлович, если вы решили что-то исследовать, то наберитесь терпения. Со временем открываются архивы, и многие неясности проясняются». Это был 1984 год. Два из моих сомнений разрешились с помощью той же Яновской, которая, будучи в очередной раз в Москве и работая в Отделе рукописей ГБЛ (так тогда называлась главная библиотека страны), нашла ответы на мои вопросы в поздних дневниках Елены Сергеевны Булгаковой. Я уже приводил их в эссе «Вспоминай, вспоминай...», повторю и здесь:
...Говоря откровенно, мне определенно не нравятся две сцены, одна — это разговор якобы ты журналист, а вторая — игра в палешан. Причем я не могу себе представить, где же я была в это время, что я не помню этой игры!
Он стал уверять, но я стояла на своём. Этого не было...
Но это только два места, вызвавшие у меня сомнения. Третий случай — разговор за столом, в котором Ермолинский делает из Булгакова примитивного пошляка. Процитирую эту тираду:
На столе появились голубые тарелки с золотыми рыбами, такие же голубые стопочки и бокалы для вина. Блюдо с закусками, поджаренный хлеб дополняли картину. «Пропал мой неуемный Булгаков, обуржуазился», — подумал я сумрачно... Потом уже за столом [он] говорил: — Ты заметил, что меня никто не перебивает, а напротив, с интересом слушают? — Посмотрел на Лену и засмеялся: — Это она еще не догадалась, что я эгоист. Черствый человек. Э, нет, знает, давно догадалась, ну и что? Ой... — он сморщил нос. — Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь.
Он говорил это шутливо, беззлобно, и я увидел, что он такой же, как был, но вместе с тем и другой. Нервная возбужденность, а иногда и желчь исчезли. Можно было подумать, что дела его круто и сразу повернулись в лучшую сторону, исчезли опасности и угрозы, и жизнь вошла, наконец, в спокойное русло.
Это был первый плевок в сторону Любови Евгеньевны Белозерской, второй жены Булгакова; дальше он разовьет эту тему:
...В семидесятые годы... я вдруг получил из редакции журнала «Театр» два письма, написанные ею. В них она опровергала сообщения Левшина, вспоминавшего о квартире на Большой Садовой, в которой проживал Булгаков в первые годы его московской жизни. Естественно, я не могу подтвердить правдивость фактов, рассказанных Левшиным, но писал он о Булгакове с большой теплотой. А вот письма Любови Евгеньевны меня огорчили: не содержанием, а тоном. Появилась новая «вдова» Булгакова, вдруг засуетившаяся. Она заявляла и о своих правах на безапелляционное суждение. Первое письмо было подписано — Л. Белозерская, второе — Белозерская-Булгакова. Затем стали появляться отдельные ее «публикации» в самых неожиданных местах».
Вот тут-то собака и зарыта — теперь, когда не стало Елены Сергеевны, вдруг появился неожиданный свидетель, который всё знает и не собирается молчать. Я читал ее письма в журнал «Театр», читал и записки Левшина, безобразные по своим измышлениям (о них я написал в эссе «Проблемы музея»). И главное — стали появляться ее публикации! Но в это время начали возникать многие «фантазии на тему», и она обязана была защищать честь Булгакова. Об этом периоде ее жизни я рассказываю в эссе «Любовь Евгеньевна». Е. же нужно было во что бы то ни стало опорочить ее как свидетеля и тут он был безудержен...
А насчет разговора за столом я неожиданно нашел подтверждение моим мыслям в замечательной статье Наталии Шапошниковой «Москва и москвичи вокруг Булгакова», опубликованной в Америке в «Новом журнале» (1987 г.):
Столыпинский вагон
«Ермолинский берёт на себя грех и попросту обманывает своего читателя, делая вид, что цитирует слова осуждения, якобы сказанные ему Булгаковым и якобы относившиеся к его жизни с Любовью Евгеньевной. Ермолинский пишет, что в первый же свой визит к Булгакову (дело происходило в 1932 году, откуда на сей раз такая великолепная память?!), после водворения писателя на новой квартире в Нащёкинском переулке (ныне улица Фурманова, дом снесён) с его новой женой Еленой Сергеевной, он услышал от Булгакова следующие слова: «Ты заметил, что меня никто не перебивает, а напротив, каждый с интересом слушает?.. Не дай Бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь». Слишком большую роль сыграла Любовь Евгеньевна в жизни и в становлении творчества Булгакова, в их золотое время между ними были слишком трепетные, близкие и полные глубокого, дружеского взаимопонимания отношения, чтобы Михаил Афанасьевич мог подумать как-то её осудить в своей новой семье, да ещё при этом самозванном, свидетеле-друге. Это было бы лишено всякой этики, и Ермолинский не имел права награждать Михаила Афанасьевича таким отсутствием этических устоев: ведь Булгаков был как раз человеком в высшей степени чутким и сдержанным... Ермолинский вложил в слова, приписываемые им Булгакову, яд ревности к Любови Евгеньевне, возникшей на почве его вульгарного желания как можно больше унизить женщину, которая очень хорошо могла разобраться во всей той лжи, которую позволил себе этот мемуарист...».
Проявил Е. свою «удивительную осведомленность» в семейных делах Булгакова и в еще одном утверждении:
...Жить вместе им было негде. Елене Сергеевне пришлось перебраться на Большую Пироговскую, но там жила Любовь Евгеньевна, легко представить себе, в какой неестественной обстановке все трое очутились. Пожалуй, только ему могло показаться, что теперь, когда все наконец разъяснилось и очистилось, они, добрые и великодушные, не фальшивя, поймут друг друга... Так продолжалось до тех пор, пока не удалось вымолить небольшую квартиру в писательской надстройке в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова), и Лена с Михаилом Афанасьевичем переехала туда. С ними — ее младший сын Сережа...
Ни дня не жили под одной крышей обе жены — новая и бывшая! Булгаков снял для Любови Евгеньевны комнату, и лишь тогда, когда она переехала, к нему перебралась Елена Сергеевна.
По версии Е. этот ужин происходил в Нащокинском переулке, то есть через полтора года после развода Булгакова с Любовью Евгеньевной, — так с какой стати он бы стал теперь об этом говорить? И по той же версии это не мог быть 1932 год, раз на Пироговской, как он утверждает, с ними жила и Любовь Евгеньевна...
Однажды в беседе с Софьей Станиславовной Пилявской я спросил ее мнение о воспоминаниях Е. «Он всё время стремится сократить дистанцию», — ответила она... Это очень точное определение.
Главный прием в воспоминаниях Е. — доказать свое присутствие при всех событиях. Начну с того эпизода, к которому я обещал вернуться. При встрече он рассказал мне такую историю. Будто бы они ужинали в ресторане Дома Актера (ВТО) — Михаил Афанасьевич, Елена Сергеевна и он. К ним подошел пьяный Катаев и сказал: «Вот тебя не печатают и не ставят, а меня печатают, и даже идет уже собрание сочинений, но тебя все называют Михаил Афанасьевич, а меня — Валька...». «А это потому, Валя, что вы жопа, а я нет», — ответил Булгаков...
Прошло много лет, и я прочитал в книге «Дневник Елены Булгаковой» (далее — Дневник ЕС) следующее:
«25 марта. Вчера пошли вечером в Клуб актера на Тверской. Смотрели старые картины... Потом ужинали. Все было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Пете сказал, что он написал — барахло — а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. — «Валя, Вы жопа».
Катаев ушел мрачный, не прощаясь...».
Далее запись этого дня продолжается:
«Сейчас пришла с премьеры «Матери» в филиале Большого. Невыразимо плохо!... После «Матери» застала у нас Сергея Ермолинского, который уезжал месяца на полтора в Одессу...»
Вот так. Не было его там, просто ему по свежим следам тут же и рассказали эту историю, он ее запомнил и переключил на себя...
Тот же прием использован и в другом случае. Он пишет:
На прогоне, когда спектакль сдавали Станиславскому, Булгаков выступил и как актер — играл роль президента суда (в 5-й картине 3-го акта). Мольеровский парик украшал его голову. Он сидел на возвышении и с некоторым раздражением говорил, перебивая свидетеля Сэма Уэллера: «Я попрошу вас не рассказывать мне ни о каком генерале!»
— Это что за актер? — спросил Станиславский, с начала картины приглядывавшийся к неизвестному исполнителю.
— Да это наш Булгаков, — шепотом ответил Станицын и зажег лампочку на режиссерском столике, приготовившись записать замечания.
— Михаил Афанасьевич? — изумился Станиславский. — Ужасно! А у меня и не мелькнуло раньше, что рядом такой актер! Тушите свет, тушите свет, как бы не помешать ему! — И, вытянув голову, радостный, смотрел на сцену.
Я сидел поблизости, через проход в том же ряду, и все это видел и слышал.
Обратимся снова к Дневнику ЕС:
«14 ноября 1934... Репетиция Пиквика со Станиславским... К.С. очень постарел, похудел. Мне показалось, что он утерял свою жизнерадостность, он как-то равнодушно и кисло принимал приветствия. Стал рядом со Станицыным за режиссерским столом в восьмом ряду. Стол покрыт был зеленой скатертью.
М.А. сидел рядом с К.С.
Говорят, спектакль старику понравился...
16 ноября. Станицын сегодня рассказывал М.А., как старик отнесся к его появлению в Суде.
Станицын называл ему всех актеров. Когда появился судья, Станиславский спросил:
— А это кто?
— Булгаков.
— Ага!.. (Вдруг — внезапный поворот к Станицыну). Какой Булгаков?
— Михаил Афанасьевич. Драматург.
— Автор?!
— Да, автор. Очень просился поработать. Старик мгновенно сузил глаза, захихикал и стал смотреть на М.А.
Станицын это показывал смешно».
Через много лет мне рассказывал Виталий Виленкин:
«Ермолинского на этой репетиции не было и быть не могло — Станиславский никого бы чужого не потерпел, да особенно из другого театра, не говоря уже про кино. Станицин рассказал точно — я сидел через одно место от Станиславского и все слышал... Ермолинский пересказал то, что ему рассказали Булгаковы».
Слова Виленкина подтверждаются также и тем фактом, что в Протоколе репетиции никакого Ермолинского не значится, а в эти протоколы заносились неукоснительно все присутствующие...
Был один момент, когда Е. представилась возможность познакомиться с дневниками Елены Сергеевны и булгаковской перепиской. Совершенно очевидно, что ничего выписывать она ему не разрешала, поэтому он что-то запоминал, но очень приблизительно, потому-то у него такие расхождения с первоисточниками. Один пример такого запоминания я рассмотрел в эссе «Текстологический детектив», где он из целого письма правильно запомнил только одно слово — крейсирует...
Но мы несколько отвлеклись, пора вернуться к другим «присутствиям».
А однажды днем я застал его в халате танцующим посреди комнаты. В доме никого не было, семья была на даче в Загорянке. Он сам открыл дверь и продолжал выделывать па, вскидывая босые ноги и теряя шлепанцы.
— Миша, что с тобой? — остолбенел я.
— Творю либретто для балета. Что-то андерсеновское — «Калоши счастья». Вдохновляюсь...
Дневник ЕС:
«24 мая. Утром или, вернее, днем (мы поздно встали) пришел Дмитриев, а потом Сергей Ермолинский. Последний — прощаться, уезжает в Одессу, а потом в Синоп.
28 мая. Мише пришла в голову мысль сделать балетное либретто «Калоши счастья» по Андерсену.
Как видим, идея эта родилась несколькими днями позднее отъезда мемуариста, да и не было в мае никакой Загорянки. Опять нестыковка!
И уж совсем «интимная ситуация»: вот он описывает, как больной Булгаков диктует Елене Сергеевне правку романа «Мастер и Маргарита»:
«Всюду жизнь». Художник Н. Ярошенко
Почти до самого последнего дня он беспокоился о своем романе, требовал, чтобы ему прочли (Кто?) то ту, то другую страницу.
Сидя у машинки, Лена читала негромко:
«С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума...
Дисмас на втором столбе страдал более двух других...
Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье...».
Оставив чтение, она посмотрела на него.
Он лежал неподвижно, думал. Потом, не повернув головы в ее сторону, попросил:
— Переверни четыре-пять страниц назад. Как там? «Солнце склоняется...».
— Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет».
— А дальше? Через строчку?
— «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».
— Да, так, — сказал он. — Я посплю, Лена. Который час?..
Булгаков никому не разрешил бы присутствовать при этой работе...
Не соответствует действительности и утверждение Е., что он уже не выходил из их дома. Приходил — да, ходил за лекарствами — да, но чтобы находился там все время — ложь. Возле Булгакова в этот период дежурили по очереди три женщины — жена Елена Сергеевна, сестра Елена Афанасьевна и верный друг семьи — Марика, уколы ему делала она. Приходили также медсестры и врач Захаров. Е. в день смерти Булгакова в доме не было — он пришел только вечером... Таковы факты...
В те же последние дни Е. якобы встречается у Булгаковых с Фадеевым и не только слушает их разговор, но и сам с ним разговаривает. Ничего этого не было. Свидетельствует Марика: «При визите Фадеева Ермолинского не было, в комнате находились только они и Елена Сергеевна. Мы с Еленой Афанасьевной сидели в другой комнате и не высовывались, потому что всё это было не нашего ума дело...».
Запись в Дневнике ЕС:
5 марта. «Разговор (приходил Фадеев)».
Далее она пишет, что через час — в половине восьмого — то ли после ухода Фадеева, то ли к концу визита Фадеева — приходит Сергей Ермолинский... Значит, при разговоре он не присутствовал.
Весьма интересно сравнивать тексты 1966 и 1982 годов. Пользуясь тем, что Елены Сергеевны уже нет, он подправляет свои записи.
1966. Мы осторожно переворачивали его. И как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и даже тихонько, не застонав, говорил едва слышно, одними губами: «Вы хорошо это делаете... Хорошо...» Никого кроме нас, он уже к себе не подпускал.
1982. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и, даже тихонько не застонав, говорил мне едва слышно, одними губами: — «Ты хорошо это делаешь... Хорошо...». Никого, кроме Лены и меня, он уже к себе не подпускал.
Из письма А. Фадеева Елене Сергеевне:
«Нечего и говорить о том, что все, сопряженное с памятью М.А., его творчеством, мы вместе с вами, МХАТом подымем и сохраним: как это, к сожалению, часто бывает, люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. По всем этим делам и вопросам я буду связан с Маршаком и Ермолинским и всегда помогу всем, чем могу».
А у Ермолинского (1982): «По этим делам и вопросам я буду связан с Ермолинским и Маршаком и всегда помогу, чем могу».
1966. В течение десятилетия он всё время трудился над большим романом «Мастер и Маргарита»...
1982. В течение всей нашей десятилетней дружбы он работал над романом «Мастер и Маргарита», считая его своей главной книгой...
Далее весьма любопытная запись:
Первые главы я слушал, когда он жил еще на Большой Пироговской. Чтение состоялось на квартире Павла Сергеевича Попова, и обставлено было с сугубой таинственностью (Булгаков любил таинственность). Кроме меня, Павла Сергеевича и его жены, Анны Ильиничны, никого не было...
И уточняет, что это происходило в начале 1930 года.
Оставим в стороне его утверждение, что Поповы жили на Собачьей площадке, где они никогда не жили, и то, что он у них вообще никогда не бывал, а выбрал он их потому, что обоих к моменту написания его записок не было в живых, так что опровергнуть эту ложь — некому.
Известно также, что в марте этого года Булгаков рукопись романа сжег, и возобновил работу над ним только в 1932—33 годах...
Обратимся к цитировавшемуся выше протоколу допроса 11 марта 1941 года:
С писателем Булгаковым я познакомился в двадцать девятом году у него на квартире через его жену Белозерскую. Первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко. Примерно с тридцать первого, тридцать второго года, когда Булгаков женился второй раз, на Шиловской, я стал встречаться с ним чаще... (Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна поженились осенью 1932 года. — Ю.К.) В результате этих встреч у меня с ним установились дружеские отношения. За три-четыре года до его смерти — умер он в сороковом году — я встречался с ним значительно чаще. Бывал у него на квартире...
Значит, дружбе было не десять лет, а три-четыре — если бы это было не в протоколе, а в его воспоминаниях, можно было бы подумать, что он просто оговорился. А главное — никакого чтения тогда быть не могло: не пригласил бы осторожный Булгаков едва знакомого человека на «тайное чтение». Вся последующая сцена им тоже выдумана, как выдуман и эпизод, относящийся к возвращению Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны из Ленинграда, где на писателя обрушилась болезнь:
Я пришел к нему в первый же день после их приезда... Воспользовавшись отсутствием Лены, он, скользнув к письменному столу, стал открывать ящики, говоря:
— Смотри, вот — папки. Это мои рукописи. Ты должен знать, Сергей, где что лежит. Тебе придется помогать Лене».
Нелепость! Елена Сергеевна вела весь архив писателя и ни в чьей помощи не нуждалась, это подтверждает и сам Булгаков: «Что будет?» Ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы и иногда будешь вспоминать о нем» (письмо в Лебедянь 15.6.38.). Сам же он не знал, где что лежит, и мучительно искал какую-то бумагу в «Психее», так они называли ее бюро.
Боже мой, как мучительно разгребать эти нагромождения лжи, порой просто руки опускаются, но я обязан это делать — я же обещал Михаилу Афанасьевичу! Да, обещал — за те четверть века, что я приобщен к этому писателю, он настолько вошел в мою жизнь, что он мне даже снится. Когда такой сон при пробуждении не улетучивается, я спешу его записать.
И вот в моем блокноте запись: «10 февраля 1992 года. Под утро приснился Михаил Афанасьевич. Мы сидим вроде бы у Таты — Наталии Ушаковой и говорим о каких-то бытовых пустяках. И с нами кто-то четвертый — НЛО — неопределенный людской объект. (И в другом сне — 90-й год — тоже был кто-то четвертый, но, как и этот — непознаваемый — в том сне еще присутствовала Елена Сергеевна.) Я рассказываю что-то грустное о Михаиле Афанасьевиче, он растрогался, я его утешаю — мы стоим в обнимку и оба плачем. Он почему-то очень высокий, худущий и с рыжей шевелюрой, торчащей дыбом. Потом я говорю, что о нем очень много врут. Он кивает — да, да, надо об этом написать книгу (вроде сам собирается), я говорю, что и я об этом думаю. Предлагаю, что каждую враку буду записывать на отдельном листке и давать ему подписать — чтобы было «документировано». Он говорит — это правильно, так и сделаем... На этом я проснулся».
Вообще-то, для того, чтобы подробно разобрать сочинения Е., надо бы соорудить целую книгу, в которой слева стоял бы его текст, а справа — опровергающие данные. Но читать такую книгу было бы не под силу никакому нормальному человеку, не говоря уже о том, кто бы взялся ее сделать... Даже данный мой труд потребовал уйму времени и неимоверного терпения. И во многом облегчил мою участь своей неоценимой помощью мой друг, пятигорский булгаковед Сергей Бобров, за что приношу ему глубочайшую признательность.
Но вернемся к основной нашей теме и рассмотрим еще один пример «присутствия и избранности»:
9 марта был траурный для него день. Он пришел ко мне днем, был спокоен, и советовался о делах денежных. Были долги, а на «Мольера» можно было рассчитывать. Спектакля «Мольер» не стало.
Не пошел бы Булгаков к нему со своими бедами — лучшим его другом был, как известно, Николай Николаевич Лямин, которого арестуют только 3 апреля 1936 года, о чем есть запись в Дневнике ЕС: «Арестован Коля Лямин...».
А 9 марта она записала:
«В «Правде» статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», без подписи.
Интервью с Марикой
Когда прочитали, М.А. сказал: «Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу».
Днем пошли во МХАТ — «Мольера» сняли, завтра не пойдет.
Другие лица.
Вечером звонок Феди: «Надо Мише оправдываться письмом» — о чем? М.А. не будет такого письма писать.
Потом пришли Оля, Калужский и — поздно — Горчаков. То же самое — письмо. И то же — по телефону — Марков.
Все дружно одно и то же — оправдываться.
М.А. оправдываться не будет Не в чем ему оправдываться...».
Как видим, о Е. в этот день ни слова, более того, в Дневнике ЕС он появится только 27 ноября и до января следующего года больше не возникнет...
С арестом Лямина открылась вакансия на замещение места «лучшего друга», и Е. начинает за это место бороться: уже с начала следующего года он часто появляется у Булгаковых... Но и в дружбе есть своя градация отношений. Поэтому Е. занять место Лямина никак не мог.
Читаем в Дневнике ЕС:
«Вчера днем М.А. заходил к Сергею Ермолинскому. М.А. ходит к нему поиграть в шахматы, а кроме того — Сергей Ермолинский, благодаря тому, что вертится в киношном мире, — много слышит и знает из всяких разговоров, слухов, сплетен, новостей. Он — как посредник между М.А. и внешним миром...».
А вот другой уровень отношений:
«Коля Эрдман остался ночевать. Замечательные разговоры о литературе ведут они с М.А. Убила бы себя, что не знаю стенографии, всё это надо было бы записывать. Легли уж под утро». Другая запись: «Вообще их разговоры — по своему уму и остроте, доставляют мне бесконечное удовольствие»...
И совершеннейшая вакханалия разворачивается на страницах воспоминаний по поводу пьесы «Батум». Процитируем Е.:
Мне трудно подробнее говорить об этой пьесе. Я не люблю ее, хотя бы потому, что она слишком тяжело отозвалась на всей его дальнейшей жизни... Он написал ее быстро. Весной состоялась официальная договоренность с театром, а уже в начале июня у него были готовы первые сцены. В конце июня пьеса была закончена...
Он рассказывает, как мхатовцы договаривались о ней с Булгаковым:
В тридцатых годах, когда в репертуарных планах почти всех театров страны стали появляться пьесы о событиях, касающихся исторической роли Сталина или о нем самом, обойти эту тему Художественному театру, который почитался эталоном для всей нашей театральной жизни, конечно, было нельзя. Руководители МХАТ поняли, что именно он, Булгаков, может выручить, как никто другой, потому что не сделает казенной и фальшивой пьесы.
Втайне он уже давно думал о человеке, с именем которого было неотрывно связано все, что происходило в стране. У Булгакова была даже заведена тетрадь с надписью «Заметки к биографии Сталина». Возможно, он обмолвился в театре своими мыслями о волновавшей его теме, это и побудило обратиться к нему. Но все равно — предложение МХАТа застало его врасплох...
Далее:
Сидели у него дома (кто? можно подумать, что и Е. там находился. — Ю.К.) и разговаривали до рассвета. Говорили о том, что постановка такой пьесы будет означать полный переворот в его делах. Мхатовцы затронули его самые чувствительные струны: разве мог он не мечтать о воскрешении своих произведений...
На следующее утро Булгаков пришел ко мне усталый и разбитый. Он был растревожен до крайности, не знал, что делать...
Дневник ЕС: «9 сентября 1939 г. Днем звонил Марков — когда М.А. может принять его и Виленкина, очень нужно переговорить. М.А. не было дома, я предложила придти сегодня вечером, предварительно позвонив... Пришли в одиннадцатом часу вечера и просидели до пяти утра. Вначале — было убийственно трудно им. Они пришли просить М.А. написать пьесу для МХАТа... Все это продолжалось не меньше двух часов, и когда мы около часу сели ужинать, Марков был черен и мрачен.
Но за ужином разговор перешел на общемхатовские темы, и тут настроение у них поднялось... Потом — опять о пьесе. Марков: — МХАТ гибнет. Пьес нет. Театр живет старым репертуаром. Он умирает. Единственно, что может его спасти и возродить, это — современная замечательная пьеса... И, конечно, такую пьесу может дать только Булгаков.
Говорил долго, волнуясь. По-видимому, искренно.
— Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине?».
Е. утверждает, что наутро к нему пришел Булгаков...
Дневник ЕС:
29 сентября. Звонил Ермолинский, приехавший из Вешенской от Шолохова, у которого он прожил около месяца, — работал над сценарием «Поднятая целина». Охотился там с Шолоховым, рыбарил.
Вот так — Е. в это время в Москве вообще не было!
Далее речь идет о запрете «Батума»:
Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:
— Ты помнишь, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», отклонили рукопись о Мольере? И ты помнишь — как ни тяжело было все это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри — я лежу перед тобой продырявленный...
Когда же это могло быть? О запрете «Батума» стало известно 15 августа. Ермолинского в Москве опять-таки не было. Елена Сергеевна записала в Дневнике:
18 августа. Сегодня днем Сергей Ермолинский, почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал.
Попросил Мишу прочитать пьесу. После окончания — крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь — не дождешься, чтобы он скорей появился опять.
Вообще говорил много и восхищался, как профессионал, понимающий все трудности задачи и виртуозность их выполнения.
Поцелуй Иуды! Считал пьесу замечательной? А что же он пишет потом?
...И уже была написана мучительная пьеса «Батум» (с. 666!).
А далее уже вообще идет клевета.
Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно же, если было связано с расчетом — корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости. Тем беспощаднее он осудил самого себя и говорил об этом прямо, без малейшего снисхождения. И не забывал до конца жизни. Кажется, именно с этого времени он стал носить темные очки, надевая их, когда выходил на улицу. (Темные очки он стал носить по предписанию врачей, когда в связи с болезнью его зрение катастрофически ухудшалось. — Ю.К.) Ему мерещилось, что все показывают на него пальцем. Старался как можно больше сидеть дома. В театр или ко мне его сопровождала Лена. Иногда я заменял ее.
Это написано в 1982, но Е., видимо, показалось, что этого маловато, он дорабатывает сцену самобичевания, и в издании 1992 она дополнена следующей тирадой:
— Мало меня проучили, — бормотал он сквозь зубы. — Казнить, казнить меня надо! Он был к себе беспощаден.
А за что, собственно, он мог себя корить? Напомним слова самого Е., зафиксированные в протоколе допроса:
В разговорах за последнее время БУЛГАКОВ увлекался СТАЛИНЫМ. Во всех разговорах БУЛГАКОВ очень хорошо отзывался о СТАЛИНЕ.
Булгаков никогда не кривил душой и не шел на сделки с совестью. Известно, что он мог бы спасти пьесу «Бег», если бы принял предложение Сталина: «...«Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа...».
Наталья Шапошникова. Фото Юрия Кривоносова
Но такое «осоциаливание» шло вразрез с убеждениями Булгакова, и он на это не пошел!
14 сентября 1933 года он пишет своему брату Николаю в Париж: «Сообщения газет о том, что в МХТ пойдут «Мольер» и «Бег», приблизительно верны... В «Беге» мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и ни на йоту не нарушают писательской совести, я их сделал...».
Почему же Е. обвиняет Булгакова в писательском малодушии? Ответ можно найти у Максима Горького, который по подобному поводу писал: «Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан... Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это всем известно. Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью»».
Сентенции Е. были опубликованы в 1982 году, почти через тридцать лет после смерти Сталина. Но ведь в то время, когда жил Булгаков, Сталин был признанным вождем, руководителем огромного могучего государства и его деяния, которые раскрыл перед всем миром в своем докладе на XX съезде Никита Хрущев, стали известны только в 1956 году. Как же можно рассматривать личность Сталина, какой она виделась в ту пору, с точки зрения сегодняшнего дня? У Булгакова были все основания не стыдиться своей пьесы, потому что он видел Сталина совсем в ином свете. Обратимся к фактам. Когда Булгаков в 1930 году написал письмо Правительству, Сталин позвонил ему по телефону, и результатом их разговора явилось то, что Булгакова приняли на работу в МХАТ на должность ассистента-режиссера, то есть он получил кусок хлеба насущного. Затем по указанию Сталина был восстановлен запрещенный спектакль «Дни Турбиных». А когда у Ахматовой арестовали одновременно мужа и сына, и Булгаков помог ей составить письмо Сталину, то оба они были немедленно освобождены...
Чего ж ему было стыдиться-то? Да и Сталин сказал, что пьеса хорошая, но ставить ее нельзя, на что у него были свои соображения. И конечно, неудача с постановкой (а не с самой пьесой) стала для автора тяжелым ударом. Но это совсем другая тема...
Я помню, как в мае 1988 году на Булгаковские чтения, проходившие в Ленинграде, приехал из Москвы на один день Виталий Яковлевич Виленкин, чтобы опровергнуть клевету Е. на Булгакова по поводу пьесы «Батум», у истоков которой он стоял и знал дальнейшую судьбу этой пьесы в первоисточнике... Я уже в девяностые годы встречался с ним, и он мне снова рассказал о том, как Е. подтасовал эту историю.
Возникает вопрос — зачем?
Обратимся снова к статье Наталии Шапошниковой: «...Ермолинский был человек тщеславный, ему нужно было кричать о своей исключительности, он хотел преуспеть во что бы то ни стало!.. Поэтому, когда начался ажиотаж вокруг имени Булгакова, он стал «самым близким другом» Булгакова... Радуйся, что ты знал его лично и можешь рассказать хоть что-то из своих личных впечатлений. Однако, тщеславной натуре этого оказалось мало... Ермолинского больше привлекает подлог и обман, нежели прямота и искренность. На пути к своей цели он идёт по головам других людей, в том числе и очень близких, совсем не бывших безразличными Булгакову.
В Союзе писателей и вообще в литературных кругах Москвы Ермолинский достиг положения непреложного знатока жизни и творчества Булгакова. Ведь за 45 лет, прошедших после кончины Булгакова, почти все те, кто его действительно близко знал, успели умереть, погибнуть, а здравствующие, очевидно, не представляли для Ермолинского особого препятствия... Но Ермолинский, видимо, забыл, что имя Булгакова слишком значительно, чтобы такой человек, как он, мог поступать с ним, как ему заблагорассудится, что придёт время и раскроются все его махинации, и от них ничего не останется».
Можно до бесконечности ковыряться в этих «воспоминаниях», потому что трудно перечислить всё, что там наворочено — одних мелочей — тьма... Скажем, таких «сокращений дистанции», как «Мой Миша... Мой бедный Миша...». «Эх, эх» — это междометие, присвоенное Булгаковым Мастеру, мемуарист повторяет от себя неоднократно... Измышления о порядках в лубянской тюрьме, вроде найденного острого осколка стекла, которым он полоснул по венам и кровь брызнула... А кровь может брызнуть только из артерии, а из вены медленно вытекает. Байка о суициде — для легковерных: за попытку суицида (впрочем, тогда этого слова в обращении не было, а говорили просто — самоубийство) полагался не карцер, а срок! Ржавые ключи у охранника («Ключ, которым пользуются, всегда блестит» — Бенджамин Франклин.)... И прочее, и прочее...
Или обращение к Булгакову:
...Восстанавливая в памяти те первые услышанные главы, я вдруг вспомнил одну деталь... разговор по поводу нее у меня с Булгаковым произошел (через несколько лет после первого чтения). — А помнишь, раньше у тебя было... — начал я...
Через несколько лет — это через сколько? Через три, четыре, шесть? Но в 1936 году он еще обращался к Булгакову на «вы», а, может, и до конца так было — ни Марика, ни Наталия Абрамовна Ушакова не могли вспомнить, чтобы они были на «ты». Тут, видимо, обычное явление — старший младшему говорит «ты», а младший ему — «вы». Разница в возрасте у них была в десяток лет, а в таких случаях, как правило, возникает некий барьер. У меня, например, много друзей с такой примерно разницей лет, и я не могу никакой силой заставить их отказаться от «вы», хотя сам говорю им — «ты».
И вот теперь настал момент, когда пора сказать о вынесенных в заголовок нашего эссе словах «Синдром «Алмазного венца»». Но сначала одна интересная деталь. Рассказала Лиля (Елизавета Григорьевна) Шиловская: «Ермолинский себя считал таким же талантливым писателем, как и Булгаков, он заявил об этом Елене Сергеевне, та взвилась, на этой почве у них испортились отношения».
Вот здесь и есть ключ к пониманию движущих им пружин. Он же возник со своими воспоминаниями только в 1966 году, когда начался ажиотаж вокруг произведений Булгакова и его имени, уже был опубликован роман «Мольер», идут и издаются пьесы, готовится к публикации роман «Мастер и Маргарита».
Тут и сработал этот самый катаевский синдром. На мой взгляд, Е. роднит с Катаевым общее чувство ущемленности в своих «правах». Могу себе представить, что чувствовал Катаев, прочитав про себя в Энциклопедическом словаре следующие слова: «...Русский советский писатель... Брат Е.П. Петрова...». А он-то считал, что это Петров его брат... Получалось, что Петров уже признанный классик, а его, Катаева, причисление к этому званию еще весьма неопределенно. Он же понимал, что главные резервы своего таланта он истратил на верноподданнические сочинения, иначе говоря, — на конъюнктуру. И тогда он написал «Алмазный мой венец», в котором сам себя причислил к плеяде великих писателей своего времени и возвел себя на пьедестал.
Опубликовано было это его сочинение незадолго до того, как Е. выпустил свою книгу «Драматические сочинения», в которую включил записки о Булгакове. Есть все основания полагать, что если бы не было этой «вставки», то и книги бы этой не было, — ну, кто бы стал покупать и читать его пьесы? А тут — почти неизвестный Булгаков... И возникает одно любопытное соображение — вставка тоже соответствует общему названию «Драматические сочинения» — это не документальные записки, а именно сочинение...
Вскоре после публикации «Алмазного венца» на страницах «Литературной газеты» разразился скандал — там обрушились с руганью на Наталию Крымову, посмевшую выступить с разгромной рецензией на это произведение. Я решил вступиться за нее, и написал Открытое письмо редактору «Литературки»... В нём были, в частности, такие слова:
...Читая его книгу, видишь, что ничего плохого он в адрес своих героев сказать вроде бы не хотел, что руководили им лишь естественные человеческие слабости, тут его можно понять — конечно же, обидно, когда твои сверстники и, как тебе кажется, ровни, вот как-то так вдруг стали классиками, причислены к лику бессмертных, а твое собственное бессмертие еще весьма проблематично. и даже как бы сомнительно.
Валентин Катаев, будучи несомненно крупным писателем и истинным художником, понимает, что между таковым и гением, имеющим право на звание классика, есть определенная разница и, пожалуй, даже непроходимая пропасть. Не будучи уверенным, что люди ему воздадут за его труды то, чего бы ему самому хотелось, он спешит сделать это сам, и суету его видно невооруженным глазом. Потому-то и пытается сам с таким отчаянием взобраться досрочно на пьедестал, воплотиться в памятник из звездного материала. Однако опять же не будучи уверен, что это ему удается, он на всякий случай пробует одновременно стянуть своих соперников с их пьедесталов и путем заземленного бытописания снизить до собственного уровня. И это тоже в его книге, несмотря на ее необычную форму, проглядывает весьма отчетливо. Повествуемое им порой звучит для нас попросту фальшиво, потому что кроме личных катаевских ощущений существует еще и история советской литературы. Впрочем, все это уже написано в статье Крымовой, которую Вы, несомненно, читали, и я вряд ли смогу здесь добавить к ней что-либо существенное. Смогу лишь добавить еще то, что намеренный замен имен на клички вызван ни чем иным, как только опасением быть пойманным на неправде, но тут, выражаясь языком шашистов, «все дамки ловленные»...
Казалось бы, с чего бы это Е. так не любил Катаева — они ведь в стремлении к прижизненной славе просто — братья-близнецы. Но таков уж закон физики — одноименные заряды отталкиваются...
И вот какой момент у него меня насторожил. Е. пишет:
10 марта в 4 часа дня он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете.
На следующее утро — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро, — позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:
— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?
— Да, он умер.
Тот, кто говорил со мной, положил трубку.
В этот день Е. у Булгаковых не было, тогда при чем тут «на рассвете»? Пришел он только вечером. Значит, звонок мог быть на другой день, но на другой день в доме было много людей, и такой звонок вряд ли остался бы всеми незамеченным. Но о нем не могли не знать Елена Сергеевна и Марика. Да и как Е. при его тщеславии не похвастался, что говорил с секретариатом Сталина? И вот тут я не могу отделаться от мысли, что звонили не оттуда, а туда! И позвонил сам Е., а потому никому тогда ничего не сказал. А в воспоминаниях написал — чтобы придать себе побольше весу...
В своей книге «Записки о Михаиле Булгакове» Лидия Яновская рассматривает вопрос о доносах, которые кто-то писал в НКВД. Причем это был человек из ближайшего окружения Булгакова, что следует из самих текстов доносов. Особое внимание она уделяет упоминанию о жене (смотрите эту фразу в тексте доноса). Но среди всех посетителей их дома были только две женщины, которые могли сказать Булгакову такие слова — это Ольга Бокшанская, жена актера Калужского, и Марика — жена литератора Ермолинского. Но Ольга была родной сестрой Елены Сергеевны, а ее муж соответственно — свояк Михаила Афанасьевича. Весьма сомнительно, что именно он писал доносы: известно, что в то время под удар попадали все родственники репрессированных, и Калужский не стал бы сам себя ставить под такой удар. А кроме того стоит прочитать его записки в книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове», чтобы увидеть, что этот человек имеет совершенно иной «почерк», иной стиль изложения, иную лексику... Это пишет не литератор, а актер. Читаем у Яновской:
«...два доноса, датированные 1936 годом. Оба доноса прямо из дома — живого, теплого булгаковского дома, кем-то преданного и проданного. Предательство совершено по крайней мере дважды: 14 марта и 7 ноября.
Это не клеветнические доносы. Они написаны точно и литературно, с полным пониманием обстоятельств и темы. Они рисуют Булгакова таким, каким я давно знаю его. Стало быть, безобидные доносы? Нет, безобидных доносов не бывает...
...14 марта, то есть на пятый день после публичной «редакционной статьи» (имеется в виду статья в «Правде» — «Внешний блеск и фальшивое содержание». — Ю.К.), «конфиденциальный источник» представляет отчет о самочувствии пытаемого:
Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному, хотя внешне он старается ее скрыть). Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя... Он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности, уже принятую Театром Вахтангова «Александр Пушкин», и, конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие.
В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает «неужели это действительно плохая пьеса» и обсуждает отзыв о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: «А разве в «Мольере» есть политический смысл» и дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя по моим наблюдениям вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка...
Второй ставший известным донос датирован 7 ноября того же 1936 года.
Я, — оказывается, говорил Булгаков дома, — похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху и снизу и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц... Ведь я же не полноправный гражданин... Я поднадзорный, у которого нет только конвойных... Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен.
А может быть, — добавлял Булгаков, — я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял.
Кто же приходит сюда с «женой»? С женщиной, которая чувствует себя так свободно, что может сказать Булгакову, явно на «ты»: «Твое счастье. Мака, что рецензенты...»
Нужно внимательно отвести всех, кто приходит в одиночестве... Потом тех, кто приходит в обществе молчаливых, сдержанных женщин... Исключить Лямина. 7 ноября, когда пишется второй донос, Лямин на каторге, в запредельном Чибью... Исключить Павла Попова. В 1936 году он с женой Анной Ильиничной Толстой подолгу живет в Ясной Поляне, у Булгакова бывает редко, сохранились письма — Попова к Булгакову, Булгакова к Попову...
Кто же?
Евгений Калужский? Артист МХАТа Калужский бывает у Булгаковых часто: он муж Ольги, сестры Елены Сергеевны. Пытаюсь и никак не могу подобрать желанное «нет».
Или наш добрый знакомый Сергей Ермолинский, бывающий здесь с Марикой?
Определить автора по двум листкам доносов... По двум листкам — не в оригинале, а в публикации, может быть, недоброкачественной, может быть, с искажениями. А может быть, и подло лживой?.. Умоляю московских друзей: не пропустите следующие публикации. Еще бы два-три сочинения такого рода! Ну, не два-три, хотя бы одно... Но следующих публикаций нет. Печатают что угодно — не это. Похоже, в КГБ-ФСБ спохватились, что «засветили» агента.
Люди моего поколения знают: в мире доносов самым страшным было то, что все начинали подозревать всех. В тайном ведомстве, бесконечно меняющем аббревиатуры своего названия, дорожат честью осведомителей — даже шестидесятилетней давности. (Помилуйте, у осведомителей дети, внуки! Каково будет им, если все узнают, что выделывал их дедушка или прадедушка!) И я, погружаясь в мир доносов, продолжаю всматриваться в лица булгаковских друзей, оскорбляя подозрением каждого. Хотя соглядатай среди них только один. И может быть, по принуждению...». (Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. Издательство «Параллели». Москва, 2002, с. 206, 210, 212, 213, 214, 215).
А вот у Бориса Соколова в его книге «Тайны «Мастера и Маргариты». Расшифрованный Булгаков» таких тонкостей и в допуске нет, он рубит правду-матку, ни в чем не сомневаясь:
Обложка «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1987 г.
Опасения Булгакова насчет Ермолинского были безосновательными. В декабре 1940 года последний был арестован (не в декабре, а в ноябре. — Ю.К.), и в ходе допросов, как свидетельствуют их опубликованные протоколы, связи Сергея Александровича с НКВД никак не проявились... Насчет Ермолинского Булгаков ошибся. Тот его не продавал. А вот настоящего Иуду в своем ближайшем окружении так и не выявил... А вот главную змею на своей груди он так и не заметил. Судя по опубликованным донесениям осведомителей НКВД, сексотом, плотно опекавшим Булгакова, скорее всего был Евгений Васильевич Калужский, актер МХАТа и свояк Булгакова...
Что значит скорее всего? Это что? То ли он что-то украл, то ли у него что-то украли?!
Непонятно, зачем было бы НКВД выявлять связи Е. с НКВД? Если таковые были, то им они были известны. И в протоколах этого отражено быть не могло. Тем более, что имена своих осведомителей они хранили (да и сейчас продолжают хранить) за семью замками... Сам же факт ареста в этом смысле тоже никакого значения не имеет. Ведь и генерал Ильин, и заместитель начальника отдела Ильяшенко, свидетельства которых я приводил выше, тоже были арестованы. Ильин отсидел десять лет, а Ильяшенко только два, да и то потому, что посажен был позже, а освобождены были оба после смерти Сталина...
В деле же Е. есть некоторые странности. Как мы уже упоминали, его на допросах ни разу не били, в деле отсутствуют даты эвакуации из Москвы и прибытия в саратовскую тюрьму. После того, как ему объявили постановление о ссылке и освободили, он месяц пробыл в Саратове, хотя должен был немедленно отправиться в предписанное место и ежедневно отмечаться у оперуполномоченного. Никаких последствий эта «самоволка» не имела...
Сергей Александрович Ермолинский имел неосторожность в своих воспоминаниях привести один разговор с Булгаковым на «киношную» тему. Процитируем:
Пришлось целиком погрузиться в «заказные» работы. Среди них были экранизации «Ревизора» и «Мертвых душ». Работа с кинорежиссерами ошеломила его. Они так шумели, кричали в его квартире, вмешивались в написанные им сцены, то и дело подкидывая ему необыкновенные выдумки, что только его юмор утихомиривал их буйный темперамент. После этих встреч у него болела голова. Он не привык к такой работе. Он привык работать в тишине, сосредоточенно. Иногда днем закрывал шторы, зажигал свечи. А тут... Он только разводил руками. «Ну, Сергей, не завидую тебе. Как это ты с ними управляешься?»
Я успокаивал его, говоря, что все, что происходит с его сценариями, нормально, так всегда бывает в кино. Он пишет варианты, их рассматривают, присылают стереотипные замечания и пожелания... Кроме того, режиссеры постепенно становились соавторами сценария, и я объяснял ему, что это хотя слегка и бьет по карману, но зато вселяет надежду, что фильмы будут осуществлены. «Мертвые души» должен был ставить в Москве И.А. Пырьев, «Ревизора» — М.С. Каростин в Киеве, и казалось, оба сценария после всех мытарств появятся на экране. Каростин даже снял несколько сцен, но просмотренный дирекцией материал вызвал резко отрицательную оценку («формализм»), и работа над фильмом была приостановлена... А Пырьеву вместо «Мертвых душ» было предложено ставить фильм на современную тему («Партийный билет»).
На этом кинематографические дела Булгакова кончились. Пришлось заняться другим.
Не думал, не гадал мемуарист, что через годы будет опубликован один интересный документ — выжимка из донесения, подготовленная — переписанная — оперативным сотрудником:
«Разговор ИСТОЧНИКА с БУЛГАКОВЫМ (на улице 22 дек. между 9—10 ч. вечера) в присутствии жены Булгакова Елены Сергеевны. 1936 г.
БУЛГАКОВ рассказал:
В Киеве по делам кино я был в последний раз в 1934 году. Ставился мой сценарий «Ревизор» по Гоголю. Еще перед самой постановкой, сценарий мой был здорово разгромлен на фабрике. Его выправлял режиссер Коростин и очень много над ним работал. Я сам просто не мог выправить его, потому что не понимал, что от меня хотят. Уже после окончательного приема сценария, я предложил Коростину заключить с ним отдельный договор о соавторстве.
ИСТОЧНИК: Не помните, какие условия соавторства?
БУЛГАКОВ: Больше чем половина за написание шло ему.
ИСТОЧНИК: А не хотели вы просто послать его к черту?
БУЛГАКОВ: Нет. Он так работал, что из него вытягивали на фабрике все жилы. Кроме того, его вызывали в Москву, где всячески крыли за формализм («Ревизор», уже снятый, законсервирован на фабрике по причине формалистических уклонов в картине).
ИСТОЧНИК: В конечном счете, это насильственное соавторство или нет?
БУЛГАКОВ: Абсолютно нет! Надо прямо сказать, что после того момента, как я перестал понимать, что от меня хотят — работал почти один Коростин, а я только впадал в панику и хотел только поскорее удрать.
ИСТОЧНИК: А как вы относитесь к тому, что Киевскую фабрику хотят потрясти и выбить оттуда всякую шваль?
БУЛГАКОВ: Если дело касается только Киевской фабрики — овчинка выделки не стоит. Нужно потрясти все кинофабрики. Неужели это творческий, а не уголовный вопрос — демонстративный отказ писателей от работы в кино?
На вопрос ИСТОЧНИКА: «Неужели вы, так хорошо знающий Гоголя, и особенно «Ревизора», не могли сами закончить сценарий?» — БУЛГАКОВ ответил: «А черт его знает. У них такие доводы и такие требования, что я ничего не понял и должен был сдаться».
Возникает вопрос — почему беседа велась на улице, это же был декабрь, разгар зимы, на морозе не постоишь. Значит, разговор шел на ходу. А куда и зачем они могли идти?
В Дневнике ЕС за декабрь этого года зафиксировано, что Елена Сергеевна в течение девяти дней из-за болезни сына на улицу не выходила. А 22-го запись: «Звонили из «Литературной газеты», просят, чтобы М.А. написал несколько слов по поводу потопления «Комсомольца»». Ни о каких посетителях речи не идет, что может свидетельствовать о том, что никакого необычного посетителя в доме не было. Не отмечено и такое обыденное событие, как вечерняя прогулка с ИСТОЧНИКОМ, потому что это опять-таки был «свой» человек. Они этого человека пошли проводить и заодно прогуляться. Прогулка эта имела обычный маршрут — от Нащокинского переулка, где жили Булгаковы, до Мансуровского, где жил Ермолинский. Что эти прогулки были привычными, свидетельствуют опять-таки записи в Дневнике ЕС:
«29 августа 1939. Миша пошел пройтись — до Сергея дойдет, посидит немного.
25 января 1940 г. Прогулка на почту (телеграмма Рубену Симонову) и до Ермолинских...
А вот свидетельство самого автора воспоминаний: «Обычно, прежде чем разойтись, провожали меня до Мансуровского...». Это еще 1936 год. Тот самый!
По времени беседа ИСТОЧНИКА с БУЛГАКОВЫМ как раз укладывается в неспешную прогулку между этими двумя переулками...
Ну и что — вписывается ли в эту беседу Евгений Калужский, который никакого отношения к кино не имел? Единственным человеком в окружении Булгакова, сведущим в этой отрасли был именно Е., да и запись беседы в донесении опера местами удивительно совпадает с текстом «воспоминаний», и из беседы видно, что вёл ее не просто «киношник», а именно профессионально подкованный сценарист!
И насчет выявления связи с НКВД, о которой говорит Соколов, здесь весьма наглядно продемонстрировано: даже во внутреннем документе имя осведомителя не называется — просто ИСТОЧНИК...
«Определить автора по двум листкам доносов... Умоляю московских друзей: не пропустите следующие публикации. Еще бы два-три сочинения такого рода! Ну, не два-три, хотя бы одно...», — восклицает Лидия Яновская.
А может быть, это и есть то самое «еще одно», которого так пророчески она ожидала?...
И вот парадокс: милая Наталия Крымова, так глубоко разобравшаяся в «Алмазном венце», оказалась загипнотизированной воспоминаниями Е., к которым написала предисловия — и в 1982 году, и в 1992-м. В них она опирается на те узловые моменты в воспоминаниях, которые целиком Е. выдуманы, мы их здесь рассмотрели, сличая с документами. На нее, как вначале и на меня, подействовала магия личности Михаила Булгакова, из-за которого пострадал человек, виновный лишь в том, что был его лучшим другом.
Когда мы с ней встречались, а это было в начале восьмидесятого года, я еще слишком мало знал о Булгакове и даже не подозревал о существовании Сергея Ермолинского. В одном из предисловий Крымова пишет:
Почему у меня как у читателя возникает чувство доверия к автору? Его личное знание ничем не замусорено, не искажено. Нет сомнения, что автор знает больше, чем написал. Он был наблюдательным человеком, и ему было свойственно чувство живого любопытства...
Ну как тут не вспомнить сцену с бароном Майгелем в главе «Великий бал у сатаны»:
«Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать общее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово — наушник и шпион...».
Когда Ермолинский понял, что на белом победном коне ему в историю русской литературы въехать не удастся, он попытался пересесть на черных булгаковских коней, надеясь, что это «верняк». Но, как гласит русская поговорка: С чужого коня и средь грязи долой!..
Вот такое грустное эссе у меня получилось...
30.06.06
P.S.
«Верно, верно! — кричал Коровьев, — верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения! Да, он наблюдал за квартирой! Я сам, было, принял его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице. Но нет, нет! Что-то сосало мое сердце! Ах, он наблюдал за квартирой!».
«Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все — ложь! Ложь от первого до последнего слова!
Варенуха не ездил в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не было. Не было пьяного телеграфиста, не было разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками... — ничего этого не было».
«...Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:
— Вранье!
И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно — вранье от первого до последнего слова...».
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Вместо рецензии:
Да, Юрий Михайлович, вопрос решен. Выслушав Ваш последний аргумент — анализ доноса в конце статьи (во-первых, замечательное исследование даты доноса, во-вторых, не менее убедительное сравнение текста доноса с текстом мемуаров Ермолинского), адвокат закрывает свою папку и, кажется, даже снимает мантию: теперь сомнений в преступлении нет. Остается просить о снисхождении? Но и это безнадежно: нет оснований для снисхождения.
Поздравляю Вас.
Лидия Яновская 22.10.08
P.P.S.
Лидия Яновская: Выход статьи «Всем ли мемуарам верить» («Вопросы литературы» № 1. 2008 г.) меня тогда огорчил: я поторопилась; едва статья вышла — тут же обозначилась подлинная роль Ермолинского. Но в это время я как раз занималась приведением в порядок текста «Записок о Михаиле Булгакове» — единственной книги, которую мне удалось почистить (освободить от опечаток, редакторских поправок и т. д.) я ввела в текст — в конец главы «Милый Маррон» — оценку истинной роли Ермолинского. См.: http://www.tpuh.narod.ru/yan_bulg_3_1b.htm («Примечание, сделанное много лет спустя».). 28.9.2011 г.
Примечание, сделанное много лет спустя.
Кто же писал доносы прямо из булгаковского дома? — повис в середине главы риторический вопрос. Доносы, написанные не без литературного блеска, сохраняющие булгаковскую речь, даже булгаковские интонации?
Перечислены и одно за другим отвергнуты имена немногих бывавших здесь людей. Евгений Калужский, муж Ольги? Но он актер, а не писатель и вряд ли столь профессионально владел стилем. «Или наш добрый знакомый Сергей Ермолинский, бывающий здесь с Марикой?»
Имя стоит в самом конце перечня и, кажется, только поэтому вопрос оставлен без ответа.
Без ответа... Разве я не знала, как тяжело нависает подозрение над этим именем? Марика рассказывала: после ареста Сережи ее вызвали на Лубянку. К ее ужасу, предложили стать осведомительницей. Она рыдала; захлебываясь слезами, лепетала, что не сможет... не сумеет... не справится... (Рассказывала, и застарелый страх плескался в ее глазах.) Потом ее куда-то повели; ее подавленная память запечатлела показавшийся ей бесконечно длинным, устрашающе темный коридор, внезапный яркий прямоугольник двери, ослепительно освещенный кабинет... и кто-то в форме движется ей навстречу, приобнимает, утешая, кажется, даже гладит по волосам...
«Это был Ильин, — говорит Марика. — Он сказал, чтобы я не плакала, что меня не будут заставлять...» «Какой Ильин?» — с недоумением переспрашивала я. «Ну, этот, Ильин...», — туманно отвечала Марика, а я предпочитала не перебивать ее расспросами.
Диалог наш происходил несколько десятилетий тому назад. Теперь известно: Виктор Николаевич Ильин, к концу службы генерал-лейтенант госбезопасности, возглавлял в ГБ тот самый отдел, который «курировал» образ мыслей писателей и прочих деятелей культуры. В свое время будет арестован и отсидит — как же без этого. Потом, ни в малой мере не писатель, станет одним из секретарей Союза советских писателей. Ильин приветлив, контактен, с начала своей деятельности связан с кино. И Марика знакома с ним с давних пор, почти по-домашнему, по каким-то киношным компаниям. Они даже считались друзьями.
Ермолинский «мемуарит»... Рисунок Бориса Жутовского
После ареста мужчин часто арестовывали и жен. Их обвиняли в соучастии, в недоносительстве, просто в том, что они жены. Но вербовать в осведомители?.. Где-то на краешке сознания вспыхивает мысль: не в том ли дело, что с арестом Ермолинского Ильин потерял агента? Он ищет замену!
Ну да! Отделы страшного ведомства работали расхлябанно. Несогласованно работали. И пока Виктор Николаевич Ильин, лелея и поощряя, воспитывал своих любимых осведомителей, оболтусы из соседнего отдела перевыполняли план по «врагам народа» и шили «дело» его лучшему агенту... Может быть, он надеялся, что Марика заменит Ермолинского? Ведь тот же литературно-театральный круг, те же установившиеся связи... Может быть, даже полагал, что она что-то знала о тайной стороне жизни мужа? Но Ильин — профессионал. Ему не нужен перепуганный и плачущий агент. А то, что Марика не заменит Сергея Ермолинского, яснее ясного...
И еще одна очень неприятная мысль подверстывалась к первой: арест Лямина!
Вспомним: Сергей Ермолинский бывал в булгаковском доме, начиная с 1929 года; но не часто; обыкновенно вместе с Марикой. Встречали его с симпатией, но роман «Мастер и Маргарита» при нем не читали. И в другие важные литературные обстоятельства не посвящали. Постоянным собеседником Булгакова, лучшим слушателем всех его сочинений был, как помнит читатель, Николай Николаевич Лямин. Его единственный, верный, его надежный и любимый друг. И пока Лямин на свободе, прорваться в этот очерченный дружбой круг невозможно.
Только после ареста Лямина в булгаковский дом по-настоящему плотно входит Ермолинский. Его наконец признают своим вполне. От него нет секретов.
Не значит ли это, что Лямина затем и убрали, чтобы Ермолинский без помех вошел в дом?
Я понимала: все происходило именно так. И, работая над главой в 1994—95 годах, вслед за вопросом о Ермолинском, тогда отнюдь не повисавшим в воздухе, изложила этот самый ход размышлений и доказательств.
А изложив, ужаснулась.
Это ведь не одно и то же: критиковать завиральные мемуары... или обвинить человека в смертельном предательстве дома, в который он вхож как друг...
Для оправдания подозреваемого бывает достаточно немногого. Для обвинения — особенно такого страшного обвинения — нужны очень весомые аргументы. Но дело, пожалуй, не только в этом. Я слишком хорошо помнила, что Ермолинский — именно Ермолинский — так безотказно, так внимательно и бережно помогал Елене Сергеевне подымать и поворачивать уже смертельно больного Булгакова. В тетрадях «О ходе болезни», которые Е.С. вела в последние месяцы жизни Булгакова, есть запись, сделанная 10 марта 1940 года, непосредственно после смерти: «В момент смерти <...> возле него были Люся, Женя, Леля, Сережа Ермолинский и Марийка <...> Тело одевали Павел Сергеевич <Попов>, Алексей Михайлович <Файко> и Сергей Александрович <Ермолинский>» (ОР РГБ, фонд 562, карт. 29, ед. хр. 4, л. 59).
(Запись, как и некоторые другие записи в этой тетради, по-видимому, сделана Лелей, сестрой Булгакова; отсюда неожиданное написание имени Марики: Марийка).
И я не хотела быть правой. Жарко надеялась, что ошиблась. Написанные страницы уничтожила. Уговорила себя, что можно, можно найти архивные бумаги, которые оправдают Ермолинского. Откроют причастность к этим доносам несчастного Жуховицкого — уж о нем-то хорошо известно, что его принудили к доносительству. Казалось, нужно всего лишь снова просмотреть дневники Е.С., по крайней мере те страницы, которые остались недоступными мне. Я настолько уверила себя в невозможности вины Ермолинского, что даже — непозволительный поступок! — заявила об этом в печати...
Булгаковский архив мне недоступен поныне и уже навсегда. Но теперь я знаю, что искать в нем оправдывающие Ермолинского документы бесполезно. Их там нет и быть не может. Потому что Ю.М. Кривоносов нашел, наконец, тот самый «третий донос», о котором, помните, я писала: «Определить автора по двум листкам доносов... Еще бы два-три сочинения такого рода! Ну, не два-три, хотя бы одно...».
Нашел, и стало видно, что автор этого «третьего доноса», родственного первым двум, не кто иной как Ермолинский.
Что значит — нашел? Впервые опубликовал? Нет, документ давно опубликован: в «Независимой газете» 10 марта 1995 г. (публикация Г.С. Файмана). Юрий Кривоносов этот документ впервые прочитал.
Как архивист я знаю: документы нередко сами окликают меня. Активно вступают в контакт, радостно приоткрывают свои образные тайны, правда, не до конца, не до конца... На этот раз документ меня не окликнул, и я прошла мимо. Может быть, это произошло потому, что опубликован он был уже после того, как я закончила свой очерк, а ко мне в руки попал еще позже. Может быть, я слишком зациклилась на доносах из дома, а здесь запечатлена встреча осведомителя с Булгаковым на улице. Или просто меня мало интересовала тема их беседы — о работе Булгакова для кино. Как бы то ни было, я не обернулась и не услышала документ. А Кривоносов остановился, всмотрелся. И документ с ним заговорил.
Прежде всего исследователя заинтересовало именно то, что не привлекло моего внимания: о работе Булгакова в сотрудничестве со сценаристом Каростиным над экранизацией «Ревизора» для Киевской кинофабрики. Кривоносов вспомнил, что нечто очень похожее читал в другом месте — в мемуарах Ермолинского. (См.: С.А. Ермолинский. Драматические сочинения, с. 637—638.) И сопоставил.
Теперь можем сопоставить и мы. Отличия есть: осведомитель пишет фамилию булгаковского соавтора так: «Коростин» и без инициалов; несколько десятилетий спустя в мемуарах Ермолинского точнее: «Каростин» и приведены инициалы: М.С. И еще: в мемуарах беседа с Булгаковым звучит суховато, даже тускло; естественно: свежесть восприятия за давностью лет ушла. А записи осведомителя, сделанные через полчаса после беседы, живы и непосредственны. О них Е.С. не сказала бы: «Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков». Как и в первых двух отмеченных мною доносах, в них слышны булгаковские интонации, присутствует его личность.
Запечатлено, в частности, доброжелательное отношение Булгакова к его соавтору. «Не помните, какие условия соавторства?» — спрашивает осведомитель (в доносе он назван «Источником»). «Больше чем половина за написание шла ему», — отвечает Булгаков. «А не хотели вы просто послать его к черту?» — «Нет. Он так работал, что из него вытягивали на фабрике все жилы. Кроме того, его вызывали в Москву, где всячески крыли за формализм». (««Ревизор», уже снятый, — со знанием дела комментирует «Источник», — законсервирован на фабрике по причине формалистических уклонов в картине». «...Просмотренный дирекцией материал, — много лет спустя рассказывает Ермолинский, — вызвал резко отрицательную оценку («формализм»), и работа над фильмом была приостановлена». Кривоносов напоминает: в окружении Булгакова киносценарист Ермолинский — единственный, кто профессионально знаком с обстоятельствами в киносреде.)
И снова попытка «Источника» вызвать Булгакова на критику Каростина: «В конечном счете, это насильственное соавторство или нет?» — «Абсолютно нет! — отвечает Булгаков. — Надо прямо сказать, что после того момента, как я перестал понимать, что от меня хотят — работал почти один Коростин, а я только впадал в панику и хотел только поскорее удрать».
И снова: «Неужели вы, так хорошо знающий Гоголя, и особенно «Ревизора», не могли сами закончить сценарий?» — «А черт его знает. У них такие доводы и такие требования, что я ничего не понял и должен был сдаться».
Похоже, на этот раз задача «Источника» собрать «компромат» на Каростина. Булгаков же по отношению к своему соавтору неизменно корректен.
И еще Кривоносова, в отличие от меня, заинтересовало то обстоятельство, что встреча «Источника» с Булгаковым состоялась на улице. В документе сообщается, что это произошло 22 декабря 1936 года, между 9 и 10 час. вечера, в присутствии жены Булгакова Елены Сергеевны. «Возникает вопрос, — пишет исследователь, — почему беседа велась на улице, это же был декабрь, разгар зимы, на морозе не постоишь. Значит, разговор шел на ходу. А куда и зачем они могли идти?» И рядом с загадочным донесением раскрывает Дневник Е.С.
Оказывается, в эти дни у десятилетнего Сережи, сына Елены Сергеевны, скарлатина, и она в течение нескольких дней не выходит из дому. И в доме никто не бывает: карантин. Но болезнь протекает благополучно, 23 декабря карантин можно отменить, и вечером 22-го Е.С. и Булгаков выходят на прогулку.
Почему в Дневнике не отмечено, что они кого-то встретили? Потому, резонно замечает Кривоносов, что и встреча и разговор не показались Елене Сергеевне заслуживающими внимания. Надо думать, очень уж «своим» был человек, с которым они шли по улице, и разговор — обыденным.
А куда шли? Предполагаемая схема события, по мнению исследователя, такова: этот человек заглянул к ним в тот вечер «на огонек», потом они пошли его проводить (как нередко провожали Ермолинского, жившего неподалеку, в Мансуровском переулке) и заодно прогуляться. Эти прогулки «до Ермолинских» были привычны, о чем свидетельствуют другие записи в Дневнике.
Логично? Я бы чуть уточнила: не заходил Ермолинский без приглашения, карантин все-таки, и знал, что Елена Сергеевна очень озабочена — ребенок болен. Булгаков и Е.С. вышли вдвоем. Вышли «подышать воздухом», привычным маршрутом прошли к Мансуровскому, «до Ермолинских», заглянули к друзьям. А потом уже Сергей Александрович, искренне обрадованный их визитом, и тем, что опасная болезнь миновала, и тем, что с Булгаковым можно поговорить о Каростине, вызвался их проводить. О разговоре же, состоявшемся по дороге, Е.С. ничего не записала, поскольку ничего особенного в разговоре этом не было...
В мемуарах Ермолинского меня когда-то поразили строки: «...Архив мой, бумаги, письма, рукописи, а с ними то, что я успел написать о Михаиле Афанасьевиче, погибли. И ведь уже возникала книга о нем!» («Драматические сочинения», с. 588). Книга о Булгакове? При жизни Булгакова?
А ведь это правда: Ермолинский действительно уже писал свою «книгу». При жизни Булгакова писал. Только адресовал он ее и передавал по частям очень своеобразному кругу весьма опасных читателей. Недаром Марика упрекала его: «А ты что-то пишешь, пишешь и никогда мне не прочитаешь». Естественно: кто же показывает близким такие сочинения?
При всем том, думаю, Ермолинский Булгакова любил. Не выспрашивал и не подсматривал — просто записывал то, что видел и слышал. Может быть, считал свою деятельность безобидной, даже благородной. Только ведь, как уже сказано выше, безобидных доносов не бывает.
Знал ли об этом все понимающий Булгаков? Увы, нет. И Елена Сергеевна, которую в конце жизни так раздражали мемуары Ермолинского, о его доносительстве не догадывалась. Ни о чем не подозревала светлая душою Марика. И Тата — Наталия Абрамовна Ушакова-Лямина, — как говорится, на дух не переносившая Ермолинского, так и не узнала о его черной роли в трагической судьбе ее мужа.
Мир их сердцам.
2010.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |