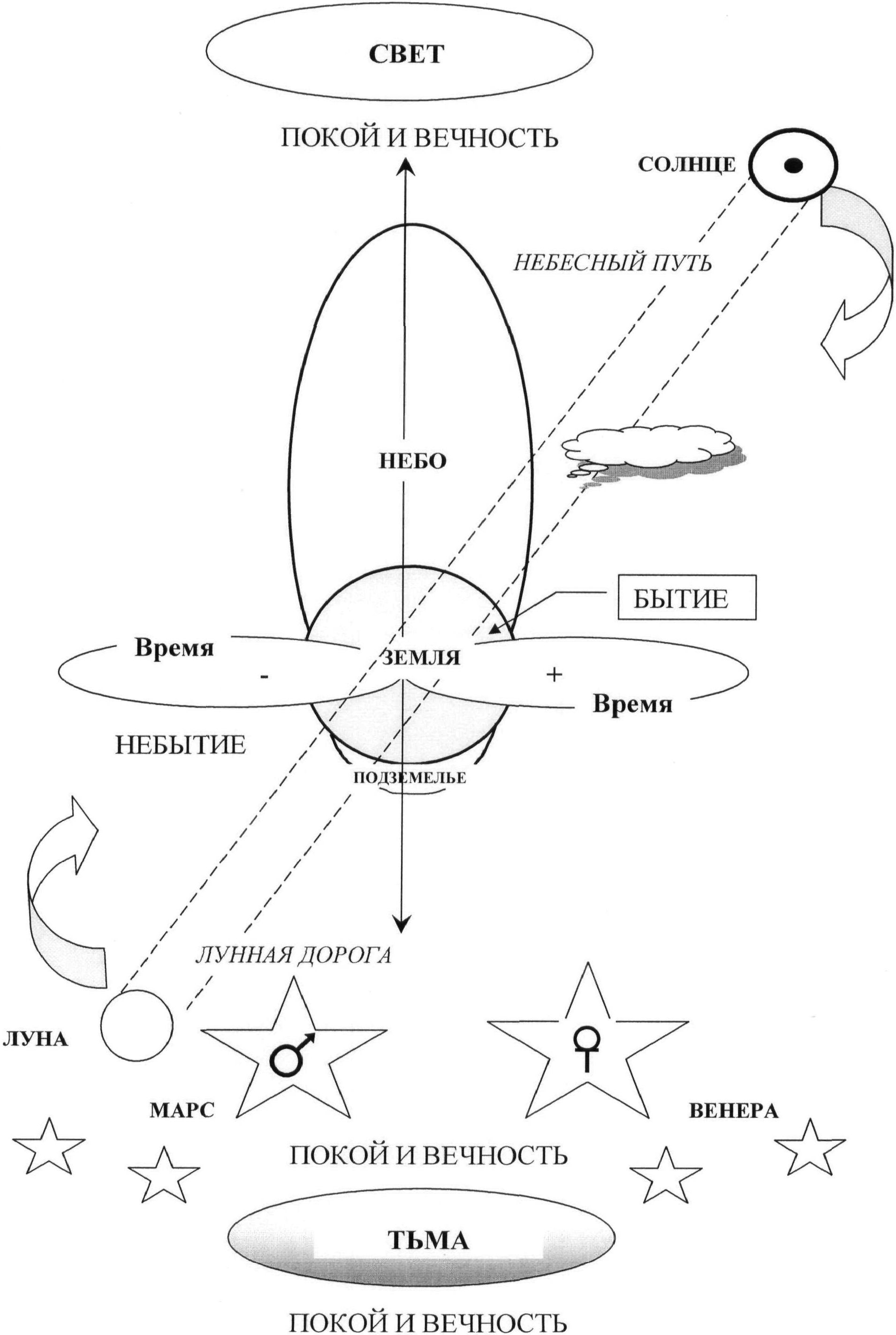Одним из первых литературных опытов Булгакова по осмыслению судьбы писателя — современника явилась повесть «Записки на манжетах» (1922—1923). Здесь причудливо переплелись автобиографическое начало, раздумья о литературном процессе и поиски новых ценностных ориентиров. Определяющим в повести становится мотив болезни. Поначалу он воспринимается персонифицированно — болен герой: «Голова. Второй день болит. Мешает. Голова!.. В висках толчки. Простудился» [121, т. 1, с. 113—114]. Однако вскоре читатель начинает прозревать: болен сам мир, и подтверждением тому становится мистический мотив «дьяволиады»: «Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят <...>. Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищных галифе. Вонзается в группы и те разваливаются <...>. На кого ни глянет — все бледнеют. <...> Только барышням — ничего!» [121, т. 1, с. 119]1. Возникающие ассоциативные связи с «Дьяволиадой» закономерны, поскольку «Записки на манжетах» следует считать не столько описанием уже пройденного пути, сколько «планом-конспектом» на будущее. Потому-то и тянутся от «Записок...» преемственные нити ко множеству произведений Булгакова, откликаясь в них то мотивом, то сюжетным поворотом, то образом или приемом.
Состояние фрустрации главного героя «Записок на манжетах», его бред объясняются не столько болезнью, сколько его безуспешными попытками понять и принять окружающий «дьявольский» мир, ту реальность перевертышей, в которой неуч или невежественный чиновник нарекает себя критиком («прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь...» [121, т. 1, с. 120]), а писатель вынужден стать чиновником («Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел» [121, т. 1, с. 119]), где искажаются представления о подлинных ценностях, о ценности человеческой жизни («— Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины — грабят и убивают... — Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин...» [121, т. 1, с. 117]).
Фрагментарная композиция «Записок...» подчеркивает хаотичность, разорванность сознания героя. Происходящее вокруг настолько невероятно2, что порождает у него болезненные галлюцинации3, хотя разум пытается преодолеть надвигающееся безумие. Мотив «сна — погони», сопровождающий исчезновение и поиски «заколдованного Лито», окрашивает действие в фантастические тона и предваряет не только «Дьяволиаду», «Записки покойника», но и «Мастера и Маргариту»4. Духовной опорой для героя становится «дом», который олицетворяет вневременные ценности — ПОКОЙ И ТВОРЧЕСТВО.
Особая роль в повести отводится писательской теме; при этом Булгаков не только соотносит художников прошлого5 и настоящего6, но и намечает контуры современности. Примечательно, что Булгаков, приступая к «Запискам на манжетах», был охвачен идеей составления «библиографического словаря писателей с их литературными силуэтами»7, словно пытался определить свое место в контексте современной литературы. По справедливому замечанию М. Чудаковой, художник стремился стать не «новым» классиком, взамен «старого», а «новым, т. е. еще одним — продолжить собой ряд, не давая образоваться пробелу, который казался очевидным... Это было самосознание не ученика, а наследника, продолжателя рода» [659, с. 361—362].
Зигзаги писательской судьбы намечены уже в главе «Камер-юнкер Пушкин», где герой «Записок...», набравшись «гражданского мужества», сначала выступает в защиту великого поэта, а затем читает опусы «литературного дебошира»8. Булгаков с горечью констатирует противостояние духовного начала культурной элиты и революционного нигилизма масс. Характеризуя это противостояние в работе «Восстание масс» (1929—1930), Х. Ортега-и-Гассет писал: «Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. <...> Сегодня весь мир становится массой <...>, (стремящейся к отрицанию — П.В.) творческих начал истории, которыми, в конечном счете, держатся, питаются и движутся людские судьбы» [477, с. 311, 345].
Нужда и бесприютность — характерные, с точки зрения Булгакова, составляющие писательской судьбы, и примером тому стала собственная творческая биография. Именно такое нищенское существование вынудило героя «Записок...» (а впоследствии и Дымогацкого) написать «кассовую», но удивительно бездарную пьесу. Подобно тому, как завязкой гоголевских «Мертвых душ» явился некий приватный разговор, трагикомический конфликт «Багрового острова» мог бы зародиться в «Записках на манжетах»9. Ведь в том-то и состоит магия искусства, что «рукописи не горят»: «Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..» [121, т. 1, с. 128—129]. «Рукописи не горят». В этом, по мысли Булгакова, проявляется ответственность художника не только перед будущим, но и перед самим собой.
В сентябре 1929 года Булгаков пишет повесть «Тайному другу», которую можно рассматривать как один из набросков будущего романа «Записки покойника». И хотя «Тайному другу», в отличие от «Записок покойника», где автор — повествователь нарочито дистанцируется от «автора рукописи» Сергея Леонтьевича Максудова, написана от первого лица, общность подходов, сюжетных поворотов, мотивов в произведениях несомненна10. Уже эпиграф к повести («Трагедия машет мантией мишурной»11) предопределяет трагикомическую судьбу драматурга. Понятие судьбы здесь, как в булгаковских пьесах о Мольере и Пушкине, обретает значение рокового предопределения. Мотив катастрофы начинает звучать с первой главы («Открытка») и пронизывает все повествование. Трагедией чревато само обращение главного героя к творческому процессу, поскольку в окружающий обыденный мир оно несет интуитивный трагический опыт гражданской усобицы12.
Автобиографическая основа повести воспроизводит не только то, «каким образом я сделался драматургом» [131, с. 571], в чем, безусловно, угадываются мистические обстоятельства, но и сам процесс творчества, который уподобляется «высокой болезни»: «Из-за чего же все это? Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством. <...> Сердце то уходило куда-то вниз, то оказывалось на месте. <...> «Интересно, в какую секунду я умру? Дойдя до стола или раньше? <...> Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и <...> выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет» [131, с. 579—581].
Новалис так описывал «магию творчества»: «Поэт воистину творит в беспамятстве, оттого все в нем (в творчестве — П.В.) мыслимо. <...> Поэт упорядочивает, связывает, выбирает, измышляет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не иначе» [470, с. 122]. В осмыслении путей художественного познания Булгаков смыкается с русской религиозно-философской мыслью, которая предполагает познание истины «целостным духом» на основе слияния воли и чувства (Н. Бердяев), рационального и религиозно-мистического начал (Вл. Соловьев), на основе «разумной интуиции» (П. Флоренский), благодаря которой «разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка» [623, с. 60]13. Не случайным в этой связи представляется неприятие русскими философами агностицизма И. Канта, который провозгласил невозможность для человека прорваться за границы явлений этого мира, приблизиться к постижению сущности вещей. «Там, где Канту видится ноуменальный мрак «вещи в себе», русским мыслителям сияет свет откровенной истины. Там, где кантовский чистый (теоретический) разум как бы повисает в воздухе безосновности, русские мыслители обретают абсолютную сверхразумную основу и «припоминают», что всегда уже на ней стояли», — справедливо замечает А. Ахутин [20, с. 64]. Из «припоминания» рождается художественная реальность «снов» в булгаковских произведениях. Кстати, термин «припоминание» отсылает нас к существенной особенности русской философии — способу философствования. Опираясь на формулировку И. Канта о границах рационального познания, русские философы приходят к мысли о том, что всякое рациональное обоснование высших трансцендентных начал ограниченно и условно. Отсюда — мистическое, не требующее рационального объяснения, явление нечистой силы в «Дьяволиаде», в повести «Тайному другу», в романах «Записки покойника», «Мастер и Маргарита».
Многое связывает повесть «Тайному другу» с «Дьяволиадой»: то же стремление найти ответы, обрести душевное равновесие в мире, трансформированном мистическим образом, те же погони и маскарад, то же столкновение реальной и фантастической логики14. По Булгакову, талант сродни роковой печати на судьбе художника. Преодолевая муки творчества, герой испытывает облегчение только тогда, когда роман написан («Он написан»). Но творец, подобно доктору Фаусту, не может обрести покой15. Характерно, что на грани жизни и смерти главный герой вспоминает о Боге («вездесущий Бог спас меня от греха» [131, с. 590]), но спасителем выступает дьявол, по крайней мере, таким ему представляется Рудольф Максимыч: «Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал Дьявол. <...> я понял, что черному пришло в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа. — Здравствуйте, — молвил Сатана... <...> — Гм! — сказал Вельзевул. <...> Дьявол ухмыльнулся... <...> Дьявол снял шубу <...> окончательно превратился16 в Рудольфа...» [131, с. 590, 592].
Сцена разговора главного героя с Рудольфом словно предваряет «беседу» Воланда с Мастером («— Роман написали? — вдруг после паузы спросил чёрт. Я вздрогнул. — Откуда вы знаете?» [131, с. 591]), хотя преемственные связи с «Мастером и Маргаритой» гораздо глубже17. Появившись из ниоткуда, Рудольф не только подарил надежду «автору», но и «прочитал последние слова про звезды», «вручил мне пять червонцев, а затем (как и полагается дьяволу — П.В.) сам он в берете и мой роман провалились сквозь пол. Мне почудилось, что я видел клок пламени, выскочивший из паркетной шашки, и долго еще пахло в комнате серой (как в «Дьяволиаде» — П.В.)» [131, с. 592, 595].
«Тайному другу» можно рассматривать как своеобразный промежуточный вариант в процессе написания романа «Записки покойника». Общими здесь являются:
• род занятий главного героя (литературное творчество);
• та гротескно-фарсовая атмосфера, в которой он вращается («И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как? Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра» [131, с. 572]);
• автобиографическая основа сюжета (история написания романа «Белая гвардия») и его авантюрно-мистическая аранжировка («он продал душу Дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. <...> Когда же дьяволовы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был Дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик» [131, с. 573]).
Произведения объединяют и общие мотивы: «творчества», «погони», «маскарада», «балагана», «катастрофы», «самоубийства». Глава VIII перекликается со 2-й и 5-й главами из «Записок покойника», совпадают и названия отдельных глав («При шпаге я» — гл. VI в «Тайному другу» и гл. 4-я в «Записках...»). Даже зовут таинственных издателей почти одинаково: Рудольф и Рудольфи. Но самым существенным «совпадением» можно считать единство этико-эстетического подхода к проблемам «творец и творение», «творец и толпа».
Роман «Записки покойника» был закончен автором в 1937 году. С точки зрения А. Дравича, «Записки покойника» не что иное, как «психологическая автобиография» Булгакова. И это вполне справедливо, поскольку в них через призму автобиографических данных (история написания и инсценирования романа «Белая гвардия») прочитываются самые сокровенные представления автора о театральной и писательской среде, просматривается сама психология творческого процесса.
Сергей Леонтьевич Максудов, главный герой «Записок...», наряду с повествователем и автором становится участником грандиозной мистификации. Традиционен в этом случае и прием дистанцирования автора от содержания романа, который, впрочем, не только не может никого ввести в заблуждение, но, напротив, вовлекает читателей в сферу условности, в русло игры: «Предупреждаю читателя, что к сочинению этих записок я не имею никакого отношения... <...>, самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел <...>. записки Максудова представляют собою плод его фантазии, и фантазии, увы, больной. <...> Я, хорошо знающий театральную жизнь Москвы, принимаю на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей, какие выведены в произведении покойного, нигде нет и не было» [121, т. 2, с. 179—180]. Вместе с тем, в «Предисловии» к «Запискам...» Булгаков намечает следующие опорные точки для восприятия и оценки последующего повествования:
• Максудов — «маленький человек», волею судьбы или стечением обстоятельств ставший писателем («он и был маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства», единственный раз выступившим в качестве беллетриста, и то неудачно — роман Сергея Леонтьевича не был напечатан» [121, т. 2, с. 179]);
• нравственным императивом, своего рода наставлением читателю становится «русифицированный вариант» библейского изречения в «снятом» эпиграфе к «Запискам...» («Коемуждо по делам его...» [121, т. 2, с. 180]), которое в «Белой гвардии» звучит традиционно18, а в «Мастере и Маргарите» трансформируется в высказывание Воланда: «...каждому будет дано по его вере». Причем замечание «повествователя» о том, что данный эпиграф показался ему «претенциозным, ненужным и неприятным», лишь усиливает его звучание;
• «Записки...» продиктованы больным воображением героя, поэтому мистическое и фантастическое в них является вполне мотивированным («Сергей Леонтьевич страдал болезнью, носящей весьма неприятное название — меланхолия» [121, т. 2, с. 179]19; во второй главе Максудов называет ее неврастенией.
По Булгакову, атрибутом творческого процесса является истинная ДУХОВНОСТЬ, которая «есть высшая качественная ценность» (Н. Бердяев [64, с. 321]); она связана с желанием человека вырваться за пределы обыденности, обывательской озабоченности, с его стремлением приобщиться к эмпирически недостижимому. Болезненное воображение рождает в снах одинокого маленького человека, увязшего в скудной, однообразной и скучной жизни, потребность писать («Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. <...> Так я начал писать роман» [121, т. 2, с. 183]).
Диспропорция частей романа (I часть — 14 глав, II часть — 2 главы) объясняется двумя неравновеликими составляющими авторского замысла: в первой части — путь к театру, во второй, — неразрывная связь с ним, когда все «мысли были прикованы только к одному, к пьесе» [121, т. 2, с. 301], когда «иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли» [121, т. 2, с. 320]. Выдерживая авантюрно-приключенческий стиль повествования, «автор» намеренно прибегает к ретроспекции20.
Творческая жизнь писателя была бы неполной, если бы рядом не было его критиков и собратьев по перу. Основная причина неприятия ими максудовского романа — зависть, но поводов для его критики множество: «язык», «метафора», «цензура не пропустит», «достоевщинка». Булгаков сатирически освещает взаимоотношения в писательской среде, по-гоголевски акцентируя внимание на деталях. Рассуждая о недостатках романа, критик «выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку. Я налил ему вторую. Он ее выпил, закусил куском колбасы. <...> пожилой литератор выпил со мною совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня «Леонтьич». <...>
— Язык ни к чёрту! Но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали (это меня)! — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей» [121, т. 2, с. 185]. Венчает беспринципную критику реплика пожилого литератора: «Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман» [121, т. 2, с. 186]. Невольно вспоминаются некоторые критические статьи о булгаковских произведениях.
По Булгакову, творение — продолжение души творца. Поэтому для Максудова сознание того, что роман — мечта всей его жизни — оказался плох, означало конец этой самой жизни. У него ничего не осталось: «Калоши грязные у вешалки, чья-то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это все» [121, т. 2, с. 189]. И в сознании его поселился «смертельный ужас»21. Мотив самоубийства внезапно прерывается сиплыми звуками оркестра, исполняющего оперу («Батюшки! «Фауст»! — подумал я. — Ну, уж это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу» [121, т. 2, с. 189]). Необходимо было чудо, чтобы удержать героя от рокового поступка, и это чудо произошло. Словно вняв ожиданиям Максудова, в продолжение оперы Ш. Гуно раздался грохот и «тяжелый басовый голос» произнес: «Вот и я!».
Первое явление загадочного редактора — издателя журнала «Родина»22 Рудольфи почти повторяет аналогичную сцену из повести «Тайному другу»: то же состояние оцепенения у главного героя, те же мефистофельские черты у гостя. Дополняет картину мотив маскарада, знакомый читателю по «Дьяволиаде»: «Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие черной бороды. <...> Тут оказалось, что никакой бороды у него не было. Тени пошутили» [121, т. 2, с. 190—191]. Максудов воспринимает таинственного редактора одновременно в двух ипостасях: реальной и мистической23. Несмотря на фантастичность появления Мефистофеля — Рудольфи в пальто, в блестящих калошах и с портфелем под мышкой в московской квартире, Максудов, предваряя мастера из «закатного» булгаковского романа, не видит в этом ничего сверхъестественного: «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке» [121, т. 2, с. 190]. Более того, отвергнутый «светом» (писательской элитой), Максудов внутренне готов к оценке своего романа «князем тьмы»: «Меня должно было радовать то обстоятельство, что редактор появился у меня хотя бы даже и в виде Мефистофеля» [121, т. 2, с. 191]. Закономерным в этой связи представляется и последующее подписание договора, которое тоже можно рассматривать в двух аспектах (договор с редактором и договор с дьяволом), причем автор акцентирует внимание на деталях: «Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов, сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате» [121, т. 2, с. 192—193].
Начало писательской карьеры Максудова — переход «в другой мир», мир во многом странный24, необъяснимый, где события разворачиваются с немыслимой быстротой. Посещение героем Макара Рвацкого в «Бюро фотографических принадлежностей» воскрешает в памяти гротескные картины «Дьяволиады». Здесь и «кишащее» людьми в пальто и в шляпах помещение, и маленького роста странно одетый человечек — Макар Рвацкий («На нем была визитка, полосатые брюки, он был при грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке, а в галстуке этом была рубиновая булавка» [121, т. 2, с. 196]25). Сходство с «Дьяволиадой» еще более усиливается, когда при повторном посещении несуществующего «Бюро» Максудов обнаруживает новую вывеску «Бюро медицинских банок», а вместо Макара Рвацкого по его векселям платит брат Алоизий Рвацкий. Они не близнецы, но неприятностей от этого не меньше.
«Творческая» среда, в которую окунулся Максудов, по сути дела, предваряет описание массолитовских завсегдатаев «дома Грибоедова» («Мастер и Маргарита»). Опираясь на гоголевскую традицию, Булгаков «помещает» своего героя в мир мертвых душ с экзотическими фамилиями: Агапенов, Лесосеков, Ликоспастов, Баклажанов, Фиалков, Тунский. Оправданным в этой обстановке становится появление осовремененного Ноздрева (Измаила Александровича) с Мижуевым (Баклажановым): «Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кое-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал. <...>
— Баклажанов! — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. — Рекомендую. Баклажанов, друг мой. <...> Я его с собой притащил! — продолжал Измаил Александрович. — Нечего ему дома сидеть. Рекомендую — чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! <...>
— Ну, были, например, на автомобильной выставке, — рассказывал Измаил Александрович, — открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю — Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...
— Еще! Еще! — кричали за столом. <...>
— Баклажанов! Почему ты не ешь?.. <...> Да-с... Баклажанов! Не спи ты, чёрт этакий!.. <...>
— А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!» [121, т. 2, с. 203—204].
Близкое знакомство с писателями не проходит для Максудова бесследно: «Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир!». Но «надо держать это в полном секрете, т-сс!» [121, т. 2, с. 207], потому что обратной дороги у Максудова нет26. В седьмой главе герой пытается подвести некоторые итоги, созвучные булгаковским раздумьям: «— Итак, <...> я побывал в следующих мирах. Мир первый: университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. <...> После невероятных приключений <...> я оказался в «Пароходстве» (мир второй — П.В.). <...> Я покинул и мир «Пароходства». И, собственно говоря, открылся передо мною мир (третий мир — литературная среда — П.В.), в который я стремился, и вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым» [121, т. 2, с. 209]. Вот тут-то и возникает в сознании художника некий магический кристалл, преобразивший его творческую судьбу.
Булгаков очень тонко и психологически достоверно описывает погружение своего героя в творческий процесс27, перефразируя при этом классические строки («Подобно тому, как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи» [121, т. 2, с. 184]), показывая сам процесс рождения пьесы: «Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. <...> мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. <...> С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. <...> А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. <...> Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. <...> Стало быть, я и пишу: картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу — напевает. Да это, оказывается, прелестная игра! Не надо ходить ни на вечеринки, ни в театр ходить не нужно» [121, т. 2, с. 212, 213]28.
По Булгакову, интуитивное погружение в истину создает особую психологическую атмосферу, в которой «автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент и в силу этого подчинен своему творению...» [695, с. 118]. Созданные им персонажи словно начинают жить «самостоятельной» жизнью. Так, в письме к В. Вересаеву от 27 июля 1931 года Булгаков пишет: «...А.Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). <...> во время бессонниц приходят они ко мне и говорят за спиной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами» <...>, выходит, что мой главнейший враг — я сам» [129, с. 461].
Уже в первой главе «Записок покойника» приподнятое эмоционально-психологическое состояние героя, которого коснулось вдохновение («душа как-то смягчилась и жить захотелось»), контрастирует с его серым костюмом, в кармане которого лежит некое письмо с таинственным предложением. Так в размеренную жизнь рядового сотрудника газеты «Пароходство» чудесным образом вторгается мир театра. Причем театра мистического, который преображает реальность, делая ее похожей на вымысел. Даже внешние цветовые атрибуты («здание желтого цвета», «черная доска с золотыми буквами», куртка с «зелеными пуговицами») придают повествованию таинственную окраску. Последующая встреча с Ильчиным выдержана в зловещей тональности: «Здание молчало <...>. И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась — за окнами зашумела вторая гроза. <...> Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина. <...> Вообще и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание» [121, т. 2, с. 182]. Предложение написать из романа пьесу вызывает у Максудова однозначную реакцию: «Перст судьбы!» и вводит его в новый, четвертый мир — мир театра («— Этот мир мой... — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух» [121, т. 2, с. 203—216]).
Все, с чем сталкивается герой в театре29, повергает его в изумление, в смятение, а порой и в ужас. Пожалуй, именно здесь игра становится не только формой, но и содержанием театральной жизни. Литературные портреты, списанные с реальных прототипов, шаржированно передают знакомую Булгакову мхатовскую атмосферу. Уже сами названия (Независимый Театр, Когорта Дружных) и фамилии персонажей (заведующий литературной частью Айвазовский, заведующий приемом пьес Княжевич, артистка Таврическая, актер Бамбардов) вызывают невольную ироническую улыбку. А когда Максудову показывают портретную галерею театра, ирония переходит в едкий сарказм. Гротескный оттенок откровенно нелепой сцены очевиден, поскольку вперемешку с царями (Нерон, Екатерина Вторая), «классиками» и современниками (Сара Бернар, Мольер, Грибоедов, Шекспир, Живокини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, Каратыгин, Тальони, Карузо, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Баттистини, Эврипид), представлены местные театральные «звезды» (заведующий осветительными приборами Андрей Пахомович Севастьянов, артистка театра Людмила Сильвестровна Пряхина, заведующим поворотным кругом Плисов, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева) [121, т. 2, с. 220—223].
Доводя ситуацию до абсурда, Булгаков демонстрирует уже совершенно гротескные «коллективные» фотографии и портреты основоположников Независимого театра: «Аристарх Платонович с Тургеневым на охоте», «Аристарх Платонович и Островский», «Аристарх Платонович, Писемский, Григорович и Лесков», Аристарх Платонович и Лев Толстой, «Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть «Мертвых душ» [121, т. 2, с. 237]30.
В том, что связано с Независимым Театром, явственно просвечивают автобиографические мотивы. Так, в репертуаре среди пьес Эсхила, Софокла, Лопе де Веги, Шекспира, Шиллера, Островского вдруг появляется «Черный снег» Максудова31. Проекция творческой биографии Булгакова на текст заметна и во внутреннем раздоре между молодым составом и старейшинами театра («самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет...» [121, т. 2, с. 290]) за возможность играть максудовскую пьесу32, и в непомерном самомнении театральной элиты, считавшей себя вправе диктовать автору, как ему следует «исправить пьесу»33, и даже в договоре, который Максудов вынужден подписать и где «каждый пункт начинался словами: «Автор не имеет права» [121, т. 2, с. 225].
И все же непостижимая, загадочная театральная среда завораживает Максудова, и его острый взгляд выхватывает в окружающем дьявольское и прекрасное. Мир театра, в котором игра становится продолжением жизни («Этот мир чарует, но он полон загадок...» [121, т. 2, с. 234]), постепенно открывает перед героем свои секреты. Перед Максудовым словно раскрывается иное измерение, где реальное и условное гротескно перемешаны. Впечатление фантастического зрелища оставляют в сознании героя сцены «переживаний» Торопецкой и Пряхиной в «предбаннике» театра (гл. 10 — «Сцены в предбаннике»), но еще в большей степени чувство нереальности происходящего охватывает Максудова во время посещения загадочного Ивана Васильевича (гл. 12 — «Сивцев Вражек»). Усиливая атмосферу таинственности, автор обращает внимание на символические детали и прихотливую игру цветов: «Вам надлежит прибыть в Сивцев Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня». <...> Я решил так: крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый34. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом. <...> утром я повидался в театре с Бомбардовым. Наставления его показались мне странными до чрезвычайности. — Как пройдете большой серый дом, — говорил Бомбардов, — повернете налево, в тупичок. <...> С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: «Вы зачем?» — а вы ему скажите только одно слово: «Назначено»35. <...> увидите черный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и черная-пречерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее. <...> Он спросит тревожно: «Вы куда?» А вы ответьте...
— Назначено?
— Угу. <...>
Следуя указаниям Бомбардова, я шел безошибочно и попал к бюсту Островского. «Э...» — подумал я, вспомнив Бомбардова: в печке весело пылали березовые дрова, но никого на корточках не было. Но не успел я усмехнуться, как старинная дубовая темно-лакированная дверь открылась, и из нее вышел старикашка с кочергой в руках и в заплатанных валенках. Увидев меня, он испугался и заморгал глазами.
— Вам что, гражданин? — спросил он.
— Назначено, — ответил я, упиваясь силой магического слова» [121, т. 2, с. 257—259].
Все время пребывания у Ивана Васильевича главного героя не покидает мысль о том, что все вокруг ненастоящее, иллюзорное. «Золотой лорнет и немигающие глаза» Ивана Васильевича; надменная женщина, поклонившаяся ему «древнерусским поклоном»; рассуждения о некоей шайке, против которой у Ивана Васильевича «есть план»; и, наконец, «осатаневший от страху жирный полосатый кот», который «шарахнулся <...> к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез до верху и оттуда оглянулся с остервенелым видом» [121, т. 2, с. 262]36.
Описываемый театральный быт все время балансирует на грани реальности и мистификации: «Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах: — Что я слышу?! Что я слышу?! Неужели мой учитель и благодетель гонит меня?! Боже, боже!! Ты видишь?! <...> — Это мы репетировали, — вдруг сообщил Иван Васильевич, — а вы, наверное, подумали, что это просто скандал! Каково? А?» [121, т. 2, с. 263—264].
В поисках разгадки характеров театрального мира Булгаков то и дело обращается к гоголевским типам. Так, хлестаковские и ноздревские «байки» преломляются не только в писательской, но и в театральной среде. При этом обращает на себя внимание стилистика сходных сюжетных ситуаций:
Егор Агапенов: — Ух, Максудов! — вдруг зашептал Агапенов, подмигивая, — обратите внимание на этот персонаж... Видите? <...> Он, он, деверь мой. <...> Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, — шептал Агапенов, — жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят» [121, т. 2, с. 205—206].
Иван Васильевич: «— Вот вам бы какую пьесу сочинить... Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма... Судьба артистки. <...> У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них... Сразу полтора акта пьесы готовы! Такие расхаживают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит» [121, т. 2, с. 268].
Постепенно Максудов познает истину (гл. 13 — «Я познаю истину»), усваивает законы театрального мира:
• театр полон притягательной силы, дьявольской магии («гробовой голос» и «сатанинское лицо» Бомбардова, «сатанинский голос» и «мефистофельский смех» Максудова), хотя и здесь много всякого рода проходимцев (история «покойного» Герасима Николаевича);
• в театре нет различий между жизнью и игрой (ср. К.С. Станиславский «Моя жизнь в театре»)37;
• театр требует неукоснительного, доходящего порою до абсурда, соблюдения иерархии взаимоотношений («На Сивцев Вражке не возражают» [121, т. 2, с. 273]).
Психологический конфликт Максудова с окружающими (в том числе с Иваном Васильевичем) обусловлен драматическим противостоянием двух миропониманий: авторитарного, построенного на жесткой иерархии взаимоотношений, когда даже талант подчиняется законам социальной игры, и романтически максималистского, не принимающего правил этой «игры». Невозможность подчинить «категорический императив» «практическому разуму», заставить свой дар соответствовать общепринятым нормам приводит героя к гибели. Смерть Максудова воспринимается и как вызов (подобно герою «Дьяволиады»), и как нравственный посыл к читателю: что важнее, талант мастера или признание его окружающими?! Финал «Записок покойника» — своего рода итог нравственных исканий Максудова, который обрел свое место в мире бессонницы и вдохновения, отчаяния и творческого порыва, который ощутил силу и величие настоящего искусства.
Итогом нравственно-эстетических исканий Михаила Булгакова, его художественным завещанием становится «закатный роман» «Мастер и Маргарита», в котором различные грани таланта отразили все многообразие философских и социально-исторических проблем творчества писателя. По свидетельству Е.С. Булгаковой, «Мастер и Маргарита» был задуман в 1928 году, а в 1929 Булгаков приступил к работе [см. 714, т. 2, с. 731]. Однако точкой отсчета в возникновении замысла будущего «романа о дьяволе» можно считать запись, которая появляется 5 января 1925 года в дневнике Булгакова: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника» (имеется в виду 11 номеров журнала «Безбожник» за 1924 год — П.В.), я был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Этому преступлению нет цены» [128].
Литературоведы расходятся во мнениях о том, сколько же редакций насчитывает роман. М. Чудакова выделяет 8, Л. Яновская — 6, Б. Соколов — 3. Думается, точка зрения Б. Соколова более мотивирована, поскольку он именует «редакцией» не отдельные наброски и фрагменты, дополняющие повествование, а заново переработанный текст. В результате первая редакция38 датируется 1930-м годом, вторая — 1937-м, третья39 — 1940-м.
Еще до завершения романа Булгаков словно предугадал будущую судьбу своего произведения. В 1933—1938 годах он читал отдельные главы А. Ахматовой, Н. Эрдману, В. Вересаеву, С. Ермолинскому, Н. Ангарскому, вопрошая: «Ну уж это-то будет опубликовано?» В ответ — смущенные улыбки и неутешительные резюме. И действительно, в связи с еще незаконченным произведением, имевшим несколько предварительных вариантов названия40, снова началась ожесточенная травля Булгакова. Писателя упрекали в апологизации Христа, в проповеди мракобесия и мистицизма, то есть в том, в чем обвиняли его героя — мастера («Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать» [121, т. 2, с. 456]). Однако роману «Мастер и Маргарита» повезло, поскольку критика «добралась» до него уже после опубликования (на страницах журнала «Москва»); и уже не было возможности по традиции замалчивать «закатный роман» одиозного автора.
Размышляя об истории написания «Мастера и Маргариты», М. Чудакова пишет: «Сам роман о Иешуа и Воланде с заложенной в нем проблематикой и вневременным характером событий, в которых участвуют Пилат и Иешуа, не мог не наложить отпечатка на осмысление Булгаковым своих автобиографических проблем, не повлиять на осознание своей биографии как вневременной судьбы» [662, с. 506]. Классическая тема «маленького человека» (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский) в этом романе трансформируется в автобиографическую по характеру тему художника — творца (как в «Александре Пушкине»), трагизм судьбы которого проистекает не из внутренней раздвоенности героя, а из столкновения с жестокими обстоятельствами.
Сразу после публикации роман «Мастер и Маргарита» вызвал множество различных толкований и оценок. Одни исследователи пытались перевести его содержание в плоскость политики, противопоставляя Булгакова советскому искусству (Д. Пайпер ассоциирует убийство Иуды из Кириафа с убийством Кирова, а появление Степы Лиходеева в Ялте — со ссылкой Троцкого [727, с. 150]; самым «несоветским из всех советских романов» называет «Мастера и Маргариту» Барбара Целински [639, с. 330—353]), другие с позиций эстетических несколько прямолинейно и эмоционально пытались «оправдать» Булгакова («булгаковский Иешуа — это на редкость точное прочтение» истории Нового Завета, «прочтение в чем-то гораздо более глубокое и верное, чем евангельские ее изложения, ибо если верно то, что дьявол существует на самом деле, он должен был бы быть, наверное, именно таким, каким его показал Булгаков, тем более это можно сказать о булгаковском Христе» [165, с. 368]). Некоторые упрекали автора в отсутствии элементарного вкуса («Это распутное увлечение нечистой силой — уже не в первой книге (в «Дьяволиаде» — и до безвкусия), и это сходство с Гоголем уже во стольких чертах и пристрастиях таланта — откуда? почему? И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная — это к чему, как схватить?..» [576, с. 258]). Одни литературоведы поначалу игнорировали философский смысл романа (М. Гус), другие переводили разговор о книге целиком в область философских изысканий (А. Вулис)41.
Современное литературоведение42 ассоциирует творческий феномен Булгакова, прежде всего, с «Мастером и Маргаритой» — произведением, которое не укладывается в привычные жанровые определения. Так, П. Абрагам, В. Лакшин, О. Викторович называют его «философским романом»; И. Галинская, И. Виноградов — «фантастическим философским романом»; А. Жук, Г. Макаровская — «сатирическим романом»; В. Агеносов, М. Гаврилова, Б. Гаспаров — «романом-мифом»; Г. Лесскис, А. Кораблев, Д. Хорчак — «мистерией»; А. Казаркин — «мениппеей»; В. Немцев — «свободной мениппеей»; сразу несколько жанровых определений дают А. Вулис («философский роман», «сатирический роман», «мениппея»), М. Йованович («роман — миф», «роман тайн», «авторская сказка»). Есть все основания считать «Мастера и Маргариту» бытовым романом (картина московского быта конца 20-х — начала 30-х годов), сатирическим (сатирические традиции Н. Гоголя и М. Щедрина), мистическим (появление нечистой силы), любовно-лирическим (сюжетная линия мастера и Маргариты), философским (проблемы добра и зла, вины и расплаты). Ощущение невозможности дать однозначное определение жанру «Мастера и Маргариты» проецируется на попытки литературоведов совместить несовместимое в утверждениях типа: «В жанровом отношении роман на пути от первой редакции к окончательному тексту обрел черты уникальности, причудливо сочетая в себе принципы мениппеи, классицизма и романтизма, а в ершалаимских сценах превращаясь в роман-эпопею» [573, с. 87]. Хочется присоединиться к А. Казаркину, который писал по этому поводу: «...роман — притча, роман — утопия, сатирический, исторический, приключенческий, философский роман. Любое из этих определений справедливо, но не полно» [312, с. 47]. «Мастер и Маргарита» — синтетическое не только в жанрово-стилевом, но и в нравственно-философском аспекте произведение, что и обусловливает многообразие аналитических подходов к его рассмотрению.
Одной из наиболее удачных жанровых дефиниций произведения (если учитывать булгаковский хронотоп) является «роман-миф», поскольку именно в мифах «исчезает всякая временная и модальная («действительность vs недействительность») дискретность, один и тот же феномен, будь то предмет, или человеческий характер, или ситуация, или событие, существует одновременно в различных временных срезах43 и в различных модальных планах» [195, с. 29]. И кроме того, «помещая традиционные образы с устойчивым семантическим полем44 в непривычные условия или строя современный сюжет по классическим схемам45, Булгаков добивается многозначности, близкой к полисемантизму мифа» [359, с. 302]. Вместе с тем, учитывая противоречивость в современной науке терминологического статуса понятия «миф», проистекающую из множества разнообразных его трактовок и определений46, целесообразно в качестве «рабочего определения», способствующего наиболее адекватному восприятию «Мастера и Маргариты», остановиться на «романе-мениппее»47, которой, по замечанию М. Бахтина, свойственны гротеск и связанное с игровым элементом особое «карнавальное» мироощущение [см. 51, с. 97, 130—137].
Среди булгаковедов намечаются две основных тенденции в подходе к произведению:
• первая, представленная работами А. Альтшулера, А. Берзер, И. Виноградова, В. Лакшина, Г. Лесскис, В. Скобелева, М. Чудаковой, Л. Яновской и др., связана с рассмотрением булгаковского романа как нравственно-философского произведения, посвященного вечным проблемам добра и зла, выбора и моральной ответственности за выбор, гения и бессудной власти, личности и общества и т. п.;
• вторая — в работах И. Бэлзы, О. Михайлова, П. Палиевского, В. Петелина, В. Сахарова, О. Солоухиной, Н. Утехина и др. — акцентирует внимание, прежде всего, на «воспитательной линии» произведения, в основе которой — переосмысленная притча о «блудном сыне» (хождение по мукам и преображение недоучки Ивана Бездомного в профессора Понырева).
По-разному в литературоведении трактуется и проблемное поле романа48; при этом на первый план выдвигается то проблема добра и зла (их сути, воплощения и взаимодействия), то проблемы вины и расплаты, бессмертия и покоя; то вопрос приоритета ценностей (прощение или справедливость). Мы вполне разделяем точку зрения И. Виноградова, который подчеркивает этико-философский аспект романа, первичность в нем «нравственной позиции человека <...> быть верным добру, истине, справедливости...» [165, с. 350, 370].
Рассматривая статьи и публикации, посвященные «Мастеру и Маргарите», обращаешь внимание на достаточно устоявшиеся подходы к анализу произведения. Доминирующим оказывается стремление последовательного рассмотрения мотивов, образов, идей. Так, Б. Гаспаров предлагает метод «мотивного анализа» романа, поскольку основным стилевым приемом Булгакова он считает систему лейтмотивов, которые повторяются «множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях с другими мотивами» [194]49. Вслед за Б. Гаспаровым мотивную структуру булгаковского романа исследуют Н. Барковская [46], М. Бессонова [73], В. Гудкова [227], Н. Кожевникова [340], А. Кораблев [346]50.
Между тем, абсолютизация одного, пусть даже весьма продуктивного подхода к рассмотрению поэтической системы Булгакова чревато некоторой односторонностью ее трактовки. Так, П. Абрагам, в сущности, отказывает автору «Мастера и Маргариты» в психологизме, считая, что «отдельные персонажи произведения олицетворяют определенные психические силы сознания человека», а весь роман построен «по формуле двойника», которая выступает «как система литературных правил для анализа философско-этических проблем» [2, с. 89]. Подобная точка зрения, к сожалению, сводит на нет эстетические достоинства произведения, уподобляя его иллюстрации философских гипотез и психологических состояний человека.
Общей тенденцией современного булгаковедения становится постепенное расширение угла зрения на роман. Если Ю. Земская, например, предлагает рассмотрение «Мастера и Маргариты» как «замкнутого самодостаточного текста» [277, с. 37], то Е. Яблоков считает необходимым обнаруживать структурно-семантические связи этого романа с предшествующим творчеством писателя [703]. Аксиологический подход предполагает изучение социокультурного феномена, каким, без сомнения, является «закатный роман» Булгакова, не только в русле его творческого наследия, а через призму эстетических и нравственно-философских исканий эпохи.
Полифония романа достигается за счет многоуровневого восприятия его содержания. Авантюрно-приключенческий сюжет с элементами гоголевской фантастики причудливо взаимодействует с осмыслением глубинных нравственно-философских проблем: добра и зла, преступления и наказания, смысла человеческой жизни, цели и пределов познания. Гротескно-сатирическая линия книги (изображение бюрократов, обывателей, проходимцев) органически связана с лирико-драматической (история Мастера и Маргариты), причем реалии сегодняшнего дня (Москва и москвичи) переплетаются с библейскими легендарными временами (Ершалаим, Иешуа, Понтий Пилат) и традиционными сказочно-литературными мотивами (демоническая тема у Гёте, Гоголя).
Для Булгакова обращение к библейской теме (к «трем библейским эпизодам»: к Книге Бытия, четвероевангелию и Откровению Иоанна Богослова) не случайно. В булгаковском творчестве библейские мотивы стали и нравственным ориентиром, и способом эстетического освоения действительности. «Библейская история с ее глубоким реализмом, не исключающим, а воплощающим идеальный смысл фактов в их эмпирических подробностях, — библейская история дает свидетельство <...> правдивое и поучительное для всякого человека с историческим и художественным смыслом независимо от религиозных верований», — писал Вл. Соловьев [577, с. 13]). А кроме того, следует различать «реальную историю» и «образ истории» — систему теоретических, философских, публицистических, обыденных и т. п. представлений, которые люди данного общества создают себе об истории (и об отдельных ее эпохах) как некоем объективном процессе. Четвероевангелие — уже образ истории, миф... Так почему же Булгакову не сотворить еще один?!
Название романа «Мастер и Маргарита» акцентирует внимание лишь на одной из граней разветвленной романной структуры произведения и отнюдь не исчерпывает его проблематики. В книге Булгакова можно выделить несколько сюжетных линий — роман автора о появлении в Москве нечистой силы, роман Мастера о Понтии Пилате, роман между Мастером и Маргаритой, — и каждая из этих них представляет собой фрагмент общего художественного замысла.
Для Булгакова, чье миропонимание и ценностные ориентиры сформировались под влиянием классического искусства, особую значимость имеет принцип отражения (зеркальности). Достаточно вспомнить «Белую гвардию», «Дни Турбиных», «Бег», «Адама и Еву», где в судьбах героев преломляется Библия; «Багровый остров», в котором персонажи вставной пьесы являются гротескным отражением характерных черт актеров театра Геннадия Панфиловича, а сама пьеса не что иное, как травестийное «зеркало» идеологической халтуры, «Записки на манжетах», «Записки покойника» «Белую гвардию», «Дни Турбиных» — своеобразную авторскую интерпретацию биографии писателя. Зеркальность становится для Булгакова не просто художественным приемом, а концептуальным принципом на протяжении всего творческого пути.
Зеркальность в «Мастере и Маргарите» помогает автору выстроить систему своих ценностных ориентиров и в полной мере реализовать нравственно-эстетическую концепцию. Два романа — роман о Мастере и роман Мастера — зеркально повернуты друг к другу, а игра отражений и параллелей в них рождает художественное единство. Композиция романа представляет собой цепь взаимных отражений. Можно выделить три основные группы зеркал в произведении:
1) зеркальное отражение и историко-культурных источников;
2) зеркальное отражение жизненных реалий;
3) зеркальные отражения в самом произведении.
Опираясь в своем творчестве на эстетические традиции не только отечественной, но и мировой культуры, Булгаков творчески развивает их. Так, в «Мастере и Маргарите» отчетливо просматриваются некоторые параллели и отражения романа «Братья Карамазовы» Достоевского:
1) главными героями у Достоевского и Булгакова становятся писатели (перу Ивана Карамазова принадлежат поэмы «Легенда о Великом Инквизиторе» и «Геологический переворот», Мастер создает роман о Понтии Пилате);
2) и в том, и в другом произведении герои находятся на грани безумия (Иван Карамазов, Мастер, Бездомный), встречаются роковая любовь и любовь жертвенная (Грушенька, Маргарита, Наташа), герои видят «вещие сны» (Алеша Карамазов, Иван Бездомный, Маргарита);
3) выстраивая иерархию ценностей, оба художника вводят образ Христа в качестве нравственного ориентира; однако, в отличие от Достоевского, Булгаков отходит от канонической его трактовки, наделяя Иешуа чисто человеческим качествами;
4) сцена допроса Иешуа Пилатом явно перекликается с диалогом Великого Инквизитора51 и Христа;
5) нравственно-философская линия в обоих произведениях связана с появлением инфернального гостя; хотя у Булгакова, в отличие от Достоевского (глава «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича»), это событие не воспринимается лишь частным эпизодом в панораме происходящего.
Примечательно, что М. Булгаков обнаруживает своих собратьев по перу не в Д. Фурманове и А. Серафимовиче, не в А. Фадеева и Вс. Иванове, а в таких писателях, как Ф. Достоевский и А. Белый, Ф. Сологуб и Д. Мережковский. И это не случайно, поскольку общей для них явилась «мифопоэтическая традиция». Отсюда — ставшая почти афористической фраза «кота» Бегемота: «Достоевский бессмертен!» [121, т. 2, с. 665].
Так, в «Мастере и Маргарите» заметно пародийное обыгрывание52 мотивной и сюжетно-композиционной структуры романа А. Белого «Петербург». Встреча Берлиоза на Патриарших прудах может восприниматься своего рода ироническим отражением ситуации, в которой оказывается Аблеухов — отец («Петербург»), когда ему предстоит свидание с «графом Дубль-ве»; общим является и мотив предсказания покушения.
Как справедливо отмечает В. Химич, «не принимая личность и философские взгляды А. Белого, М. Булгаков, тем не менее, не... (избежал влияния — П.В.) эстетики символизма» [634, с. 79]53, поскольку это влияние носило масштабный характер и «мимо» прозы «великого лгуна» «не прошёл, в сущности, ни один из тогдашних отечественных беллетристов» [662, с. 83]54. В отдельных линиях «Мастера и Маргариты» угадываются параллели с романом А. Белого «Московский чудак», герой которого (профессор Коробкин), подобно «дяде Берлиоза» (Поплавскому), покидая своего демонического знакомого (Мандро — в «Московском чудаке» и Воланда — в «Мастере и Маргарите»), по рассеянности надевает на голову вместо меховой шапки свернувшегося клубком кота. Само изображение князя тьмы у А. Белого и М. Булгакова связано с общей для европейской культурной традиции тенденцией: физические недостатки (разноцветные глаза, кривой рот), преобладание серых и темных тонов в одежде. Однако если А. Белый придает реальному персонажу (Мандро) некоторые демонологические черты, то Булгаков поступает как раз наоборот, наделяя представителя мира потустороннего отдельными посюсторонними чертами.
В причудливом соединении реального и фантастического, абсурдного и логического, житейского и философского Булгаков смыкается с Ф. Сологубом. Именно здесь намечаются структурные переклички между «Мастером и Маргаритой» и «Творимой легендой». В обоих случаях мы имеем дело с «романом в романе», причем «вставные романы» («Королева Ор-труда»; «роман Мастера») являются своего рода ключом для понимания общего замысла и на каком-то этапе вливаются в единый текст (Триродов оборачивается «королем» Королевства Соединенных Островов; Воланд соединяет воедино древний и современный миры, а Мастер в финале, отпуская Пилата, завершает «свой роман»). Обращают на себя внимание некоторые сюжетные «совпадения». Так, сцены воландовского бала во многом напоминают фантастический парад у Триродова, отдельные черты которого нетрудно увидеть у Мастера (стремление к одиночеству, единая цель жизни — свой роман); впрочем, и Маргарита близка сологубовской Елисавете (такая же верная спутница, разделяющая до конца судьбу возлюбленного; даже желтый цвет одинаково ими любим). Королева Ортруда из «воспоминаний» Елисаветы более похожа на Маргариту — ведьму, поскольку готова не только позировать обнаженной, но и «летать на шабаш каждую ночь» (если бы жила в Средние века). Выпив «фалернского вина», Маргарита вместе с Мастером покидает бренную землю и обретает покой в «вечном приюте». Подобная ситуация возникает и в «Творимой легенде» Ф. Сологуба, когда Триродов вместе с Елисаветой, выпив чудодейственный напиток, отправляются сначала в мистическую землю Ойле, а затем в Королевство Соединенных Островов.
Возможно, к роману Д. Мережковского «Леонардо да Винчи» восходит воландовское определение Мастера («романтический мастер», «трижды романтический мастер» [121, т. 2, с. 683]), которое ассоциируется с обращением Галеотто Сакробоско к Леонардо («трижды великий Гермес», «Гермес Триждывеликий», «Гермес Трисмегист»). Левия Матвея можно рассматривать как своего рода отражение образа Тихона из трилогии Д. Мережковского: оба играют сходную роль ученика — последователя, оба переживают «кризис веры» (мотив «мертвого Бога» у Д. Мережковского и «Бога зла» у Булгакова).
Неиссякаемым источником вдохновения для М. Булгакова становится творчество Н. Гоголя, у которого он учился и которому подражал. М. Чудакова и В. Лакшин полагают, что даже акт сожжения Булгаковым первой редакции романа «Мастер и Маргарита» является своего рода «игрой в Гоголя», «клиническим анализом <...> состояния Гоголя в момент сожжения рукописей» [см. 659, с. 375]. Булгаковский этический кодекс, подобно гоголевскому, построен на романтическом двоемирии, нравственно-философские постулаты которого в начале XX веке отстаивали (каждый по-своему) Вл. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Трубецкой, — антитезе идеального начала («духовного», «божественного» и «бесконечного») и нивелирующей личность действительности (бездуховной, плотской и приземленной).
Следствием этого противопоставления становится разделение «зла» на «мировое» и «житейское», «рождение» в бездуховном мире образов — марионеток55; появление «романтической иронии», цель которой, по замечанию Ф. Шлегеля, заключается в преодолении противоречия между идеальным миром автора — романтика и ограниченным его воплощением. Булгакова привлекает в Н. Гоголе его признание самоценности всех эстетических систем56 и романтическая вера в мессианскую роль художника.
Особое место в булгаковском романе занимает гофмановская традиция. 7 августа 1938 года Булгаков пишет своей жене: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана57. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!» [129, с. 593]. Многочисленные пометы Булгакова в тексте статьи, сохранившейся в его архиве, свидетельствуют, что писателя особенно привлекало в творчестве Гофмана сознательное и принципиальное утверждение авторской позиции, сатирическое изображение действительности как неотъемлемое свойство этой позиции, противостояние творческой личности и окружающего мира, приводящее эту личность к преждевременной смерти или безумию.
Очевидным представляется знакомство Булгакова и с предисловием Вл. Соловьева к сказке Э. Гофмана «Золотой горшок», некоторые детали которой имеют параллельные соответствия в «Мастере и Маргарите». Так, разговор между студентом Ансельмом и старухой — ведуньей напоминает диалог Маргариты и Азазелло с приглашением на бал к сатане; Вероника из «Золотого горшка» считает злополучного черного кота старухи — ведуньи не «злобной тварью», а образованным молодым человеком, и, словно в подтверждение возможной метаморфозы, в финале булгаковского романа кот Бегемот оборачивается юношей — пажем.
Обращает на себя внимание удивительное созвучие соловьевской оценки произведений Гофмана58 и возможной характеристики булгаковского творчества59, в частности, романа «Мастер и Маргарита». Так, Вл. Соловьев пишет: «Существенный характер поэзии Гофмана, выразившийся в этой сказке с особенной ясностью и цельностью, состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чужого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира <...>. Поэтому <...> повседневная действительность имеет у Гофмана всегда и постоянно, а не случайно только, некоторую фантастическую подкладку <...>. В фантастических рассказах Гофмана все лица живут двойной жизнью, попеременно выступая то в фантастическом, то в реальном мире. Вследствие этого они, или лучше сказать, поэт — через них — чувствует себя свободным, не привязанным исключительно ни к той, ни к другой области. <...> Таким образом, фантастический элемент является у Гофмана очеловеченным и натурализованным; и если присутствие этого элемента позволяет поэту относиться свободно к реальному миру, то в признании этого последнего с его законными правами он находит точку опоры для такого же свободного отношения к элементу фантастическому; он не подавлен, не связан им, может свободно играть с ним. Эта двойная свобода и двойная игра поэтического сознания с реальным и фантастическим миром выражается в том своеобразном юморе, которым проникнуты произведения Гофмана и, в особенности, его сказки. Этот глубокий юмор возможен только при указанном характере поэтического мировоззрения, т. е. есть при равносильном присутствии реального и фантастического элемента, что освобождает сознание поэта, выражающееся в этой своей свободе как юмор» [581, с. 164].
В творчестве Гофмана Булгакову созвучен удивительный сплав этического максимализма и безудержной игры фантазии, романтической веры в торжество справедливости и едкой сатиры, гротеска и философской рефлексии. В. Гусев [см. 233, с. 33], В. Немцев [см. 454, с. 13], Б. Соколов [см. 573, с. 81—82] не случайно и совершенно справедливо вписывают «Мастера и Маргариту» в романтическую традицию, где «царствует карнавальное время», сквозь которое «проглядывает бытовой мир».
Однако романтическое начало, привлекающее Булгакова ориентацией на этические и эстетические идеалы60, не исчерпывает своеобразия поэтического дарования художника. «В своем романе М.А. Булгаков одновременно ультраромантик и ультрареалист, подобно Гофману» [цит. 126, с. 542], — писал П. Попов. «Мастер и Маргарита» опирается на традиции Н. Гоголя и М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского и Данте, Т. Гофмана и И. Гёте, средневекового фарса и народной смеховой культуры. В «закатном романе» заметны отголоски множества других произведений реалистического, романтического, символистского планов61. В начале 20-х годов Е. Замятин писал по поводу подобного причудливого сочетания: «Реализм — тезис, символизм — антитезис, а сейчас — новое, третье, синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма» [274, с. 66].
Возвращаясь к проблеме зеркальности, следует отметить, что зеркала «Мастера и Маргариты» создают некое концептуальное поле, в котором взаимодействуют реальный, мистический и архетипический планы повествования. Таким образом, принцип зеркальности62 определяет самую суть булгаковского изобразительного мышления, в результате чего авантюрно-приключенческий сюжет обретает глубинный нравственно-философский смысл.
Отражения в зеркале булгаковского романа зачастую полемичны по отношению к первоисточнику. Так, доктор Фауст отражается в Мастере, Мефистофель — в Воланде, а Гретхен — в Маргарите. Булгаков сознательно делает все узнаваемым; но за внешним подобием скрыта совершенно иная суть. «Антифаустом»63 называет булгаковский роман критик Г. Симаков [14, с. 349—365]. Истоки «отталкивания» обнаруживаются не столько в эстетической, сколько в философской, этической сфере.
Благодаря системе зеркал в произведении роль отдельных персонажей укрупняется, они становятся выразителями общественных явлений. Так, сюжетная линия Иешуа воспринимается как трагическая параллель судьбы Мастера, а перипетии из жизни Ивана Бездомного — трагикомический вариант того же характера. Встретившись в палате психиатрической лечебницы с поэтом Бездомным, Мастер спрашивает: «— Так из-за чего же вы попали сюда? — Из-за Понтия Пилата, — хмуро глянув в пол, ответил Иван. — Как?! — забыв осторожность, крикнул гость, и сам зажал себе рот рукой, — потрясающее совпадение!» [121, т. 2, с. 446]. Пребывание героя в психиатрической лечебнице становится отражением духовной изоляции Булгакова.
История Мастера — своеобразное преломление биографии автора. Елена Булгакова, например, «утверждала автора в роли Мастера, себя в роли Маргариты...» [174, с. 484]. С этим отчасти не согласна Н. Крымова, которая полагает, что Елена Сергеевна «не была Маргаритой, как иногда думают и как гласит легенда. Но она ею стала. Булгаков увидел в ней свою Маргариту, полюбил, а потом и сотворил» [цит. 255, с. 6]. Подобно Мастеру, в марте 1930 года Булгаков сжигает рукопись своего романа64, а затем, через три года, вновь возвращается к работе над произведением65. В «Мастере и Маргарите» Воланд предлагает герою предъявить роман о Понтии Пилате. «Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил Мастер, — потому что я сжег его в печке. — Простите, не поверю, — ответил Воланд, этого быть не может. Рукописи не горят» [121, т. 2, с. 591]. Здесь слышатся не только вера в неистребимую силу искусства, но и отголоски собственной судьбы.
В современном булгаковедении неоднократно предпринимались попытки структурировать «Мастера и Маргариту», опираясь на зеркальные отражения. Б. Соколов, например, определяя художественное пространство романа как совокупность «миров», выстраивает цепочку триад, в которую включает «функционально подобных» персонажей каждого из «миров». К сожалению, не во всем можно согласиться с исследователем. Так, сопоставляя Пилата, Воланда и Стравинского, литературовед именует Воланда «сниженным подобием» Пилата («потому, что «князь тьмы» почти начисто лишен каких-либо психологических переживаний, которыми так богато наделен терзаемый муками совести за свою минутную трусость прокуратор Иудеи»), а Стравинского — «сниженным подобием» Воланда, поскольку он также («определяет судьбу» всех тех персонажей современного мира, которые попадают в его клинику в результате контакта с сатаной»). Куда же в таком случае следует отнести Берлиоза, Арчибальда Арчибальдовича, управдома?!
Спорными представляются и последующие рассуждения исследователя о том, что «Воланд пародирует Пилата — человека, стоящего как бы во главе всего ершалаимского мира, того, от кого зависят судьбы и Каифы, и Иуды, и Иешуа, и у кого в подчинении «свита» — Афраний, Марк Крысобой и верный Банга. Пилат пытается спасти Иешуа, но, в конце концов, вынужденный отправить Га-Ноцри на смерть, тем самым обеспечивает ему и себе бессмертие в веках» [573, с. 105]. Думается, что от Пилата (не Воланда!) не зависят не только судьбы Каифы и Иешуа, но и его собственная. Едва ли можно согласиться и с попыткой уподобления героев на основании «наличия свиты». И если сопоставление Афрания и Коровьева-Фагота вполне допустимо66, то включение в эту «триаду» врача клиники Федора Васильевича несколько нарочито: «Афраний во время казни Иешуа и врач во время первого допроса Ивана Бездомного восседают на высоких табуретах на длинных ножках. Коровьев носит пенсне и усы, врач — очки и клиновидную бородку» [573, с. 108]. Недостаточно мотивированы и последующие «триады»:
• Марк Крысобой — Азазелло — Арчибальд Арчибальдович67;
• Банга — Бегемот — Тузбубен68;
• Низа — Гелла — Наташа69;
• Иосиф Каифа — Михаил Александрович Берлиоз — неизвестный из Торгсина70.
Убедительнее других, хотя и не бесспорными, представляются «триады» предателей (Иуда — Алоизий Магарыч — Майгель) и учеников (Левий Матвей — Бездомный — Рюхин).
Чувствуя, что принцип триад «срабатывает» не во всем, исследователь определяет отражение истории Иешуа в сюжетной линии Мастера как «диа-ду», судьбу Маргариты рассматривает как «монаду»; а затем и вовсе дополняет «выделенные <...> триады до тетрад»71.
Свой вариант группировки персонажей по оценочным основаниям предлагает О. Викторович [161, с. 169]; она выделяет следующие оппозиции:
• деятели — созерцатели (Маргарита — Мастер; Берлиоз — Бездомный);
• учитель — ученик (Берлиоз — Бездомный; Мастер — Бездомный);
• спаситель — спасаемый (Маргарита — Мастер; Бездомный — Москва).
К сожалению, и подобная «классификация» не способствует более глубокому пониманию произведения.
Думается, что подобные «группировки образов», а их, по подсчетам Б. Соколова, 510, оборачиваются самоцелью и являются искусственными. Учитывая ценностные установки автора, следует говорить о типах и архетипах, о прототипах и двойниках. Причем наличие и число этих «двойников» не связано напрямую с количеством миров, в коих они пребывают.
Таблица 2.
| ТИП | АРХЕТИП | ПРОТОТИПЫ | ДВОЙНИКИ |
| Творец и невинная жертва | Иисус (Иешуа) | Мольер, А. Пушкин, Н. Гоголь72, М. Булгаков и т. д. | Иешуа — Мастер; Мастер — Бездомный |
| Предатель | Иуда | С. Битков, И. Богомазов, Муаррон и т. д. | Иуда — барон Майгель, Алоизий Магарыч, Тимофей Квасцов |
| Неправый суд и палачи | Синедрион, Каиафа, Пилат | РАПП, Эм. Бескин, О. Литовский, С. Якубовский и т. д. | Синедрион — МАССОЛИТ; Каифа — Берлиоз; Пилат — Стравинский; Крысобой — Ариман, Лаврович, Латунский |
| Ученики (сподвижники) | Евангелисты, апостолы | Е.С. Шиловская, Гретхен, Маргарита Валуа, Маргарита Наварская и т. д. | Левий Матвей — Маргарита; Маргарита — Наташа |
Представленные в каждом из временных пластов (миров романа) персонажи отражаются друг в друге, и трагические события далекого Ершалаима оборачиваются фарсом в современной Москве. Так, в мифопоэтическом сознании73 автора прошлое становится архетипической основой для осмысления современных проблем. Ставшая явью легенда о Понтии Пилате зеркально отражается в судьбе Мастера: перед читателем возникают и невинная жертва (Мастер), и предатель (Алоизий Магарыч), и палачи (Латунский, Лаврович, Ариман74), и тот, кто не успел предотвратить трагедию (Маргарита).
Булгаковский роман, в котором «миф превращается в реальность, но и реальность тем самым превращается в миф» (Б. Гаспаров [194]), строится по принципу отражения, благодаря чему сюжетные линии современной Москвы воспринимаются в свете этического опыта древних глав.
Таблица 3.
| ЕРШАЛАИМ | МОСКВА |
| Иешуа говорит истину. | Мастер «угадывает» истину (об Иешуа и Пилате). |
| Иуда предает Иешуа. | Магарыч пишет донос на Мастера. |
| На допросе Иешуа называет Иуду добрым и любознательным человеком. | Мастер характеризует Алоизия Магарыча как интересного и любознательного человека. |
| Иешуа судят за истину. | Мастера судят за истину. |
| Первосвященники хотят предать забвению имя Иешуа и слова его. | Разгромные статьи против «пилатчины» приводят к сожжению рукописи, а Мастер попадает в сумасшедший дом. |
| Левий Матвей страдает от того, что не успел предотвратить мучительную казнь Иешуа. | Маргарита винит себя в том, что некогда оставила Мастера одного, а когда вернулась, то «было уже слишком поздно». |
| Левий Матвей стремится сохранить хотя бы отрывочные записи проповедей Иешуа. | Маргарита отчаянно пытается спасти хоть что-то из написанного Мастером. |
| Левий Матвей намеревается отомстить Иуде. | Маргарита устраивает погром в квартире критика Латунского. |
| Иешуа и его верный ученик обретают Царство «не от мира сего». | Покидая бренный мир, Мастер и верная ему Маргарита обретают «вечный приют». |
Представляет интерес попытка А. Кораблева [347, с. 177] соотнести «семь главных героев» с семью православными таинствами. Однако вероятнее другое: некоторые таинства православной церкви нашли травестийное отражение в романе. Так, «крещение» ассоциируется с купанием Ивана Бездомного в Москве-реке, «бракосочетание» с «тайной женитьбой» (не по церковному обряду) Мастера и Маргариты, «исповедь» — с «откровением» Мастера Ивану Бездомному в психиатрической клинике, «причащение» — с «посвящением» Маргариты в королеву воландовского бала, более напоминающее Черную мессу. Что же касается «соборования», «миропомазания» и «священства», то об этих таинствах исследователь справедливо умалчивает, так как любая параллель здесь была бы надуманна.
Своеобразие поэтики «Мастера и Маргариты» проявляется в особой лексико-ритмической структуре текста, отражающей не только доминантные для того или иного образа словоопределения, ключевые для той или иной ситуации значения, но и семантическое поле авторского замысла. Так, вопреки мнению критиков, которые, дискутируя о главном герое романа, «выбирают» между Воландом и Мастером, чаще всего в «Мастере и Маргарите» встречается Пилат: его имя или упоминания о нем звучат в тексте 456 раз (в том числе 258 раз он обозначен как «прокуратор»). С личностью Воланда мы встречаемся 450 раз (в том числе 66 раз его именуют «мессиром», 52 — «профессором», 39 — «иностранцем», 22 — «консультантом», 8 — «сатаной» и 6 — «дьяволом»). Имя «Маргарита» встречается 431 раз (в том числе 9 раз ее называют «Марго»). Мастер упоминается так или иначе 155 раз, Иешуа — 69 (в том числе 11 раз его именуют «философом»). Эта статистика весьма показательна при оценке авторского внимания к тому или иному персонажу книги. Хотя однозначно ответить на вопрос, кто же является главным героем романа, не представляется возможным. Почти со всеми героями (кроме Иешуа) Булгаков знакомит читателя уже оглавлением:
• Пилат — «Понтий Пилат» (глава 2), «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» (глава 25);
• Воланд — «Великий бал у сатаны» (глава 23);
• Маргарита — «Маргарита» (глава 19), «Судьба мастера и Маргариты определена» (глава 29);
• Мастер — «Извлечение мастера» (глава 24), «Судьба мастера и Маргариты определена» (глава 29);
• Иван Бездомный — «Раздвоение Ивана» (глава 11);
• Иуда — «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» (глава 25);
• Коровьев — «Коровьевские штуки» (глава 9), «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (глава 28);
• Азазелло — «Крем Азазелло» (глава 20);
• Бегемот — «Последние похождения Коровьева и Бегемота» (глава 28);
• Никанор Иванович — «Сон Никанора Ивановича» (глава 15).
Булгаков выстраивает в романе «оригинальную синтетическую философскую концепцию» [575, с. 306], которая опирается на русскую религиозно-философскую традицию; в ней причудливо преломились и немецкая классическая философия, и отголоски гностических доктрин. Подобно многим литературным и философским предшественникам, Булгаков сталкивает добро и зло, причем полем битвы оказываются человеческие души75, а судьями — посланцы Света (Иешуа) и Тьмы (Воланд). Однако в булгаковском романе даже «зло имеет положительную ценность: в царстве злых существ оно используется для исцеления от зла» (Н. Лосский [383, с. 302]).
Литературоведы по-разному определяют источники, к которым восходит образ Воланда. Политизированная критика обращается к поиску прототипов, которых усматривает в американском после Буллите (А. Эткинд), в Сталине (А. Дравич), в Ленине (Б. Соколов). И хотя отдельные параллели представляются весьма интересными (например, сравнение бала в американском посольстве с «великим балом у сатаны» [694, с. 347—369]), но наиболее правомерной представляется Литературно-философская версия, согласно которой «предшественниками» Воланда — причем отношение Булгакова к ним во многом полемическое — являлись ветхозаветный «князь мира сего», гностический Демиург и гетевский Мефистофель.
Образ Мефистофеля встречается уже в повести «Тайному другу», хотя и в несколько нетрадиционном наряде: «От обычного его наряда остался только черный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушиного пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую галошу» [131, с. 590]. Воланд в «Мастере и Маргарите» тоже отличается от персонажа трагедии И. Гёте, однако их преемственная связь очевидна:
Таблица 4.
| «ФАУСТ» | «МАСТЕР И МАРГАРИТА» |
| ВНЕШНИЕ АТРИБУТЫ | |
|
«...траурный плащ, подбитый огненной материей, <...> длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью <...> бархатный берет с петушьим потрепанным пером...» [121, т. 2, С. 573, 579]. |
| ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ | |
ФАУСТ...
МЕФИСТОФЕЛЬ...
|
Берлиоз с досадой выговаривает Бездомному:
«...и никого не было, в том числе и Иисуса <...> — и в этот момент <...> иностранец вдруг поднялся и направился к писателям <...> — Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец <...> [121, т. 2, с. 383, 384]. |
| РЕМИНИСЦЕНЦИИ | |
| «ФАУСТ... черный пес бежит по пашне... Вот, значит, чем был пудель начинен!» [198, с. 43, 49]. | «трость с черным набалдашником в виде головы пуделя76 <...> тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя <...> подушка с вышитым на ней золотым пуделем...» [121, т. 2, с. 383, 630, 632]. |
| УКАЗАНИЯ НА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ РОДСТВО | |
| «Кухня ведьмы. (На огне низкого очага стоит большой котел... <...>
ВЕДЬМА... (Заметив Фауста и Мефистофеля.)
(Сунув шумовку в котел, обрызгивает всех воспламеняющейся жидкостью...)» «Детеныши, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар). САМЕЦ.
|
«— Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд <...> — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на Чёртовой Кафедре <...>.
«— Я вижу, что вас интересует мой глобус... не люблю последних новостей по радио <...> Мой глобус гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно» [121, т. 2, с. 627]. |
У И. Гете однажды встречается имя «Воланд», а в «Мастере и Маргарите» трижды упоминается трагедия «Фауст» и один раз её герой (доктор Фауст). Не случайным является и ответ Воланда на вопрос о национальности: «Вы — немец? — осведомился Бездомный. — Я-то?.. — Переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец...» [121, т. 2, с. 334].
Воланд не случайно называет себя «специалистом по черной магии», который приглашен в государственную библиотеку разобрать рукописи «чернокнижника Герберта Аквиларского»77 [121, т. 2, с. 334]. Появившаяся в Москве нечистая сила лишь отчасти исполняет свое традиционное предназначение. Искушая отягощенную злом материю, сатана, которому, как и гётевскому Мефистофелю [см. 198, с. 100], более по душе другое имя — мессир78, вершит суд над человеческими пороками. Над порядочными людьми он не властен, поскольку руководствуется вполне христианской заповедью: «...каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!» [121, т. 2, с. 642]. Ценностный этический кодекс «Мастера и Маргариты» представляет собой некую систему, развивающуюся посредством взаимодействия своих компонент: религиозной (некоей программы спасения человечества от грядущей духовной катастрофы) и нравственной (оценки субъекта самой этой акции спасения). Как заметил однажды Ф. Достоевский, «мир спасется уже после посещения его злым духом» [245, т. 21, с. 204].
М. Булгаков не случайно называет своим учителем Н. Гоголя. Многое сближает их, но более всего — умение использовать фантастику, гротеск для вполне «реалистического задания» как способ укрупнения и заострения образов, как средство нравственно-философского осмысления действительности. Подобно Н. Гоголю, М. Булгаков психологически мотивирует гротеск. При этом фантастический план являет собой как бы скрытое содержание характеров, их «гротескный отсвет». Такой, например, предстает перед читателем галерея «безголовых», начиная с Берлиоза, Бенгальского, и кончая руководителем пресловутого учреждения, одобрившим резолюции, подписанные его костюмом.
Повествование в «закатном романе» захлестывает стихия гротеска: переплетение сатирической и трагической, лирической и иронической, фарсовой и драматической тональностей создает необычайную стилевую «гармонию», в которой никого уже не удивляет совмещение реальности и фантастики, современности и мифа, бытописательства и философской глубины. В. Чеботарева справедливо замечает, что сюжет булгаковского романа в чем-то родственен сюжету «Мертвых душ» [643, с. 175]. Действительно, Воланд, подобно гоголевскому Чичикову, коллекционирует души, причем «мертвые души»79. В поэме Н. Гоголя сюжет играет роль своеобразного экзамена героев на человечность. Той же цели служит и визит Воланда со свитой в Москву конца 20-х — начала 30-х годов80.
Первым не выдерживает «экзамен» руководитель МАССОЛИТа Берлиоз, затем — Иван Бездомный. Каждому из персонажей этой человеческой комедии воздается не столько за грехи, сколько по заслугам: Берлиозу — за непоколебимую самоуверенность, Бездомному — на невежество, Бенгальскому81 — за нахальное фиглярство, Степе Лиходееву — за пьянство, Аннушке-Чуме — за жадность и т. д. Это ли не «мертвые души»!?
С точки зрения Б. Соколова, объектом сатиры в «Мастере и Маргарите» являются «приспособленцы в литературе и искусстве, бюрократы, паразитирующие на ниве культуры» [573, с. 151]. Думается, что предметов авторского осмеяния в романе куда больше. Деяния сатирических персонажей выстраиваются в целую систему греховных пороков. Причем не только из «семи кругов» Чистилища «Божественной комедии» Данте: гордыня (Берлиоз), зависть (Латунский, Поплавский); гнев (Прохор Петрович), скупость (буфетчик Соков), расточительность (Арчибальд Арчибальдович), чревоугодие (Степа Лиходеев), сладострастие (Аркадий Семплеяров, Николай Иванович). За мошенничество наказаны работники Торгсина, за взяточничество — Никанор Иванович, за жадность — посетители «дамского магазина» в Варьете, за скептицизм — Римский, за доносительство — Майгель и т. д.
Каждому воздается не только по заслугам, но и «по вере его»:
• директор Варьете настолько погряз в разврате и пьянстве, что себя не помнит — в Ялту его;
• Варенуха, привыкший наживаться на распространении контрамарок, превращен в вампира;
• управдом Босой верит только взяткам — рублевая пачка «в подарок» сама вползла к нему в портфель (почти как в «Зойкиной квартире»), а затем превратилась в долларовую;
• сластолюбивый бюрократ Николай Иванович оборачивается боровом.
И лишь дядя покойного Берлиоза, возмечтавший о московской квартире, с позором изгоняется из нее.
Бездомный и Лиходеев, Аннушка и Николай Иванович, Василий Степанович и Аркадий Аполлонович, Максимилиан Андреевич и Андрей Фокич — все они лишь марионетки в трагикомическом спектакле, устроенном Воландом и его свитой. Столь великая власть нечистой силы над людьми в булгаковском романе объясняется не только знанием человеческих слабостей, но и прямыми параллелями между законами царства Тьмы и московским бытом. Достаточно вспомнить описание «дома Грибоедова»82, которое весьма напоминает бал у сатаны. Или, например, рассуждения Коровьева о «пятом измерении»: Я, впрочем, <...> знавал людей, не имевших никакого представления <...> о пятом измерении <...> и, тем не менее, проделывающих совершеннейшие чудеса в смысле расширения своего помещения» [121, т. 2, с. 619]. Едва ли можно согласиться с утверждением Б. Соколова о том, что «пятое измерение» в романе Булгакова — всего-навсего пародия на рассуждения Гриффина («Человек — невидимка» Г. Уэллса) о «четвертом измерении». И не только потому, что именно в этом измерении двенадцать тысяч лун ждет прощения Понтий Пилат, именно в этом измерении обретают долгожданный покой Мастер и Маргарита. Естественнее было бы предположить, что булгаковский герой (прямо или опосредованно) опирается на космогоническую теорию древних мистических учений83.
Действие в «Мастере и Маргарите» начинается с литературно-философского диспута, который сразу же оборачивается цепочкой парадоксальных ситуаций:
• Бездомный, сочинивший антиклерикальную поэму о Христе, нарисовал его «совершенно живым»;
• дьявол в обличии «иностранного профессора» вклинивается в диалог атеистов84, дабы доказать бытие Божие;
• Берлиоз, вопреки воинствующему атеизму, смертью своей подтверждает правоту Воланда;
• Бездомный, еще недавно полагавший, что нет ни бога, ни чёрта, после встречи с Воландом отправляется на поиски нечистой силы, прикрепив на груди иконку и прихватив с собою свечи;
• Бездомного, несмотря на его правоту, все принимают за сумасшедшего и помещают в клинику для душевнобольных, где, впрочем, оказывается и Мастер, «угадавший истину»;
• вместо разоблачения «черной магии» в театре Варьете разоблачают человеческие пороки и тех, кто в нее не верит;
• оргия писателей — атеистов в доме «Грибоедова» напоминает бал у сатаны;
• фантастические способности свиты великого мессира не идут ни в какое сравнение с возможностями иных предприимчивых граждан, решающих жилищную проблему... и, наконец,
• вопреки христианским канонам Воланд и Иешуа не являются антиподами, они утверждают единые нравственно-философские принципы и придерживаются одной системы ценностей.
«Материализация» нечистой силы на Патриарших прудах (после классического упоминания о чёрте85) происходит совершенно в гофмановских традициях: «Пожалуй, пора бросить все к чёрту и в Кисловодск...» И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха86 прозрачный гражданин престранного вида» [121, т. 2, с. 324]. Ужас овладел Берлиозом, но, тем не менее, он продолжает чертыхаться: «Фу ты чёрт! — воскликнул редактор, — ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался!» [121, т. 2, с. 325]. Троекратное упоминание нечистого87 материализует самого князя тьмы.
Не называя поначалу своего героя чёртом, дьяволом, сатаной, Булгаков акцентирует некоторую странность всего, что с ним связано. Отсюда — и версия его иностранного88 происхождения. Создавая необходимую эмоциональную тональность для восприятия той или иной сцены, Булгаков, как правило, обращает внимание на детали89, причем повторение их закрепляет в ассоциативной памяти символическое значение: «Он был в дорогом сером90 костюме <...>. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя91. <...> Рот какой-то кривой92. <...> Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец» [121, т. 2, с. 326].
Явление сатаны на страницах романа сопровождается своеобразным «диалогом», где, в отличие от незадачливых собеседников, Воланд способен слушать и слышать. Поэтому он отвечает на все высказанные и невысказанные вслух вопросы. На протяжении всей сцены деталями и полунамеками автор поддерживает атмосферу мистического действа: «Вот что, Миша, зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, он никакой не интурист, а шпион <...> Спрашивай у него документы, а то уйдет...». И тут же незнакомец, «держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете», протягивает литераторам визитную карточку. «Чёрт, слышал все...» — подумал Берлиоз...» [121, т. 2, с. 333]. К своему несчастью, он не догадывался, насколько оказался прав.
Знакомый цветовой и звуковой ряд — своего рода «визитная карточка» нечистой силы — обнаруживается и в предсказании Воланда: «Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится» [121, т. 2, с. 332].
Неумение слушать мешает Берлиозу и Бездомному вовремя отреагировать на авторские подсказки в тексте. В то же время, именно детали (в сочетании с обстановкой действия, внешностью героя, его костюмом) должны было проявить истинную личность «иностранного профессора». Потому-то Мастер без колебаний узнает классический образ князя тьмы:
«— Да кто же он, наконец93, такой? — в возбуждении потрясая кулаками, спросил Иван...
— Ну, хорошо, — ответил гость и веско и раздельно сказал. — Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной... <...> Его нельзя не узнать, мой друг! <...> ведь даже лицо, которое вы описывали, <...> разные глаза, брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?..» [121, т. 2, с. 447—448].
Предсказанию гибели Берлиоза предшествует некая магическая формула Воланда: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...» [121, т. 2, с. 332]. Попытка Б. Соколова расшифровать эту формулу, опираясь на астрологические «небесные дома», представляется не вполне мотивированной: «Меркурий во втором доме означает счастье в торговле, — пишет он. — Берлиоз ввел торговлю в святой храм литературы и за это был наказан судьбой. Несчастье в шестом доме показывает, что председатель МАССОЛИТа потерпел неудачу в браке (в ред. 1929 года вместо неопределенного «луна ушла»... прямо говорилось, что «луна ушла из пятого дома». Это указывало на отсутствие у Берлиоза детей. Там же отмечалось применительно к Бездомному, что Сатурн находится в первом доме — указание на несчастного и ленивого человека, каким и был Иван этой редакции до встречи с Воландом). Действительно, в дальнейшем мы узнаем, что супруга Берлиоза сбежала в Харьков с балетмейстером (глава «Нехорошая квартира»). Седьмой же дом — дом смерти. Перемещение туда светила, с которым связана судьба председателя МАССОЛИТа, говорит о том, что в этот вечер незадачливому литератору суждено погибнуть» [573, с. 246].
В связи с замечаниями Б. Соколова, необходимо внести некоторые уточнения:
• во-первых, «Меркурий во втором доме» никак не связан со «счастьем в торговле», поскольку второй небесный дом («Нижние ворота») не имеет никакого отношения к счастью (со счастьем ассоциирован пятый небесный дом — «Благая судьба»); сравнение же Берлиоза с менялами во храме, якобы прочитывающееся в сакральной формуле, несколько нарочитое;
• во-вторых, «несчастье в шестом доме» опять-таки не связано с неудачным браком Берлиоза, поскольку шестой небесный дом («Злая судьба») «управляет такими сторонами жизни, как работа, болезни, подчиненные и начальство» [538, с. 201];
• в-третьих, седьмой дом («Заход») к смерти никакого отношения не имеет, так как лишь «дает информацию о партнерах, сотрудниках, жене (муже), знакомых, родственниках, противниках, врагах, судебных процессах и всякого рода спорах...» [538, с. 190].
М. Булгаков, подобно Н. Гоголю и Э. Гофману, «глубоко интересовался мистицизмом обыденной жизни» [573, с. 247], поскольку пристрастие к астрологии, тайным доктринам и эзотерическим учениям являлось отличительной чертой интеллектуального сознания на рубеже веков. В соответствии с принципами астрологии «позади видимого неба с Зодиаком и созвездиями существует невидимая с Земли сфера, которая разделена на двенадцать частей, являющихся местами расположения реальных сил, действующих на подлунный мир». При этом «изобретение двенадцатичастного деления небесной сферы <...>, а также названия некоторых домов и их значения в индивидуальной судьбе человека приписываются Гермесу Трисмегисту» [538, с. 166, 165]. Кстати, в древней Греции Меркурий имел название «звезда Гермеса».
Примечательно, что сюжетно-композиционная структура булгаковского романа перекликается с названиями «НЕБЕСНЫХ ДОМОВ»94:
1) «ГОРОСКОП» — предсказание судьбы на Патриарших прудах;
2) «НИЖНИЕ ВОРОТА» — Нижний город в Ершалаиме;
3) «БОГИНЯ» — «богиней» именует «боров» (Николай Иванович) домработницу Наташу, но подлинной «богиней» и Софией оборачивается Маргарита;
4) «НЕБЕСНАЯ ГЛУБИНА» — небесный мрак, к которому, простирая руки, взывает прокуратор, та «тьма», что поглотила ненавидимый им город, и куда в финале устремляются герои романа;
5) «БЛАГАЯ СУДЬБА», 6) «ЗЛАЯ СУДЬБА» — счастье и беда связаны в судьбах героев;
7) «ЗАХОД» — события в романе, как правило, разворачивается вечером, на закате;
8) «ВЕРХНИЕ ВОРОТА» — не столько «верхняя терраса сада» во дворце Ирода Великого, сколько Лысая гора и фалернское вино, ставшие для Иешуа, Мастера и Маргариты вратами в иной («верхний») совершенный мир;
9) «БОГ» — незримо присутствует не только в предопределении судьбы Мастера и Маргариты, но даже в речах и поступках Воланда;
10) «СЕРЕДИНА НЕБА» — лунная дорога, где в ожидании своей участи две тысячи лет сидит, не зная покоя, пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат;
11) «БЛАГОЙ ДЕМОН», 12) «ЗЛОЙ ДЕМОН» — добро и зло, свет и тьма переплетаются в нерасторжимое единство: «Я — часть той — силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...»
Магическая формула Воланда представляется странной только на первый взгляд. С одной стороны, сумма произнесенных чисел (1 + 2 + 2 + 6 + 7 = 18) равна сумме чисел в «числе зверя» (6 + 6 + 6 = 18). Таким образом, в формуле скрыта «визитная карточка» сатаны. С другой стороны, смысл слов и некоторых произнесенных Воландом словосочетаний («луна ушла», «Меркурий во втором доме», «несчастье» и «вечер») становится очевиден в русле эзотерических учений о символах. Так, Луна символизирует не только «умирание и рождение», но и победу над враждебными силами, она воспринимается предзнаменованием последнего «Страшного суда» [76, с. 154]. Меркурий, объединяющий в герметической философии «мир вещественный с миром духовным» [48, с. 302], «считался покровителем торговли и купцов <...>, а также был проводником душ умерших в подземное царство. <...> Меркурий отвечает за интеллигенцию, писателей, ораторов, людей сферы образования...» [538, с. 270]. «Как небесное тело Меркурий является одной из наиболее труднонаблюдаемых планет. В Средней Европе она видна невооруженным глазом только 12—18 часов в год, <...> так что ее можно увидеть только в сумерки или когда небо подернуто дымкой, прежде всего осенью или весной. Ее «ускользаемость» от наблюдения, очевидно, причина ее символического значения: она — «двойственное и, благодаря своей подвижности, ненадежное существо» (Й.В. Пфафф, 1816). <...> Она <...> имеет свой «дневной дом» в Близнецах, свой «ночной дом» — в знаке Девы» [76, с. 166—167]. В свою очередь, астральная Дева «является персонифицированной справедливостью <...>, которая однажды в Золотом веке жила среди людей, но из-за порчи нравов улетела на крыльях своих в небеса, и теперь ее можно видеть только как образ далекого созвездия» [76, с. 168]. В результате уход луны в вечернюю пору и появление Меркурия («двойственного, ненадежного существа»), сопряжены с несчастьем95, с переходом в потусторонний мир. А то, что «психопомпасом» оказывается Меркурий «во втором доме» (в созвездии Девы), лишь подтверждает мысль о торжестве справедливости.
Булгаковская цветовая гамма постоянно подчеркивает эмоционально-психологическую тональность действия. При этом цветовые решения позволяют автору проводить семантические параллели. Так, Берлиоз и Пилат, каждый по-своему, убивают Христа. И если у Понтия Пилата «белый плащ с кровавым подбоем», то Берлиозу в момент смерти «брызнул в лицо красный и белый свет». Воланду неизменно сопутствует красно-черный фон (по ассоциации с горящими углями Ада); Пилату — красно-белый как напоминание о крови и плоти невинных жертв (Иешуа и Мастера). Так в завуалированной форме противопоставляются черная месса и христианское причастие96.
Ритуалы черной мессы просматриваются и в сцене бала у сатаны (гл. 23), где христианской пасхальной традиции «жизнь — смерть — возрождение» противостоит иная: «смерть — жизнь — смерть». На балу у Воланда отрезанная голова Берлиоза превращается в чашу, из которой Маргарита причащается «обращенной» кровью Майгеля. Если в христианском причастии вино и хлеб уподобляются крови и телу Господа, то в черной мессе — наоборот — кровь и плоть уподобляются вину и хлебу. Однако Маргариту, готовую ради возлюбленного даже душу свою отдать дьяволу, Воланд не заставляет причащаться кровью: «...кровь давно ушла в землю». В числе источников сцены бала можно рассматривать не только прием в американском посольстве (А. Эткинд), но и описание «праздника» в «Бесах», эпизод из романа А. Белого «Петербург», где все приглашенные на маскарад были в масках, причем на груди у каждого «на двух перекрещенных косточках был вышит череп» [60, с. 160]97. У Булгакова читаем: «Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке» [121, т. 2, с. 559]98.
Всеобщее изумление у окружающих вызывают массивные золотые часы и портсигар Воланда с магическим треугольником в алмазах. И сразу же возникает мысль о масонстве (братстве «вольных каменщиков»). Однако Булгаков не был бы собой, если бы разгадка лежала на поверхности. Действительно, уже «в раннехристианскую эпоху манихеи использовали треугольник как символ Троицы... (рука, голова и имя бога, к которым затем добавился глаз, как знак для Отца, Сына и Святого Духа; это «око Божье» <...> в масонской символике <...> является «всевидящим оком» с девятью лучами — также символом божества» [76, с. 270]. Однако в учении дохристианского философа Ксенократа (393—314 гг. до н. э.) представлены три вида треугольников с соответствующими значениями: равносторонний — «божественный», равнобедренный — «демонический» и разносторонний — «человеческий» (несовершенный) [см. 76, с. 270]. Масоны использовали разносторонний треугольник (с соотношением длины сторон 3×4×5), получивший название прямоугольного треугольника Пифагора. В «Мастере и Маргарите» же не сказано, какой именно треугольник изображен на внешней крышке портсигара и часов, что позволяет предположить наличие любого из трех. В свою очередь, это обстоятельство уравновешивает божественное, демоническое и человеческое начала и вполне соответствует миссии обладателя магических символов.
Представляет интерес еще одно обстоятельство. Любовь дьявола к золоту общеизвестна. А к алмазам?! Святая Хильдегард Бингенская (1098—1179) писала: «Дьявол настроен по отношению к этому камню враждебно, так как он противостоит его силе; поэтому дьявол ненавидит его днем и ночью» [см. 76, с. 14]. Однако Воланд спокойно демонстрирует свои алмазы, приветствует Маргариту в «алмазном венце» и даже дарит ей на память «золотую подкову, усыпанную алмазами». Очевидно, это связано с особенностями именно булгаковского сатаны.
Спор Воланда и Берлиоза на Патриарших прудах касается не столько вопроса существования Бога (хотя для Воланда доказать бытие Божие означает подтвердить свое собственное), сколько проблемы добра и зла, веры и безверия, правды и истины, свободы и предопределения в человеческой судьбе. Впоследствии именно эти вопросы станут центральными в разговорах Иешуа с Понтием Пилатом, Воланда с Левием Матвеем.
В диалоге между Воландом и Берлиозом заходит речь о доказательстве Канта, причем сам разговор явно восходит к статье «Бог» из «Энциклопедического словаря», издаваемого Брокгаузом и Ефроном99 [690, т. IV, п/т 7, с. 207]. Уже в первой редакции «Мастера и Маргариты» (1929) И. Кант назван создателем нравственного, пятого по счету доказательства бытия Бога в дополнение к уже существовавшим историческому, космологическому, телеологическому и онтологическому. У Брокгауза и Ефрона сказано, что Кант считал невозможным «найти какое бы то ни было доказательство бытия Божия в области чистого разума», однако его теодицея проистекает из «нашей совести», в которой «существует безусловное требование нравственного закона, который творим мы сами и который не происходит из взаимного соглашения людей...» [690, т. IV, п/т 7, с. 207]. Между тем, в окончательном варианте романа Воланд называет доказательство Канта шестым, и тем самым, с одной стороны, мистифицирует читателей, с другой, — подчеркивает невежество собеседника. «Шестым доказательством» бытия Божия становятся гибель Берлиоза100 и предсказанная судьба Ивана Бездомного101. Впрочем, булгаковский роман демонстрирует и пять предыдущих доказательств102.
Булгаковский Воланд не только цементирует различные пласты повествования в романе, но и является фигурой, вызывающей наибольшее количество разноречивых суждений в критике. Так, А. Райт полагает, что Воланд напоминает дьявола из Ветхого Завета; Е. Яблоков ассоциирует его с абсолютной Истиной; И. Бэлза называет Демиургом и сторонним наблюдателем одновременно. В. Киселев, А. Королев, В. Лакшин, В. Петелин, М. Петровский считают Воланда носителем добра; А. Вулис, Е. Меллиор, В. Немцев — вершителем высшего правосудия; В. Петелин — воплощением гуманистических идеалов автора; П. Андреев, А. Казаркин, И. Карпов, Л. Левина, П. Палиевский, Б. Соколов — олицетворением зла; А. Кораблев — отражением злого начала в человеке; А. Эрастова — воплощением идей Великого Инквизитора («Братья Карамазовы»); И. Бэлза, Л. Ионин, Н. Утехин, Е. Яблоков рассматривают Воланда некоей надморальной силой, вне аксиологических дефиниций103.
Весьма своеобразную, хотя далеко не бесспорную точку зрения на Воланда высказывает В. Покровский. По его мнению, Воланд в романе — «трагическое существо, образ чрезвычайно возвышенный...», чья «метафизическая вина» заключается в том, что «он олицетворяет Сатану. Когда-то став «падшим ангелом», Воланд приходит в художественное время и пространство романа изначально виновным, отпадшим от Бога. Онтологический статус Воланда таков, что ему не дано узреть Бога и вступить с ним в общение. Даже имя Божества он «не дерзает назвать», когда «мечет стрелы своего метафизического остроумия» в Левия Матвея [см. 513, с. 156].
Обилие противоречивых суждений оправдано многогранностью самого образа, который, во-первых, наследует канонический онтологический статус, во-вторых, органически вписывается в демонологическую традицию мировой литературы и, в третьих, становится одной из составляющих аксиологической системы Булгакова, и в этом смысле опирается на отражение гностических учений в русской религиозно-философской мысли. Мир Воланда — это царство логики, но феноменологической логики. Бытие Воланда выходит за рамки земных представлений в иную трансцендентную реальность. Воланду подвластны пространство и время, ведь «вечность предшествует времени как его причина» [231, с. 159]. Неподвластны лишь любовь и творческий дух.
Августин однажды заметил: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» [цит. 147, с. 26]. Для Булгакова пространство и время — это ценностные категории, поскольку они позволяют оценить роль и место каждой личности в мире. Проблема хронотопа булгаковского романа достаточно давно занимает исследователей. При этом обнаруживаются два подхода: первый проявляется в работах, где «восстанавливаются маршруты» передвижений героев «Мастера и Маргариты», указываются конкретные адреса их местопребывания, рассчитываются временные рамки происходящего (А. Барков, Б. Мягков, Б. Соколов и др.), второй обнаруживается в тех исследованиях, авторы которых рассматривают жизненные реалии лишь как знаки иной мифологизированной трансцендентной «реальности» (П. Абрагам, М. Гаврилова, Г. Гаспаров, Л. Ионин и др.).
Интерес Булгакова к проблеме времени и пространства наметился уже в раннем творчестве («четвертое измерение» в «Записках на манжетах», машина времени в «Блаженстве» и «Иване Васильевиче»). Литературно-художественный хронотоп104 Булгакова выступает способом оценки окружающей действительности, при этом писатель «расширяет пространство непредсказуемости — пространство информации и одновременно создает условный мир, экспериментирующий с этим пространством и провозглашающий свое торжество над ним» (Ю. Лотман [386, с. 189]). Так, художественное пространство московских и ершалаимских глав связывают сквозные мотивы (зноя, дороги, грозы), наслаивая мифологический архетип на реальное содержание происходящего и тем самым актуализируя его сокровенный смысл. Пространственно-временные отношения в романе не только демонстрируют поэтическую вселенную, творчески пересозданную автором, но и отражают его иерархию ценностей.
Одной из первых книг, приобретенных Булгаковым после приезда в Москву, была работа П. Флоренского «Мнимости в геометрии». По воспоминаниям Е. Булгаковой, эта книга «не раз прочитывалась в годы работы над «Мастером и Маргаритой»105. По мнению П. Флоренского, научное и метафизическое мышление («конкретная метафизика») не противоречат друг другу. Целостное представление о картине мира, по Флоренскому, можно составить на основе осмысления второго закона термодинамики. И единственной силой, способной предотвратить всеобщую нивелировку и хаос, является творец духовной культуры, а это как нельзя более согласуется с булгаковской формулой «рукописи не горят».
Влияние философии П. Флоренского на творчество Михаила Булгакова не абсолютно, но очевидно, поскольку многие примеры свидетельствуют о близости исходных философских постулатов106. Так, одна из основных идей П. Флоренского об антиномичности разума («соткан из двух противоборствующих начал — «конечности и бесконечности», т. е. дискурсии и интуиции (созерцания)» [618, т. 5, с. 377]) порождает его теорию о космологических антиномиях («немыслимость противоположного» и «непредсказуемость противоположного» — не противоречие, а «разные функции сознания» [622, с. 26]) и теорию о «двусторонности физического пространства»107.
В работе П. Флоренского «Мнимости в геометрии» читаем: «Если смотреть на пространство через не слишком широкое отверстие, сам будучи в стороне от него, то в поле зрения попадает и плоскость стены; но глаз не может аккомадироваться одновременно и на виденном сквозь стену пространстве, и на плоскости отверстия. Поэтому, сосредоточиваясь вниманием на освещенном пространстве, в отношении самого отверстия глаз вместе и видит его, и не видит. <...> Как-то мне пришлось стоять в <...> Сергиево-Посадской церкви, почти прямо против закрытых царских врат. Сквозь резьбу их явно виделся престол, а самые врата, в свой черед, были видимы мне сквозь резную медную решетку на амвоне. Три слоя пространства: но каждый из них мог быть видим ясно только особой аккомадацией зрения, и тогда два других получали особое положение в сознании и, следовательно, сравнительно с тем, ясно видимым, оценивались как полусуществующие...» [620, с. 58—59]. Именно такие ощущения испытывает Маргарита, рассматривая хрустальный шар в спальне Воланда.
Теории космологических антиномий, относительности пространства и гипотеза геометрической интерпретации комплексных чисел П. Флоренского находят художественное воплощение в параллельном существовании различных хронотопов в «Мастере и Маргарите» (древний Ершалаим, современная Москва, «пятое измерение»; пространство «нехорошей квартиры», которое внезапно «выворачивается» в иное измерение, и персонажи, движущиеся вглубь ее видимой плоскости); при этом совмещение в двойном пространстве различных точек пространственно-временного континуума акцентируется Булгаковым за счет совпадающих природных координат: жара, туча, луна и т. д.
Идея «интуитивного познания истины» П. Флоренского (истина порождается «дискурсивной интуицией», является «самодоказательной», «самообоснованной» [618, т. 5, с. 378]) логически объясняет то, как Мастер «все угадал». А мысль П. Флоренского о деформации пространства и времени под воздействием сверхскорости реализуется в сцене полета Маргариты, когда пространство словно разрывается, а «верх» и «низ» меняются местами: «Переулок под нею покосился набок и провалился вниз. Вместо него <...> под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное сверкающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились. Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось под землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна <...>. По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищною скоростью...» [121, т. 2, с. 647].
Модель мироздания П. Флоренского, объединившего христианские представления с теорией относительности А. Эйнштейна, базируется на трех сферах: земной (области земных явлений и земных движений), пограничной (между Землей и Небом), небесной (области Неба). Каждая из этих сфер имеет свои особенности: земная — всякое тело имеет устойчивую длину, движется в определенном направлении, с ограниченной скоростью, а время течет в прямом направлении; пограничная — длина всякого тела равна нулю, а его время со стороны представляется бесконечным (при достижении скорости света); небесная (время течет в обратном направлении, следствие предшествует причине, все движется к исходной точке — теологии).
В свете космологических представлений П. Флоренского становятся понятны временные «задержки» в булгаковском романе. На балу у сатаны, как в чистилище (своеобразной пограничной сфере), само время останавливается: «Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными» [121, т. 2, с. 570]; «Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?» [121, т. 2, с. 597]. Художественное время у Булгакова подчиняет «своим задачам и грамматическое время, и философское его понимание» (Д. Лихачев [378, с. 21]). Вероятно, поэтому время действия в «московских главах» движется в три раза быстрее, чем в Ершалаиме. Вероятно, поэтому и Л. Менглинова считает, что Воланд — «это время, испытывающее человечество духовными ценностями» [416, с. 75].
Поднимая извечную проблему добра и зла, Булгаков, подобно гностикам108, обращает внимание на возможное их единство. Уже в эпиграфе к роману сочетается, казалось бы, несоединимое: «хочет зла» и «совершает благо». И если к первоисточнику (Мефистофель из трагедии «Фауст») едва ли применим подобный поворот, то Воланд целиком его оправдывает.
Проблема противостояния добра и зла определяет духовные искания всей русской литературы XIX—XX веков109, ибо «сферу нравственной жизни всегда предопределяет ценностная пара «добро — зло». Не существует этики, которая могла бы избежать этой дуальности» [2, с. 98]. Архиепископ Иоанн Шаховской в связи с романом «Мастер и Маргарита» отметил: «Круг одного только социально-экономического понимания добра и зла слишком мал для человека. И логика одних житейских нравственных критериев слишком несовершенна. Человек должен войти в метафизический круг истины» [19, с. 507—508]. Контуры этого круга наметила русская религиозная философия начала XX века.
Одни философы (Л. Шестов, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский) считают зло не онтологическим феноменом, а следствием реализации человеческой свободы воли. Так, Л. Шестов полагает, что «понятие добра и зла не есть нечто положительное, как нас учили думать, и отрицательное. И не вечное, а временное, преходящее, не божественное, а человеческое, слишком человеческое» [677, с. 108].
По Бердяеву, «человек есть дите Божие, но и свободы, над которой бессилен Бог» [цит. 278, т. 2, ч. 2, с. 79], а зло есть порождение этой свободы.
С точки зрения С. Булгакова, происхождение зла в мире связано с духовной космической катастрофой; причем грехопадение произошло не в душе мира, а лишь в творении ее — в человеке. Зло не является изначальным... Но единожды возникнув, оно становится многообразным, пребывая и в космической ипостаси — зло в природе, и в антропологической — злая воля в человеке [см. 140, с. 260].
По мнению Н. Лосского, «зло» — это не досадное недоразумение или оплошность, а объективная предпосылка естественной эволюции к абсолютному добру. Оно может быть достигнуто лишь при условии свободы субъектов ценности, но сама «свобода связана с возможностью не только добра, а и зла» в виде эгоистического себялюбия и изолированности от других субъектов. Поэтому «зло есть некоторый особый вид бытия... есть свободный акт деятеля... в погоне за величайшей положительной ценностью... однако на неправильном пути» [383, с. 300].
Другие философы (Л. Карсавин, П. Флоренский) считают, что понятие зла изначально и составляет антиномичную пару добру. Л. Карсавин, например, пишет: «...если зло и добро в Боге одно и то же, то зла, как такового, уже нет, так же, как нет и добра: зло и добро оказываются лишь покровами подлинного, а подлинное — их непонятное единство» [324, с. 32]. Ту же мысль развивает П. Флоренский, полагающий, что «в вечности зло призрачно» и без добра не существует [см. 623]. В русле этих суждений звучит высказывание Л. Толстого: «Удивительно, как много людей видят какой-то неразрешимый вопрос в зле. Я никогда не видел вопроса. Для меня совершенно ясно, что то, что мы называем злом, есть то благо, действия которого мы еще не видим» [602, т. 1, с. 31].
В последние годы жизни проблема добра и зла особенно занимала Вл. Соловьева, который, полемизируя в «Трех разговорах» с Л. Толстым, критикует его непротивление злу насилием и при этом указывает, что зла в мире больше, нежели добра, но с этим необходимо бороться. В статье «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» Вл. Соловьев пишет: «...добро и зло, правда и лукавство не останавливаются на теоретическом различии, а по необходимости вступают в деятельную борьбу; это для них совершенно существенно: если бы зло не противоборствовало добру, то оно не было бы злом...» [581, с. 423].
В существовании Абсолюта не сомневается никто из русских философов, при этом абсолютное выступает как критерий совершенства, совокупное выражение высших ценностей и соотносится с высшими человеческими стремлениями и интенциями, олицетворяет собой высший смысл человеческого существования. Таковы учения Вл. Соловьева, Е. Трубецкого, С. Трубецкого, Л. Карсавина, разрабатывающих философскую концепцию Всеединства, согласно которой Абсолют нуждается в существовании своего Иного (прежде всего — человека, который, будучи, как все сотворенное, эманацией Абсолюта, тем не менее обладает свободой воли, которая в своем стремлении к самоутверждению порождает зло).
Важное место в философии Всеединства занимает учение о Софии — премудрости Божией и вместе с тем Душе мира. София выступает необходимым опосредствующим звеном при переходе из области абсолютного с его атрибутами вечности, истинности и совершенства к тварному миру, который не только не обладает совершенством, но часто определяется как «лежащий во зле». В рамках концепции Всеединства кроется и отрицание существующей действительности как неистинной, погрязшей в грехе, и утверждение возможности ее преодоления посредством любви.
В концепции Всеединства не только божественное проявляется в человеческом, но и человеческое (прежде всего, человеческие ценности) обретают статус божественных. Отсюда берет начало вера в божественную природу человека, в изначальность добра и в конечную победу Богочеловечества.
Философские споры, система ценностей и их иерархия со всей очевидностью свидетельствуют о том, что проблема добра и зла в «Мастере и Маргарите» ставится в духе русской религиозно-философской мысли, отразившей отголоски гностических теорий110. Причем особое влияние на М. Булгакова оказали Вл. Соловьев и П. Флоренский. Весьма спорной в этой связи представляется точка зрения В. Немцева, который считает философскими в романе не философские идеи, а «взаимоотношения между героями» [454, с. 43].
По мнению некоторых исследователей (А. Гапоненков, В. Лакшин), в «Мастере и Маргарите» автор не допускает и тени равноправия («равновесия») добра и зла, света и тени, света и тьмы [см. 193, с. 130; 364, т. 1, с. 60]. Однако, как справедливо подчеркивает Б. Гаспаров, «недискретность и пластичность объектов повествования (в романе — П.В.) тесно связана с такой же недискретностью и пластичностью их оценки. Добро и зло, грандиозное и ничтожное, высокое и низкое, пафос и насмешка оказываются неотделимы друг от друга» [194].
Писатель подчеркивает неразделимую связь добра и зла в решении извечных нравственных проблем. И если Мефистофель («Фауст») призван искушать и совращать, то Воланд, скорее, испытывает тех, с кем сталкивает его судьба. Никто в романе не совершает грехов по его наущению. В отличие от Мефистофеля, Воланд признает то редкое, что по-настоящему велико, истинно, нетленно. Он знает цену и творческому подвигу Мастера, и раскаянию Пилата. Любовь и гордость вызывают у него интерес, холодную симпатию, уважение. Нетленным для Воланда оказывается нравственный подвиг Иешуа и то неподвластное ему, что в романе противопоставлено тьме и поименовано обобщенно — свет.
О наличии двух равноправных «ведомств» в булгаковском романе говорит Воланд111, обращаясь к Маргарите после ее просьбы помиловать Фриду: «Но просто, какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделаете сами» [121, т. 2, с. 588]. Эта мысль получает дальнейшее развитие в диалоге Воланда и Левия Матвея: «Ты произнес свои слова так, как будто не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени?» [121, т. 2, с. 661—662]112. В рамках канонической христианской доктрины диалог о взаимозависимости света и тьмы невозможен. Однако именно он позволяет понять истоки аксиологический системы М. Булгакова.
В «Мастере и Маргарите» Воланд не столько карает грешников, сколько предвидит грядущие беды (гибель Берлиоза, сумасшествие Бенгальского и Бездомного), ибо наказание их — в них самих. Однако пороки порокам рознь. И если одни сжигают сердца великих людей (Пилат), то другие тлеют в ничтожных душах (зрители в театре Варьете, покупатели в Торгсине, посетители Дома Грибоедова). К тому же, миссию воздаяния Воланд перепоручает своей свите113.
К сожалению, в критике еще встречаются попытки подменить анализ демонологической линии романа абстрактными рассуждениями: «Будем считать, априорно, что дьявольство существует в любом человеке, оно может проявляться в большей или меньшей степени. Важно, как человек его преодолевает» [271, с. 62]. Между тем, образы булгаковских трикстеров, представляющие различные варианты архетипа, выписаны в традициях карнавальной смеховой культуры. А. Смелянский по праву называет свиту Воланда «великолепной актерской труппой, лучшими в мире гаерами и шутами, призванными открыть миру истину» [559, с. 408]. О. Викторович даже пытается систематизировать персонажей инфернального мира, распределяя их «попарно»: великий — незначительный (Воланд — Азазелло), худой — толстый (Коровьев — Бегемот), умелый — неумелый (Азазелло — Бегемот; Коровьев — Бегемот). Однако подобная «классификация» не отражает ни характеров персонажей, ни их ролей в произведении. Важно другое: всех представителей потустороннего мира объединяет общее качество — несоответствие. Амбивалентность характеров позволяет им играть роли плутов, озорников и простофиль, оставаясь, вместе с тем, демоническими существами.
Чертями, упырями, русалками изобилует не только древнерусская литература, но и творчество Н. Гоголя, А. Пушкина, М. Лермонтова, А.К. Толстого, А. Ремизова. По мнению М. Чудаковой, к гоголевской традиции восходит одна из наиболее колоритных фигур в свите Воланда — Коровьев-Фагот, который «соткался» на Патриарших прудах «в час жаркого весеннего заката» прямо из знойного московского воздуха. Подручный Воланда представляется москвичам то переводчиком при иностранном консультанте, то бывшим регентом церковного хора, то «Панаевым — Скабичевским». С точки зрения Б. Соколова, «фамилия Коровьев сконструирована» по образцу и подобию «фамилии персонажа повести Алексея Константиновича Толстого <...> «Упырь» <...> статского советника Теляева, который оказывается рыцарем Амвросием и вампиром» [575, с. 245]. Тем более, что в заключительной сцене романа Коровьев-Фагот превращается в темно-фиолетового рыцаря, прототипом которого Л. Яновская считает «шестикрылого Серафима» («Азраила» Врубеля), а И. Галинская — провансальского рыцаря-трубадура из «Песни об альбигойском походе». Вместе с тем, Б. Соколов подмечает сходство Коровьева-Фагота с неким Коровкиным из повести Ф. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», который, в свою очередь, является пародией на гоголевских Хлестакова («Ревизор») и Ноздрева («Мертвые души»). В то же время, образ «бывшего регента» церковного хора «напоминает кошмар «в брюках в крупную клетку» из сна Алексея Турбина в «Белой гвардии»... Это также материализовавшийся черт из разговора Ивана Карамазова с нечистым в романе «Братья Карамазовы»114 [575, с. 247].
Верным спутником Коровьева-Фагота, непременным участником всевозможных похождений и проказ является кот-шут, кот-оборотень Бегемот. О. Викторович сравнивает его со сказочными героями братьев Гримм («Кот в сапогах») и А. Пушкина (Кот-баюн). Л. Белозерская-Булгакова считает, что в Бегемоте отразились черты их домашнего любимца — кота Флюшки. По мнению М. Чудаковой, этот образ взят из книги М. Орлова «История сношения человека с дьяволом» (С. Петербург, 1904), выписки из которой сохранились в архиве Булгакова. Развивая гипотезу М. Чудаковой, Б. Соколов указывает на дело игуменьи Анны Дезанж, одержимой «семью дьяволами <...>, причем «пятый бес был Бегемот <...>. Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени» [цит. 575, с. 49].
Возможно, что имя этого персонажа было взято из апокрифической книги Еноха (X: 9) или ветхозаветных книг Иова [40: 10] и Ездры [VI: 49]115, а одной из предпосылок для создания образа послужила книга М. Орлова, однако гораздо более очевидным представляется родство булгаковского черного кота с народными преданиями и верованиями, дань которым отдал и Н. Гоголь.
Отличие булгаковского «древнего и неприкосновенного животного» от гоголевского кота-оборотня в «Майской ночи» заключается в карнавальной тональности образа. Булгаковский персонаж не столько демонстрирует свое соответствие демонологической традиции, согласно которой «Бегемот <...> — это демон желаний желудка» [575, с. 50], сколько высвечивает и вышучивает современные пороки, оттеняя величие глубоких чувств и сильных характеров. Бегемотовские «штучки» могут быть восприняты в духе карнавальной традиции древнерусской смеховой культуры.
Сведения об Азазелло, по мнению Б. Соколова, Булгаков почерпнул из работы И.Я. Порфирьева, посвященной апокрифическим книгам Ветхого Завета. Именно здесь сказано, что Азазел «научил людей делать мечи, шпаги, ножи, щиты, брони, зеркала, браслеты и разные украшения; научил расписывать брови, употреблять драгоценные камни и всякого рода украшения, так что земля развратилась» [516, с. 201—202]. В славянском апокрифе об Аврааме Азазил — это «дьявол в образе нечистой птицы» [516, с. 212]. Кстати, перед профессором Кузьминым Азазелло появляется сначала в образе «воробушка», а затем превращается в странную «сестру милосердия» с мужским, кривым до ушей, ртом, с одним клыком, мертвыми глазами и птичьей лапой.
В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона [690, т. I, с. 201—202] «Азазел» имеет несколько толкований, которые тоже повлияли на выбор Булгаковым имени персонажа: 1) «Азазел» — своеобразный символический ритуал «козлоудаления» и «козлоотпущения» по закону Моисея, связанный с искупительной для народа жертвой116; 2) Азазелом в книге Бытия [VI, 4] называли «одного из ангелов, сброшенных с неба, во время войны титанов»; 3) Азазел, «как злой гений, упоминается многократно в апокрифической книге Еноха [VII: 1; X: 12; XIII; XV: 9]»; 4) «У некоторых древних христианских сектантов А. есть имя сатаны117 [см. Origen. Cels. 6, л. 305. ср. Epiph. haer. 34, II]»; 5) «...у арабов, до и после Мохаммеда, А. известен, как имя злого духа [см. Norberg Onomast, <...> Reland, de relig Muham., <...>]».
Вероятнее всего, Азазелло — противоречивый собирательный персонаж, составленный мозаичным способом по целому спектру толкований: один из падших ангелов, «злой дух», несущий в себе частицу самого Сатаны; «злой гений», научивший людей мастерству, дабы «земля развратилась», и в то же время связанный с искупительной для народа жертвой, подобной жертве Христа.
Многие исследователи творчества Н. Гоголя отмечают неожиданно светлый карнавальный характер его чертей и ведьм (исключение составляют «Вий», «Майская ночь или утопленница»). То же явление наблюдается и в произведениях Булгакова. По точному выражению польского литературоведа А. Дравича, «гоголевский кусочек разбитого чёртова зеркала попал ему (Булгакову — П.В.) в глаз» [721, с. 140]. Его нечистая сила не только не придает ситуации трагический оттенок, но выступает праведным судией порокам человечества («Тайному другу», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита»), зачастую она же становится единственным покровителем героев. В письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года М.А. Булгаков с вызовом называет себя мистическим писателем, имея в виду сожженную редакцию романа о дьяволе и свои фантастико-сатирические повести, в том числе «Дьяволиаду». Эти слова отнюдь не означают, что к этому времени творческое воображение художника безраздельно захватили демоны, черти и ведьмы. Вместе с тем, уже тогда «нечистая сила» становится непременным атрибутом философско-эстетической системы художника.
В отношении к гротеску М. Булгаков смыкается не только с Н. Гоголем и Э. Гофманом, но и с Вл. Соловьевым, который считает отличительным признаком «подлинно фантастического» то, что «оно никогда не является, так сказать, в обнаженном виде. <...> В подлинно фантастическом всегда остается внешняя, формальная возможность простого объяснения из обыкновенной связи явлений, причем, однако, это объяснение окончательно лишается внутренней вероятности. Все отдельные подробности должны иметь повседневный характер, и лишь связь целого должна указывать на иную причинность» [583, т. III, с. 8]. В потоке различных повествовательных манер118 читатель невольно принимает правду за вымысел, мистификацию за реальность, при этом «весь роман — это игра, в которой автор принимает самое активное участие» [492, с. 27]. То, что булгаковские персонажи пытаются объяснить рационально, воспринимается как нечто само собой разумеющееся героями Гоголя и Гофмана, для которых фантастическое неразрывно сплавлено с реальностью119.
Авторская позиция «правдивого повествователя», почти участника происходящего, заметна в названии трех глав, звучащих от первого лица и разбивающих события романа на три ключевые сцены: «Никогда не разговаривайте с неизвестными» (глава 1), «Слава петуху!» (глава 14), «Пора! Пора!» (глава 30). Иногда Булгаков по-гоголевски мистифицирует читателей, давая свою «правдивую» оценку событий:
• «Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования» [121, т. 2, с. 523];
• «Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она говорила правду. Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже нет» [121, т. 2, с. 524];
• «Пишущий эти правдивые строки сам лично, направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве две тысячи человек вышли из театра нагишом в буквальном смысле слова и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах» [121, т. 2, с. 584].
По-гоголевски мотивируя достоверность невероятных событий, Булгаков опирается на особую «категорию убедительности» [550, с. 100], при этом повествование объективируется благодаря использованию художественной детали, приемов иронической переакцентировки, психологического отстранения и, наконец, лирического диалога с читателем.
Эмоциональную атмосферу убедительности создают авторские обращения к проницательному читателю. Так, в первой части романа авторская оценка писательского ресторана в Доме Грибоедова, с одной стороны, акцентирует реальность изображаемого, с другой, — сатирическую тональность авторского восприятия: «Эх-хо-хо... Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! <...> А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке <...>. А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..» [121, т. 2, с. 373].
Художественная деталь у Булгакова, добавляя конкретику, вписывает невероятные события в будничную действительность. Так воспринимается описание погони Ивана Бездомного за нечистой силой («консультантом», «регентом» и котом): «Регент с великою ловкостью ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло осадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно. Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу...» [121, т. 2, с. 366]. Реальный и мнимый планы повествования здесь настолько взаимно проникают, что сама грань между ними представляется иллюзорной; а затем литературные герои словно входят в реальную жизнь. Так, обращаясь к жене Булгаков пишет: «Это Коровьев или кот подшутили над тобой. Это регентовская работа», или «Сознайся, что ты поручила составление телеграммы коту Бегемоту»120 [129, т. 5, с. 565, 585].
Ироническая переакцентировка строится на соотнесении различных версий происходящего с авторской оценкой. Причем возможные сомнения в подлинности событий и лиц снимаются за счет смещения содержательных акцентов, за счет переключения внимания читателя не нечто другое. Например, появлению Воланда сопутствует целый ряд «версий» его внешности, что, с учетом пристального внимания самого автора к описываемым деталям, придает убедительность и герою, и сцене: «...в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй, — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было. Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые <...>. По виду — лет сорок с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой» [121, т. 2, с. 326]. Аналогичный прием — в эпилоге романа, когда «в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов...» [121, т. 2, с. 684].
Переакцентировка не только объективирует повествование, она погружает читателя в авторское игровое поле, поскольку сообщаемая ему информация носит явно иронический характер. Булгаков не просто настаивает на реалистичности героев и достоверности событий, но и формирует некое новое представление о реальности, которой не чужды ни мистика, ни гротеск.
«Этого не может быть», — то и дело произносят герои. «Но это было», — отвечает им автор. При этом мнимое (с материалистической точки зрения) парадоксальным образом зачастую оказывается истинным (появление нечистой силы на Патриарших прудах, завтрак у Канта, смерть Берлиоза, существование Бога и дьявола, перемещение Лиходеева в Ялту, черная магия, пятое измерение и т. д.). Художественный мир Булгакова опережает самую смелую фантазию. И потому фантастически нелепо выглядит, например, реакция обывателей на появление говорящего кота, который то пытается расплатиться в трамвае121, то «починяет примус»122. В то же время авторская оценка событий и в московских, и в древних главах романа подчеркивает их правдивость. В результате по одну сторону оказываются мистическое, фантастическое, мифологическое, но реальное, а по другую, — бытовые, житейские представления.
Даже восклицание «чёрт!» в «Мастере и Маргарите» вместо сугубо эмоциональной оценки той или иной ситуации обретает реальное номинативное значение. Автор и герои романа произносят это слово достаточно часто123, и не всегда без последствий: «Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и вскрикивала: — Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и дочертыхался <...>. Вообразите, сижу <...> и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему «брысь!». Он — вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой <...> И прямо шасть к Прохору Петровичу <...>. Прохор Петрович вспылил <...>, вскричал: «...Вывести его вон, черти б меня взяли!» А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» И, трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си... сидит... костюм...» [121, т. 2, с. 499].
В булгаковском романе самые обыденные присказки «бог знает...» и «чёрт знает...» наполняются мистическим смыслом, однако «Бог знает» только однажды [см. 121, т. 2, с. 527], а «Чёрт знает» гораздо больше [см. 121, т. 2, с. 359, 391, 396, 411, 421, 456, 521, 532, 556, 638, 666]. Кстати, в главе «Пора! Пора!» Маргарита переводит чисто эмоциональную реплику Мастера в реальный план: «— Конечно, конечно, — иронически заметил мастер, — теперь, стало быть, налицо вместо одного сумасшедшего двое! И муж и жена. — Он воздел руки к небу и закричал: — Нет, это чёрт знает что такое, черт, чёрт, чёрт! — Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захохотала, заболтала босыми ногами и потом уж вскричала: — Ой, не могу! Ой, не могу! Ты посмотри только, на что ты похож! — Отхохотавшись, <...> Маргарита стала серьезной. — Ты сейчас невольно сказал правду, — заговорила она, — чёрт знает, что такое, и чёрт, поверь мне, все устроит! — глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: — Как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку!» [121, т. 2, с. 666].
Троекратное повторение «чёрт, чёрт, чёрт» вместе с репликой Маргариты «ну тебя к чёрту с твоими учеными словами» становится основанием для внезапного появления Азазелло с репликой «Мир вам».
Булгаковские герои то и дело говорят о нечистой силе, чертях и ведьмах. Так, царством нечистой силы представляется Короткову («Дьяволиада») некое бюрократическое учреждение. При этом реальное и мистическое, переплетаясь, образуют в сознании героя чудовищную фантасмагорическую картину ада. Трагикомическая ситуация складывается в «Зойкиной квартире», когда управдом Аллилуйя после правильно названных Зойкой номеров червонцев из взятки, лежавшей в его кармане124, бросает: «Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь, я уж давно заметил» [121, т. 3, с. 199]. В «Иване Васильевиче» Иоанн Грозный называет ведьмой жену управдома Бунши (и он недалек от истины!), а самого Буншу-Корецкого и Жоржа Милославского в царской Москве именуют демонами.
Своего рода предтечей образа ведьмы в «Мастере и Маргарите» (Гелла, Маргарита и Наташа) можно считать Явдоху, Елену и безымянную женщину в морге («Белая гвардия»). Булгаковские ведьмы подобны гоголевским («Вий», «Майская ночь») и, в отличие от фольклорной традиции, молоды и красивы. Так, Василию Лисовичу тридцатилетняя Явдоха «вдруг во тьме почему-то представилась <...> голой, как ведьма на горе» [121, т. 1, с. 487]. Рыжие волосы Елены, ставшие предметом обожания Шервинского и Лариосика, невольно наводят на мысль о чарах Маргариты («Мастер и Маргарита»). А когда Николка в поисках тела полковника Най-Турса попадает в морг, то видит, как сторож Федор «ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой...» [121, т. 1, с. 664]. Такой же шрам опоясывает шею Геллы («Мастер и Маргарита»): «Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее» [121, т. 2, с. 512].
Булгаковская Гелла125 — «нагая девица с зелеными распутными глазами» — несет на себе отпечаток того бездуховного мира, с которым сталкивается. Гоголевские («Вий») и толстовские (Упырь») традиции [см. 575, с. 171] особенно заметны в главе «Слава петуху!», где рассказывается о попытке Геллы вместе с обращенным в вампира Варенухой напасть на финдиректора варьете Римского: «Финдиректор, <...> отступая к окну, <...> увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку <...>. Варенуха <...> шипел и чмокал, подмигивая девице в окне. Та заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула, сколько могла руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью. Наконец, зеленые пальцы мертвой обхватили головку шпингалета, повернули его, и рама стала открываться <...>. Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба. Покойница вступила на подоконник, Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди. И в это время неожиданный крик петуха долетел до сада <...>. Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол. Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы стали дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, <...> выплыл медленно в окно <...> Варенуха» [121, т. 2, с. 468—469].
Гоголевский «Вий» демонстрирует сходную по тональности картину: «Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви, <...> беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг <...>. Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил преступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший <...>. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством, — что выразило ее задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону <...>. Труп опять поднялся из гроба, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою» [201, с. 363].
Сходными являются не только сцены столкновения героев с нечистой силой, но и последствия этого столкновения: Хома Брут после второй ночи, проведенной наедине с усопшей панночкой, весь поседел («Он с ужасом увидел истину слов: половина волос его точно поседела» [201, с. 367]); то же самое происходит с героем булгаковского романа («Седой, как снег, без единого черного волоса старик, который еще недавно был Римским, подбежал к двери... и кинулся бежать по темному коридору» [121, т. 2, с. 469]).
Можно предположить, что одним из источников мистических сцен полета Маргариты и Наташи являются гоголевские «Вий» (ведьма, обернувшись панночкой, седлает конюха Микитку с той же ловкостью, с какой Наташа — Николая Ивановича; причем под действием волшебного крема Азазелло у Николая Ивановича появляются «пятачок» и «копытца»), «Ночь перед Рождеством» (сцена полета Наташи на борове напоминает полет кузнеца Вакулы на чёрте), «Пропавшая грамота» (картина шабаша, куда попадает Маргарита в главе «Полет», по тональности близка описанию шабаша в гоголевской «Пропавшей грамоте»:
«Пропавшая грамота»: «...все перед ним перемешалось, земля задрожала. Ведьм такая гибель... Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла <...> так и лезут целоваться» [201, с. 367].
«Мастер и Маргарита»: «...на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра <...>. Нагие ведьмы выскочили <...>. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке...» [121, т. 2, с. 5 52].
На фоне сходства явственно проступают отличительные особенности, которые обусловлены целевой установкой художников. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» герои бросают вызов нечистой силе и выходят из поединка победителями (герой «Пропавшей грамоты» оказывается неподвластен дьявольским соблазнам; кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством», перехитрив чёрта, привез своей возлюбленной царские черевички). Совершенно иное смысловое значение имеют образы нечистой силы в булгаковском творчестве. И некую обобщающую роль в этом плане играет «закатный роман» Булгакова. Многочисленные мистификации и розыгрыши, провокации и прочие «бесовские штучки» адресованы здесь лишь тем, кто поражен тем или иным пороком: тщеславием, развратом, алчностью и т. д. Сама же нечистая сила, согласно парадоксальной концепции автора, выступает очищающим началом.
Булгаков не ограничивается стереотипным, одномерным изображением ведьм и создает разноплановые характеры: от бездуховной традиционно-мистической женщины-вампира (Гелла) до женщины, исполненной высокого чувства любви, готовой к самопожертвованию (Маргарита). Вслед за Вл. Соловьевым М. Булгаков разделяет понятие красоты на «общую идеальную сущность» (добро) и «социально-эстетическую форму» (см. Вл. Соловьев [582, т. 2, с. 335]).
Особая страшная красота ведьмы чаще всего становится орудием зла, направленным на окружающих. Исходящую от нее угрозу ощущает бродячий философ Хома Брут («Вечера на хуторе близ Диканьки»), глядя на тело покойной панночки: «Пред ним лежала красавица, какая когда — либо бывала на земле. Она лежала, как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег <...>. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. — Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом...» [201, с. 356]. В то же время, чудодейственный крем Азазелло («Мастер и Маргарита») не только внешне преображает героев («Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист <...>. На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая <...> женщина лет двадцати, безудержно хохочущая...» [121, т. 2, с. 537]), он дарит им ни с чем не сравнимое чувство свободы («Маргарита ощутила себя свободной, свободной ото всего...» [121, т. 2, с. 537]) и проявляет глубинные качества их натуры. Именно поэтому Маргарита превращается в королеву бала, а Николай Иванович — в борова.
Описанные в романе Булгакова демонологические мотивы и ритуалы («шабаш ведьм», «дьявольские вакханалии», превращение под воздействием волшебной мази», «полеты») могли быть навеяны романом Д. Мережковского «Леонардо да Винчи», в котором Кассандра во сне «участвует» в дионисийских оргиях126, причем фраза, оброненная одной из участниц шабаша («Боров, боров, ко мне!»), перекликается со сценой из булгаковского романа. Видимо, не случайно Николай Иванович называет Наташу не иначе, как «Венерой», что опять-таки связано с пародийным переосмыслением этого образа из трилогии «Христос и Антихрист» Д. Мережковского.
Вместе с тем, в булгаковском архиве имеются выписки из статьи Л. Штейнберга «Шабаш ведьм» в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. Здесь говорится о том, что, собираясь летать, «ведьмы мажут себя волшебными мазями», а в полете используют «метлы, кочерги, ухваты, лопаты, грабли и просто палки». Причем участие ведьм в шабаше ведет начало от древнегерманских богов и богинь («Вальпургиева ночь» в трагедии И. Гёте), одна из которых — Фрейя — традиционно изображалась верхом на борове. Как тут не вспомнить полет горничной Наташи верхом на борове?! Далее Л. Штейнберг пишет: «Среди сонма ведьм, оборотней и давно умерших женщин (души усопших в свите Одина), слетевшихся на шабаш, каждая со своим возлюбленным чёртом, при свете пылающих факелов восседает на большом каменном столе сам сатана в образе козла, с черным человеческим лицом. <...> Затем следует бешеная постыдная пляска ведьм с чертями...» [690, т. XXXIX, п/т. 77, с. 201—202].
Не случайно превращение Маргариты в ведьму происходит в пятницу. Согласно восточнославянской и южнославянской мистической традиции, ПЯТНИЦА — демонологический персонаж, «продолжение главного женского божества славянского пантеона — Микоши» [421, с. 357]. В пятницу во искупление грехов людских на кресте скончался «сын Божий»127. В пятницу во имя спасения Мастера-евангелиста Маргарита заключает союз с дьяволом.
В критике поступок и сам образ героини рассматриваются по-разному. Одни литературоведы считают Маргариту идеалом вечной любви, олицетворением преданности и жертвенности (Л. Левина, В. Немцев, Б. Соколов); другие — «ведьмой», виновницей всех бед и даже гибели Мастера (А. Барков, М. Бессонова, Л. Скорино); третьи — выразительницей ненависти писателя «к пошлому, тягучему быту» (О. Викторович). Думается, прояснить ситуацию могут не только поступки героини, но и ее прототипы.
Имя и образ Маргариты сформировался у автора на основе целого ряда конкретных прототипов. В их числе были не только литературные (Гретхен из «Фауста» И. Гёте), биографические (Елена Сергеевна), но и исторические персонажи. Так, в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона имя Маргарита носят несколько королев, которые, несмотря на разность судеб, имеют нечто общее — образованность, самоотверженность и силу характера. Так, «Маргарита — французская королева (1219—1285) <...> вышла замуж за Людовика Св. <...>, часто давала мужу полезные советы <...>, основала несколько благотворительных учреждений...»; «Маргарита Валуа, или Наваррская — французская принцесса (1492—1549) <...> вышла <...> замуж га Генриха д'Альбрэ, короля Наваррского, после смерти которого (1543) самостоятельно управляла королевском. Маргарита всю жизнь отличалась большой преданностью своему брату, ездила в Мадрид хлопотать об его освобождении <...>, составляла при дворе центр культурного общества <...>, двор ее был центром духовной жизни тогдашней Франции. У нее нашел убежище Эразм Роттердамский; близкими ее друзьями были Клеман Маро, Ронсар и другие поэты. Сама Маргарита знала древние языки и оказывала большое влияние на выдающихся людей того времени; в этом отношении она была предшественницей блестящих хозяек литературных салонов XVIII в.»; «Маргарита Французская, или Валуа (1558—1615) <...> вышла замуж за короля наваррского, который под именем Генриха IV позже занял французский престол. Ее свадьба, отпразднованная с большой пышностью, закончилась Варфоломеевской ночью, или парижской кровавой свадьбой. <...> Последние годы жизни она провела в Париже, собирая вокруг себя ученых и писателей»; «Маргарита Пармская (1522—1586) — наместница Нидерландов, побочная дочь императора Карла V. <...> Женщина мужественной твердости характера, умная, властная» [см. 690, т. XVIII, с. 604—605]. «— Да, прав Коровьев! — констатирует Воланд, протягивая руку Маргарите. — Как причудливо тасуется колода! Кровь!» [121, т. 2, с. 560], и вскоре добавляет: «— Кровь — великое дело...» [121, т. 2, с. 564].
Кроме реальных и литературных прототипов у образа Маргариты была, несомненно, философская подоснова — теологема Софии, воплощающей Вечную Женственность. В век Просвещения сила человеческих страстей не могла быть выше силы разума, и Гёте подчиняет рациональному началу веру и чувства. Женскими добродетелями в эту пору считались смирение и покорность. Любовь Гретхен («Фауст») приводит ее к безумию, побуждая совершить целый ряд ужасных преступлений. Таким образом, у Гёте страсти человека способствуют его нравственному падению. Конец XIX — начало XX века связан с возрождением права человека на высокие чувства, с раскрепощением его эмоциональной сферы. Идеи Платона и Аристотеля получают развитие в философских учениях Вл. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского («София», «Мировая душа»). Результатом проекции христианских представлений о культе Девы Марии и воззрений русских философов на поэзию «серебряного века» (А. Блок, А. Белый, В. Брюсов) явилась идея «Вечной женственности», возродившая средневековый культ Прекрасной Дамы.
Само имя «Маргарита» (с греческого — «жемчужина») в гностической традиции означает «мировую душу» — Софию, которую «призван освободить из плена сатанинского дракона и возвратить в область божественного света гностический спаситель» [352, с. 69]. Поэтому едва ли можно согласиться с мнением некоторых критиков, что в сердце Маргариты идет борьба между светом и тьмой, борьба, в которой ей предстоит сделать выбор. Маргарита выбирает только однажды, но ее выбор неизменен — любовь и верность своему Мастеру. А какие испытания ожидают ее на этом пути — свет или тьма — ей все равно. Пребывание Маргариты на балу у сатаны воспринимается как испытание128 на верность и силу духа: «Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него <...>. Я погибаю из-за любви» [121, т. 2, с. 535]. Кому как не ей автор вверяет право прощать!?
«Определяющим началом человечности в русском менталитете всегда выступала не разумность, не холодный, трезвый ум, а сердечность — способность к непосредственной эмоциональной реакции на окружающее» [625, с. 246]. Именно так проявляет себя героиня, когда Воланд предоставляет ей выбор: спасти своего возлюбленного или принести облегчение Фриде129. Маргарита не может чувствовать себя счастливой, видя чужую беду, и без колебаний идет ей навстречу. К героине оказывается применимо сформулированное Вл. Соловьевым определение добродетели, в основе которой лежат три чувства: СТЫД, ЖАЛОСТЬ и ВЕРА.
Общение Булгакова с читателем, как правило, исполнено искренности, доверия и экспрессии. Во второй части романа авторское обращение к нему воспринимается как некий эмоциональный камертон, оттеняющий психологическую доминанту чувств главной героини: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» [121, т. 2, с. 523]. Любовь Маргариты, которая становится для Мастера источником творческого вдохновения, во многом следует этическому кодексу Вл. Соловьева, сформулированному в работе «Смысл любви»:
Таблица 5.
| «СМЫСЛ ЛЮБВИ» | «МАСТЕР И МАРГАРИТА» |
| «...при любви непременно бывает особая идеализация любимого предмета <...> | «Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом», — восклицает Маргарита, обращаясь к Воланду. |
| <...> образ Божий <...> не ограничивается в любви одним внутренним чувством, но становится иногда ощутительным и в сфере внешних чувств, <...> как <...> воплощение истинной идеальной человечности. <...> | Готовность Маргариты к самопожертвованию, ее способность откликнуться на чужую боль, как на свою собственную дают ей право просить Воланда и за Фриду, и за Мастера, и за Пилата. |
| <...> Истинная любовь есть та, которая не только утверждает в субъективном чувстве безусловное значение человеческой индивидуальности в другом и в себе, но и оправдывает это <...> в действительности, <...> избавляет нас от неизбежности смерти и наполняет абсолютным содержанием нашу жизнь» [см. 577, с. 38]: | Любовь Маргариты преодолевает барьеры, устанавливаемые смертью физической. Разделяя участь того, кого любит, Маргарита обретает не только смысл существования, но и «вечный приют», даруя Мастеру духовное бессмертие. |
Любовь Маргариты чистая и возвышенная, по-гоголевски яркая, по-купрински самоотверженная. Ради любви к Мастеру она отрекается от семейного уюта и бросает вызов не только обывательскому окружению, но даже нечистой силе. Не случайно в финальных сценах булгаковского романа Маргарита не просто прекрасна, она красива «неземной», «непомерной красотой», она почти такая, как писал Вл. Соловьев: «в конце Вечная красота будет плодотворна, и из нее выйдет спасение мира, когда ее обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту» [580, с. XII—XIII].
Если сюжетная линия Маргариты позволяет понять лирико-философский пласт булгаковского произведения, то социально-философская, архетипическая его основа прочитывается во вставном романе, состоящем из пяти фрагментов, которые образуют единый текст: рассказ Воланда (глава 2), сон Ивана (глава 16), «чтение» Азазелло фрагмента сожженной рукописи (глава 19), роман Мастера (главы 25 и 26). Едва ли возможно указать на единый источник «древних глав» романа. Своего рода предтечей булгаковской вставной легенды о Понтии Пилате и Иешуа можно считать апокрифические сказания «Акты Пилата»130, латинскую поэму XII века «Пилат», труды Иосифа Флавия, Светония, Тацита, «Божественную комедию» Данте, «Евангелия канонические и апокрифические» С. Жебелева, «Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки» И. Порфирьева; «Библиографический обзор древнерусских сказаний о флорентийской унии» В. Делекторского; «Археологию страданий господа Иисуса Христа» Н. Маккавейского, книгу «Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета» Г. Мюллера, «Жизнь Иисуса: Мифическая история Иисуса» Д. Штрауса, книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» и «Антихрист», исследование Ф. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа», тексты песен шубертовского цикла «Прекрасная мельничиха», поэму Г. Петровского «Пилат», романы Г. Сенкевича «Камо грядеши» и Эсы ди Кейруша «Реликвия», рассказ А. Франса «Прокуратор Иудеи», очерк А. Федорова «Гефсимания» и т. д. Перечень этих источников можно, вероятно, продолжить. Однако, к сожалению, невозможно установись доподлинно, на какие именно из них опирался автор, а в каких случаях мы имеем дело с совпадениями. Поэтому иногда исследовательский комментарий может показаться произвольным.
Отталкиваясь от четвероевангелия, Булгаков по-своему переосмысливает его131. Евангельская триада «предатель — невинная жертва — человек, умывающий руки» обретает в его интерпретации новые акценты: Иуда получает свои «тридцать сребреников», но не успевает раскаяться; Иешуа идет на смерть не осознанно (как Иисус), а, скорее, по наивности восприятия, смутно догадываясь о том, что его ожидает; Понтий Пилат не отстраненно наблюдает за происходящим, а испытывает жестокие угрызения совести. Отступая от канона, Булгаков намеренно уделяет особое внимание не Иешуа (источник нравственного прозрения), не Иуде (нераскаявшийся грешник), а Пилату (заложник собственного страха).
Современное булгаковедение предлагает следующие варианты толкования образа Иешуа:
• носитель высшей религиозно-философской истины (Г. Лесскис, А. Казаркин);
• идеал человека (А. Акимов, В. Немцев);
• воплощение авторской идеи всепрощения (А. Барков, А. Вулис, Г. Эльбаум).
Почти все исследователи отмечают неканоническую трактовку образа, однако взгляды на его роль в авторском замысле зачастую диаметрально противоположны. Так, по мнению А. Гапоненкова, булгаковский Иешуа «еретически выписан, лишен сакрального смысла. <...> Сила доброты собеседника Пилата и избранные им идеалы не подкреплены Богодухновенным содержанием Священного Писания» [193, с. 177]. «...отступая от буквы, Булгаков следует духу Евангелия», — полагает О. Викторович [161, с. 137]; «...художественное мироощущение Булгакова приближается к религиозному, поскольку символы «закатного романа» имеют стойкую тенденцию к абсолютизации, к религиозно-догматическому истолкованию смысла изображенных там событий» [454, с. 43], — считает В. Немцев. К сожалению, столь категоричные высказывания в равной степени односторонни. Если понимать под религиозностью онтологическую веру в конечную справедливость, то Булгаков, безусловно, «религиозен». Однако корни подобного мироощущения отнюдь не в религиозном догматизме, а в следовании нравственному максимализму романтической традиции (йенские романтики, И. Гёте, Ф. Гёльдерлин, Э. Гофман, Г. Гегель, И. Кант, Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев).
Само имя ИЕШУА восходит к древнееврейскому «Иесуа или Иешуа, т. е. Иегова спасет» [74, с. 172]. В то же время этимология прозвища Га-Ноцри имеет целый ряд толкований:
1) согласно выпискам из переведенной в 1924 году книги немецкого философа Артура Древса «Миф о Христе», которые сохранились в булгаковском архиве, «нацар» или «нацер» означает «отрасль» или «ветвь» [575, с. 222];
2) в более поздней работе Артура Древса «Отрицание историчности Христа в прошлом и настоящем», переведенной на русский язык в 1930 году, возникает еще один вариант толкования — «хранитель» [575, с. 222];
3) в древнееврейской книге «Талмуд» одно из именований Христа — «Га-Ноцри» — обозначает принадлежность героя к определенному месту Назарету и переводится как «Назарянин»132;
4) в Библии прозвище Христа имеет еще одну «негеографическую» трактовку: «То, что Иисус вырос в Назарете и назывался Назореем, приводится у Мат. 2:23, как исполнение пророчеств: Ис. 11:1: «Отрасль («Незер») от корня Иесеева»; Иер. 23:5; Зах. 3:8. <...> Назорей — евр. Назир <...> — т. е. отделенный или посвященный, — название человека, <...> который дал Богу обет...» [74, с. 270];
5) в развитие предыдущего толкования Библия приводит следующее: «Слово Назорей, или посвященный, встречается в некоторых местах евр. текста в смысле «вождь» или «князь», например, в Втор. 33:16 <...>; также в Быт. 49:26; и в Плач. 4:7» [74, с. 271].
В булгаковском романе Га-Ноцри проявляет себя отнюдь не так, как его канонический прототип. Из Нагорной проповеди автор оставляет лишь одно положение: «все люди добрые». Возраст булгаковского героя, в отличие от евангельского, 27 лет; причем Иешуа оказывается сыном не девы Марии, а «женщины сомнительного поведения» и некоего сирийца133; он даже не помнил своих родителей, что подчеркивало его низкое социальное положение.
Булгаков отступает от основного, по свидетельству евангелистов, обвинения Иисуса в том, что он именует себя Царем Иудейским. Вероятно, потому что «титул «Царя Иудейского», которого Иисус никогда себе не присваивал, но который <...> был, разумеется, лучшим поводом для того, чтобы возбудить против него римское правительство <...>. (А кроме того, — П.В.) это была крайняя несправедливость; Иисус всегда признавал римскую империю как установленную власть» [527, с. 326]; Он говорил: «Царство мое не от мира сего...». Булгаковский Иешуа говорит не о своем царстве, но только о царстве истины. Отсутствуют в доносе на Иешуа и обвинения в святотатстве (Иешуа не называет себя ни сыном Божиим, ни сыном человеческим). Таким образом, единственным, роковым обвинением Иешуа становится его приверженность истине. Булгаков, в отличие от евангелистов, не рисует своего героя «в гордом молчании»134, его Иешуа полагает, что его арест — просто ошибка, которая очень скоро разъяснится.
Единство антиномичной пары «истина — ложь»135 является ключевым в романе и позволяет Булгакову несколько сместить традиционные философские акценты противопоставления добра и зла: в истинном, как и в ложном, есть и доброе и злое. Однако для автора свет истины несет в первую очередь философ из Назарета. В подходе к евангельскому сюжету Булгаков опирается на Евангелие от Иоанна. И не случайно: в Евангелии от Иоанна слово «истина» (и производные он него) встречаются 100 (это всего лишь совпадение) раз136.
Иоанн — единственный из евангелистов — приводит диалог Иисуса с Пилатом об истине137, к которому восходит разговор Пилата и Иешуа в «Мастере и Маргарите». При этом Булгаков, в отличие от евангелистов, говорит о «храме истины», грядущем на смену «старой вере»: «— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. <...> — Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?..» [121, т. 2, с. 341]. Здесь намечаются контуры онтологической трактовки понятия «ИСТИНА», которая опирается на «ВЕРУ».
Корреляция веры и знания, определение путей, позволяющих гармонически сосуществовать этим производным «двух бездн» мироздания, занимает М. Булгакова не меньше, чем современных ему философов. Не случайно некоторые зарубежные исследователи сопоставляют «Мастера и Маргариту» с работами русских основоположников экзистенциализма Н. Бердяева и С. Булгакова. Так, Л. Милн полагает, что слова Иешуа о царстве истины и справедливости созвучны характеристике русского революционного анархизма, данной Н. Бердяевым в книге «Русская идея». Объединяя понятия ИСТИНЫ и ВЕРЫ, Вл. Соловьев писал: «Истина Христова Воскресения есть истина всецелая, полная — не только истина веры, но также и истина разума. Если бы Христос не воскрес, <...> мир оказался бы царством зла, обмана и смерти» [578, с. 103—106]. По Булгакову, ВЕРА без ИСТИНЫ слепа, а ИСТИНА без ВЕРЫ цинична.
Булгаковский Иешуа по-ренановски «приземлен», он говорит не притчами, намеренно упрощая смысл речей: «— Истина, прежде всего, в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти...» [121, т. 2, с. 341]. В булгаковской интерпретации Иешуа произносит весьма актуальные для автора, однако совершенно немыслимые для его историко-мифологического прототипа речи: «В числе прочего я говорил <...>, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть» [121, т. 2, с. 347].
Это почти революционное высказывание становится последним основанием для утверждения смертного приговора бродячему философу («Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой» [121, т. 2, с. 347]). Именно оно, по мнению автора, подкреплено искупительной жертвой. Отступая от четвероевангелия, Булгаков переосмысливает саму идею добровольной, искупительной жертвы как единственного пути к истине. Гибель Иешуа не добровольная жертва на алтарь веры, а трагическая неизбежность при определенных социальных обстоятельствах. Однако сама неотвратимость жертвы, ее безвинная кровь открывают путь не к мести — зло никогда не порождало добра, — а к духовному и нравственному очищению. Здесь намечается противостояние взглядов Пилата и Иешуа, противостояние, о котором нет упоминаний в Евангелиях. Примечателен в этом отношении следующий диалог:
«— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.
— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся» [121, т. 2, с. 448]138.
Как писал Вл. Соловьев, «тот мир, в котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий, подлинный мир. Существует другой мир, где правда живет» [579, с. 260]. Это в равной степени может быть отнесено и к Иешуа, и к Мастеру.
О суде Пилата пишут по-разному. В Евангелиях от Матфея и Марка говорится о том, что Пилат был уверен в невиновности Иисуса, а причину доноса на него видел в зависти первосвященников и старейшин. Э. Ренан объясняет поведение Пилата его неприятием Иудеи, ее Закона, ее старейшин и первосвященников: прокуратор не хотел становиться орудием исполнения их воли. В Евангелии от Иоанна причиной «заступничества» Пилата становится его нежелание принимать на себя ответственность за казнь невинного139. Однако стоило упрекнуть Пилата в том, что он потакает преступнику, «оскорбляющему величие» Рима, как прокуратор, «услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище» [Иоанн., XIX: 13] и, наконец, он «предал Его им на распятие» [Иоанн., XIX: 16].
В Евангелии от Луки, наиболее подробном из всех Евангелий, описывается, насколько последовательно Пилат пытался спасти Иисуса: «Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке» [XXIII: 4]; «И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме» [XXIII: 7]; «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом» [XXIII: 12]; «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем достойного смерти; итак, наказав Его, отпущу» [XXIII: 13, 14, 15, 16]; «Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу» [XXIII: 22]. «Но весь народ стал кричать: смерть Ему!» [XXIII: 18]; «Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса» [XXIII: 20]; «Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их...» [XXIII: 23, 24].
В Евангелии от Матфея говорится о том, что ходатаем за Иисуса стала жена Пилата Клавдия Прокула («...жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» [XXVII: 19]); здесь же описывается символический эпизод «умывания рук»: «Пилат <...> взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» [XXVII: 24]. Как и в Евангелии от Марка, Пилат предает Иисуса на распятие «в угоду народа».
Односторонними представляются суждения некоторых критиков, «оправдывающих Пилата» и (или) объясняющих его поступок
• государственной необходимостью: «Как государственный деятель, Пилат посылает Иешуа на смерть <...>. Иного выхода у него не было <...>. Так поступал Петр Великий, подписывая смертный приговор собственному сыну <...>. Интересы государства здесь стоят выше личных желаний» [490, с. 459];
• искаженными представлениями о государственных интересах: «Трусость Пилата проистекает из ложной идеи высшей ценности государства» [193, с. 58];
• практическим разумом: «На протяжении «исторической» части романа «Мастер и Маргарита» Понтий Пилат показан носителем практического разума. Нравственность в нем подавлена злым началом; в жизни прокуратора, видно, было мало добра» [454, с. 50];
• «экзистенциальной трусостью» [см. 731].
В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона читаем: «Пилат (Понтий или Понтийский) — римский прокуратор («правитель», «игемон», έπιτρόπος), управляющий Палестиной как частью римской провинции Сирии во время земной жизни Иисуса Христа. <...> Подчиняясь легату Сирии как главному военному начальнику провинции, он имел, однако, значительные полномочия по делам своей области. <...> Самнитянин в родстве с самнитскими героями того же имени (от pilus — дротик, копье). Своей высшей должности он достиг, по-видимому, далеко не чистым путем. Обычной его резиденцией была Кесария, но по большим праздникам и для важных административных дел он приезжал в Иерусалим и подолгу оставался там. Это был человек высокомерный и жестокий, с презрением относившийся к иудейскому народу. Его прокураторство было ознаменовано многими жестокостями и несправедливостями, до крайности ожесточившими против него весь народ. Величайшею его несправедливостью было его, хотя и неохотное, согласие на казнь ни в чем неповинного, по его собственному сознанию, Галилейского Учителя. Этой уступкой озлобленным врагам Христа Пилат хотел отчасти примирить их с собою и загладить пред ними прежние свои грехи; но он не достиг цели, на него был сделан в Рим донос, он лишен был должности императором Калигулой и, по преданию, лишил себя жизни (Евсевий, «Церковная история», 11, 7). По другому преданию, он отправлен был в ссылку в Галлию, где и умер. Судьба Пилата сделалась предметом разных легенд, из которых одна приводит в связь с его бедственной судьбой название одной из гор в Швейцарии, где он будто бы и доселе ежегодно появляется в великую пятницу и умывает себе руки, тщетно стараясь очистить себя от соучастия в ужасном преступлении» [690, т. XXIIIa, с. 595].
Булгаковский Пилат во многом оправдывает подобную характеристику, а его наказание воспринимается еще одной легендой о «тщетной попытке очистить себя». «Диалог между Христом и римским правителем <...>, — по замечанию Эдуарда Шюре, — ясно показывает столкновение трех больших сил: римского цезаризма, узкого иудейства и вселенской религии Духа, представляемой Христом» [687, с. 557]. Евангельский Пилат, услышав явно сфабрикованное обвинение Иисуса в том, что тот называет себя Царем Иудейским, пытается даже сыграть на этом обвинении: он взывает к народу. В Евангелии от Иоанна читаем: «И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!» [XIX: 14]; «Пилат говорит им: Царя ли вашего распну?» [XIX: 15].
Булгаков рисует Понтия Пилата, во многом опираясь на книгу Э. Ренана «Жизнь Иисуса»140. Причем отдельные детали, лишь намеченные в библейских источниках и описанные в книге Э. Ренана, получают у Булгакова художественное воплощение. Так, Библия обходит стороной вопрос об имени и происхождении римского прокуратора. В книге Э. Ренана по этому поводу читаем: «Прокуратор Понтий, по прозванию Пилат <...> (происходил — ПВ.), без сомнения, от слова pilum, почетное копье, которое было пожаловано ему или кому-либо из его предков...» [527, с. 324]. В «Мастере и Маргарите» встречаем сразу два толкования происхождения имени римского наместника, причем зачастую они совмещаются: «...это я говорю тебе — Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!» [121, т. 2, с. 353]; «Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ — бродяга, неизвестно каким образом вставший на дороге всадника с золотым копьем <...>. Помянут меня, — сейчас же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля — звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы» [121, т. 2, с. 623]; «...сын короля — звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат» [121, т. 2, с. 684].
С точки зрения Б. Соколова, «упоминание, что прокуратор был сыном короля — звездочета и мельничихи Пилы, восходит к средневековой майнцкой легенде о короле астрологе А́те и дочери мельника Пи́ле, живших в пиренейской Германии. Однажды А́т, находясь в походе, узнал по звездам, что зачатый им тотчас ребенок станет могущественным и знаменитым. Королю привели первую попавшуюся женщину — мельничиху Пи́лу. Родившийся мальчик получил имя от сложения их имен» [575, с. 382]. На германское происхождение булгаковского Понтия Пилата указывают не только майнцкая легенда, но и вероятное знакомство Булгакова с поэмой Георгия Петровского «Пилат» [см. 575, с. 382], построенной на той же версии.
Автор «Мастера и Маргариты» отталкивается, прежде всего, от двух Евангелий (от Иоанна и от Луки), причем в булгаковском романе отдельные эпизоды Евангелий разворачиваются в пространные картины и описания. Понтий Пилат после первой же встречи с Иешуа пытается сделать все для его спасения. И причиной тому является не столько желание «позлить» первосвященника, сколько ощущение мистической связи с бродячим философом: «— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо что-нибудь говорил о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил?
— Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту» [121, т. 2, с. 346]. Булгаков мастерски передает психологическое состояние героя, защищающего на этом допросе «обвинения-оправдания» не столько Иешуа, сколько самого себя. Поэтому после чтения в доносе о крамольных речах бродячего философа в голове Пилата «мысли пронеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску» [121, т. 2, с. 346]141.
Пытаясь спасти Иешуа, Пилат действует достаточно дипломатично: он приглашает Каифу и говорит, «что <...> разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор. Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри» [121, т. 2, с. 351]. Далее Булгаков мастерски разворачивает евангельскую легенду в психологический поединок: «Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри? Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил:
— Синедрион просит отпустить Вар-раввана.
Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.
Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением.
— Признаюсь, этот ответ меня удивил, — мягко заговорил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.
Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована...
В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?
Каифа прямо в глаза посмотрел Пилату и сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.
— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.
— И в третий раз мы сообщаем, что освобождаем Вар-раввана, — тихо сказал Каифа.
Все было кончено, и говорить более было не о чем» [121, т. 2, с. 351—352].
Конечно, прокуратор мог бы и не утвердить приговор, мог бы попытаться переложить ответственность на других142, но отношения с местной властью были и без того накалены, а, кроме того, обвинение в неуважении власти кесаря было чревато не только отставкой. Как пишет Э. Шюре, «этому аргументу он не мог противостоять; отрицать Бога не трудно, убивать — легко, но участвовать в заговоре против Цезаря — это величайшее из всех преступлений. Пилат был вынужден отступить и согласиться на смертный приговор» [687, с. 559].
Что же сыграло главную роль в трагедии? Зависть первосвященника и старейшин? Предусмотрительность римского наместника? Пилат вдруг отчетливо понимает, что это трусость. И чем яснее он осознает величие нищего философа, тем острее ощущает свою неизбывную вину: «Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал. Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие... пришло бессмертие...». Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке» [121, т. 2, с. 352]. И в тот же миг авторское цветовое решение подчеркивает психологическое состояние Пилата: «Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат» [121, т. 2, с. 352]. Психологическое отстранение в данном случае углубляет внутренний мир Пилата, насыщает его психологическими переживаниями. При этом субъективная эмоциональная сфера становится психологической мотивировкой достоверности изображаемого: «Темная ли кровь прилила к шее и к лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились. <...> у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец... Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали <...>. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянувший слова «Закон об оскорблении величества...» [121, т. 2, с. 346]. Рожденные страхом видения Пилата замещают в его сознании реальный мир призрачным.
По мнению Б. Гаспарова, «появление перед глазами Пилата видения — головы императора Тиберия, покрытого язвами, <...> — является отсылкой к апокрифическому сюжету, согласно которому Тиберий узнает о чудесном враче Иисусе, требует его к себе и, услышав, что Иисус казнен Пилатом, приходит в ярость, и приказывает казнить самого Пилата. В этой версии содержится очень важный для Булгакова мотив — предательство как непосредственная причина гибели, превращающая предателя в жертву и позволяющая синтезировать эти роли» [195, с. 91]. Речь идет об одном из апокрифов книги И. Порфирьева «Acta Sanctorum», где рассказывается история Вероники143 — вдовы, исцеленной Иисусом, которая затем при встрече к месту казни подает Ему свой платок. В апокрифическом Евангелии от Никодима история Вероники связывается напрямую с судьбой Понтия Пилата. Так, император Тиберий, страдающий неизлечимой болезнью, узнает что «в Иерусалиме явился врач по имени Иисус, и посылает за ним своего приближенного Волюсиана, но тому по приезде сообщают, что Пилат уже осудил Иисуса на распятие как возмутителя народа. На обратной дороге приближенный Тиберия встречает Веронику, которая рассказывает о своем чудесном исцелении и говорит, что у нее есть образ Иисуса на полотне, увидев который Тиберий тотчас исцелится». Волюсиан направляется в Рим вместе с Вероникой, и образ Христа на полотне приносит Тиберию облегчение. Кесарь гневается на Пилата, осудившего на смерть Иисуса, вызывает прокуратора в Рим, чтобы предать казни, но, узнав об этом, Пилат «сам умертвил себя <...>, и тело его было брошено в Тибр; но Тибр не принимал его; потом бросали его в другие места, пока не погрузили в один глубокий колодец, окруженный горами, где оно до сих пор находится» [517, с. 31, 33, 34].
Трагическая противоречивость образа Пилата заключается в бессилии повиноваться голосу совести. И если нищий философ, несмотря ни на что, не отрекается от праведного («Правду говорить легко и приятно» [121, т. 2, с. 346]), то могущественный правитель оказывается раздавлен своим собственным страхом. И туча, «заходящая с запада»144, поглотила Пилата и ненавидимый им город. Тщетно пытается Пилат оправдаться, приказывая зарезать Иуду («— Это сделал я... — Это, конечно, немного сделано, но все-таки это сделал я» [121, т. 2, с. 633]) и привечая Его посланцев (Узнав, что стража обнаружила Левия Матвея вместе с телом казненного Иешуа, Пилат с тревогой спрашивает: «Его пришлось схватить?», а затем: «Его прогнали?». В ответ с облегчением слышит: «Нет, прокуратор, нет...» [121, т. 2, с. 629]), возмездие неотвратимо. Обреченность и одиночество Пилата подчеркивается выразительной деталью: Афранию145, пришедшему с докладом к прокуратору, рядом с которым по обыкновению сидела его собака, внезапно почудилось, что «на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи» [121, т. 2, с. 624].
Казнь Иешуа, несмотря на натуралистичность ее описания, воспринимается как символическая искупительная жертва, за которой следует раскаяние. Сочетание желтого и черного цветов в описании казни отражает трагичность бытия, дисгармонию страшного мира146: «Мухи и слепни <...> совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся маской. В паху и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело» [121, т. 2, с. 490]. Кажется, сама природа сопереживает герою. Так, в момент казни «...по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым» [121, т. 2, с. 489]147. Точно такая же гроза обрушивается на столицу в тот миг, когда кончается земной путь Мастера и его возлюбленной. Причем эта московская гроза была уже предсказана, когда герой увидел в руках Маргариты «тревожные желтые цветы, которые отчетливо выделялись на черном весеннем пальто».
В отличие от свидетельств евангелистов, согласно которым Иисус был распят на кресте между двумя преступниками Гестасом и Дисмасом, булгаковского Иешуа распяли на крайнем кресте148, однако в структуре «Мастера и Маргариты» сохраняется евангельский триптих с центральной главой «Казнь» (глава 16). Эта глава становится точкой отражения основных сюжетных линий, но чаще всего — тех или иных мотивов, собранных в ряде глав романа149.
Одной из главных проблем, занимавших М. Булгакова во время работы над романом, была проблема писателя, которому доступна истина, отвергнутая толпой. П. Флоренский считает основой истинного познания «духовное зрение»: «Я не знаю, есть ли Истина, или ее нет. Но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее <...>. Свою судьбу, свой разум, саму душу своего искания — требование достоверности я вручаю в руки самой Истины. Ради нее я отказываюсь от доказательства» [623, с. 67—68]. В «Мастере и Маргарите» главный герой «нутром ощущает» Истину, не требуя при этом доказательств. Однако в мире, где царствуют филистерство и бездуховность, алчность и принуждение, нет места истине150, а потому Мастер, подобно своему библейскому предшественнику, оказывается не просто чужим, но чуждым этому миру.
Несколько поспешными представляются попытки отдельных литературоведов «дать оценку» Мастеру, охарактеризовать истоки его «нравственного тупика». Наиболее показательными из всего многообразия критических суждений представляются следующие:
• образ Мастера весьма условен, а его драма объясняется расплывчатостью булгаковской идеи добра [см. 365, с. 247];
• «Мастер мелок при всех своих страданиях и превратностях судьбы...» [7, с. 80];
• «Мастер слаб, безволен, пассивен» [271, с. 80];
• Мастер сломлен, подобно Пилату, и трусость заставила его отступить от истины, совершить нравственное преступление [612, с. 279—280];
• «Мастер <...> отказывается от данной ему свыше возможности стать свободным и выразить это своим творчеством» [473, с. 47];
• Мастер разменял свой талант, подобно гоголевскому Черткову [см. 584; 283];
• Мастер виновен, прежде всего, перед самим собой [см. 415, с. 131];
• Мастер является жертвой Воланда [см. 332, с. 78];
• Мастер — идеальный образ художника [см. 573, с. 81];
• судьба Мастера — общечеловеческая драма, «восходящая по своему архетипу к жизненному подвигу, к страданиям и смерти Иисуса Христа» [465, с. 160];
• «Мастер возвращает заблудшему человечеству истинные критерии добра и зла...» [692, с. 50].
Очевидно, что образ Мастера не поддается однозначному толкованию. Но что, собственно говоря, мы знаем о герое, который появляется лишь в 13-й главе романа?! Ему 38 лет (как и Булгакову в 1929 году), прежде был историком, работал в музее, некогда был женат («на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню»), затем написал роман о Понтии Пилате и даже напечатал фрагмент из него, но вдруг... сжег, подобно Гоголю151, рукопись и замкнулся в себе. В Мастере есть нечто от князя Мышкина («Идиот» Ф. Достоевского). Встреча с Маргаритой воспринимается героем как спасение, как шанс на новую жизнь. Любовь пробуждает его, побеждает страх, возрождает веру.
Как для доктора Фауста152 И. Гёте, для булгаковского Мастера не существует границ познания. Причем само «имя» «МАСТЕР» говорит о многом. Современные литературоведы справедливо указывают не только на романтическую традицию153 в создании этого персонажа («романтизм поставил в центр своей эстетики проблему творческой личности, безграничной творческой свободы, проблему мучительного разлада между эстетическим и нравственным идеалом и социальной действительностью» [573, с. 81]), но и на его связь с эзотерическим учением масонов154.
Действительно, отец Михаила Афанасьевича, А.И. Булгаков155, будучи приват-доцентом Киевской Духовной Академии, посвятил масонству специальную статью «Современное франкмасонство. (Опыт характеристики)» (1903), в которой охарактеризовал масонов достаточно негативно. С неоднозначным толкованием истории франкмасонства Булгаков мог познакомиться в словаре Брокгауза и Ефрона156. В этой связи следует признать справедливым суждение Б. Соколова о том, что Булгакову были хорошо знакомы символика и терминология, атрибутика и обряды франкмасонов, причем не только по статье отца, но и по другим источникам (например, «История сношений человека с дьяволом» М. Орлова). Вместе с тем, вызывает сомнение следующий тезис исследователя: «Значимые эпизоды «Мастера и Маргариты», связанные с такими персонажами, как Иван Бездомный, Мастер, Воланд, Коровьев-Фагот и Маргарита, подобно сцене Великого бала у сатаны, являются пародией на масонские обряды» [575, с. 282]. Если Иван Бездомный и Коровьев-Фагот (и не только они) действительно то и дело попадают в фарсовые ситуации, которые можно рассматривать как пародию на масонские обряды (например, ритуал инициации, «второго рождения»), то говорить о пародии применительно к Мастеру, Воланду и Маргарите неправомерно. С тем же успехом можно было бы охарактеризовать Мастера как пародию на Иешуа. Между тем, называя своего героя мастером, Булгаков явно отсылает своих читателей к «Книге уставов» («The Constitution of the Freemasons ets.». — Л., 1723) масонов Великой английской ложи (1717 г.), где были сформулированы правила «союза символических строителей духовного дела...» [690, т. XXXXVIa, с. 502—503]. Кстати, именно на эту особенность масонства указывает в своей статье А.И. Булгаков: «Оно (масонство — П.В.), как видно, стремится создать новую веру, утверждающуюся на вечных основах всех верований, на том всеобщем начале, которое можно найти во всякой религии, т. е. на вере в Величайшее бытие, Личное Существо, Строителя Вселенной» [цит. 575, с. 268]. По сути дела, таковым строителем булгаковского поэтического мироздания и является Мастер вместе со своим «учеником» (Бездомным), «подмастерьем» (Маргаритой) и «надзирателем» (Воландом)157. Библейская притча становится для героя ожившей истиной, справедливость которой — и в этом заключается один из булгаковских парадоксов — удостоверяет... Воланд.
После статьи литературного критика Латунского и доноса Алоизия Магарыча Мастер был арестован и принудительно водворен в клинику для душевнобольных. Как тут не утратить стойкость и веру в свои силы?! На смену им приходит все тот же страх, который парализует способность творить. Классическая тема «маленького человека» трансформируется в романе в автобиографическую по характеру тему художника (творца)158, трагизм судьбы которого проистекает не из внутренней раздвоенности, а из столкновения с жестокими обстоятельствами.
Причины, по которым Мастер отрекся от имени, от романа, от любви, остаются «за кадром», однако, учитывая мистическое прозрение героем истины, которая, увы!, за две тысячи лет ничуть не изменила нравственный облик человечества, можно представить степень его одиночества и отчаяния. Если отказ от имени в пользу Мастера свидетельствует о мистическом посвящении героя159, о его стремлении воздвигнуть «храм новой веры», то сожжение романа может быть воспринято как следствие крушения иллюзий, а отказ от любви, вынужденное, а затем и добровольное затворничество, как избрание своего крестного пути. Не потому ли Булгаков в окончательной редакции романа заметно изменяет отношение к нему Воланда?! В варианте 1936 года на вопрос Мастера «Куда ты влечешь меня, о, великий Сатана?» Воланд с некоторой долей пренебрежения отвечал: «Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Иешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют» [95, с. 76—77]. В окончательной редакции романа тональность высказывания князя тьмы совершенно иная: «— Так, значит, туда? — спросил мастер... <...> — Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами, — романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман <...>, что делать вам в подвальчике? <...> Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко, — о, трижды романтический мастер...» [121, т. 2, с. 683].
Во всех редакциях «Мастера и Маргариты» описываемые события начинаются 14 июня160. Выбор числа и месяца не случаен, поскольку продиктован историко-мифологическими параллелями161. Отсюда — необычайный летний зной, одинаково нестерпимый и в Москве, и в Ершалаиме. Во многом совпадают описания московской и ершалаимской грозы, хотя московская дается не таким высоким штилем (здесь перед читателями просто «громадный», а не «ненавидимый прокуратором» «великий город»). Цветообразы ассоциативно подчеркивают призрачность пространственно-временной границы между древним Ершалаимом и современной Москвой. Символично воспринимается сочетание красного и белого цветов. Достаточно вспомнить появление прокуратора в белом плаще в кровавым подбоем в колоннаде дворца Ирода Великого, или первую встречу бродячего философа с наместником грозного Рима (у Иешуа голова покрыта белой повязкой, а на щеке запеклась кровь). Аналогичная цветовая гамма — на балу у сатаны, когда белое тело Маргариты купают в крови, а внимание присутствующих привлекают ряды красных и белых роз162. Кстати, точно такие же розы высажены у мраморной лестницы дворца Ирода Великого в Ершалаиме. Историю и современность в «Мастере и Маргарите» разделяют 2000 лет, однако семантические параллели163 придают роману вневременное звучание. Причем «органическая связность всего романа задана, прежде всего, концепцией пространства и времени, заложенной автором и определяющей его мировоззренческую позицию» [181, с. 6].
Рассмотрением пространственно-временной структуры романа в литературоведческом аспекте занимались И. Бэлза, И. Галинская, Б. Гаспаров, В. Лакшин, Ю. Лотман, Л. Фиалкова, М. Чудакова, Е. Яблоков, Л. Яновская и др. Так, все происходящее в «Мастере и Маргарите» видится А. Нинову театрализованным представлением, тем более, что прием «театра в театре» использовался Булгаковым и ранее (в пьесах «Багровый остров», «Кабала святош (Мольер)»). А. Нинов полагает, что в «Мастере и Маргарите» Булгаков «осуществил шекспировскую идею: «Весь мир — театр» <...>. Религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятии Христа, московская «буффонада», откровеннее всего реализованная небывалым представлением в театре «Варьете» и, наконец, сверхъестественные проделки Воланда и его свиты, принимающих самое деятельное участие в судьбе Мастера и его романа, — что это, как не театр, в котором смешалось низменное и высокое, трагическое и смешное» [467, с. 36]. При этом нет оснований соглашаться с точкой зрения В. Акимова, который считает, что «герои древних глав в массе своей невменяемы. Они внутренне вне борьбы добра и зла <...>. В XX веке «невменяемых» в России больше нет» [7, с. 80]. Все то, что происходит в булгаковской Москве, уже было. Был и Мастер, был и Майгель164, и Алоизий Магарыч, были и берлиозы, стравинские, ариманы. Было все.
Гипотеза о том, что действие в «Мастере и Маргарите» организовано по законам сцены, породила одну из космогонических моделей произведения (см. Б. Целински [639, с. 330—353]), в которой этот принцип является доминирующим. В соответствии со «сценической» моделью пространство романа ограничивается двумя сценами (Ершалаим и Москва), которые, в свою очередь, проецируются по вертикали как в область «чистого света», так и в сферу «бесконечной тьмы», и на каждой из «сценических площадок» вокруг главных «действующих лиц» — множество статистов и зрителей. И хотя данная концептуальная модель во многом представляется спорной, она явно заслуживает внимания, поскольку «зеркальная симметрия»165 объединяет и укрупняет характеры.
«Сценической» версии художественной космогонии Булгакова в романе соответствует и эпизод с глобусом. Показывая «живой» глобус Маргарите, Воланд не случайно говорит о кровопролитных событиях, разворачивающихся на этой маленькой земле — «там», в то же время все происходящее в спальне мессира — «здесь». Шахматная партия Воланда с Бегемотом оборачивается трагикомической пародией на мистическую игру Судьбы в реальном мире. И в том, и в другом случае «на кону» стоит жизнь (живые шахматные фигурки — человеческие жизни).
Архитектонику булгаковского романа можно соотнести с некоторыми эзотерическими учениями. Э. Шюре в очерке эзотерических учений так описывает христианскую модель эволюции человека и человечества: «Торжественное обетование Иисуса, данное апостолам, относится к четырем сферам... круга жизни земной и космической: индивидуальной психической жизни человека; национальной жизни Израиля; земной эволюции человечества; его божественной эволюции» [687, с. 546]. И хотя художественная космогония Булгакова в целом выстроена иначе, данная модель позволяет осмыслить некоторые смысловые параллели в булгаковском тексте:
Первый круг — «Первый Суд»: «означает потустороннюю судьбу души после смерти физического тела. Она определяется сокровенной природой души и ее поступками в течение всей жизни». В булгаковском романе Пилат ожидает своей участи на лунной дороге; Мастер и Маргарита в финале обретают «вечный приют».
Второй круг «Разрушение храма и конец Израиля». В «Мастере и Маргарите» — это не только мотив крушения и «ненавидимого прокуратором» города Ершалаима, но и «преодоленная земля»166 в финале.
Третий круг — «Земная цель человечества...»: «не определена какой-либо <...> эпохой <...>. Эта цель — пришествие социального Христа, или Богочеловека, на землю, т. е. воплощение Истины, Справедливости и Любви в человеческом обществе». В «Мастере и Маргарите» происходит пересечение времен (на балу сатаны и в «пятом измерении»); цель этих пересечений — постижение истины, торжество справедливости при посредстве «настоящей, верной, вечной любви».
Четвертый круг — «Страшный Суд»: «означает конец космической эволюции человечества, или его вступление в состояние духовное. Это то, что персицкий эзотеризм называл победой Ормузда над Ариманом167, или духа над материей» [687, с. 546—547]. В «Мастере и Маргарите» переход в сферу мистической сущности после Его суда доступен лишь Мастеру и Маргарите. Они удостоились не света, но покоя (подобно Понтию Пилату). С земным судом (победой духа над материей) связаны и деяния Воланда.
В «Мастере и Маргарите» можно найти отголоски и каббалистической космогонии, согласно которой «мир порожден эманацией божества <...>. Конкретная форма, в которую воплощается божественная эманация, зависит от степени удаленности от божества. Так порождаются три мира; ближе всего к божественному источнику располагается мир творения, или область творческих идей и чистых духов (в «Мастере и Маргарите» — последний «вечный приют», который обретают герои в финале романа — П.В.), далее — мир создания, или область душ (в «Мастере и Маргарите» — «серединный мир» гостей Воланда на балу, лунная дорога с безмолвной фигурой — П.В.), и наиболее удаленный — мир делания, или сфера материальных явлений (в «Мастере и Маргарите» — «грешный мир» Москвы и Ершалаима, где разворачиваются основные события романа — П.В.). Человек принадлежит одновременно всем трем мирам <...>. Интересна каббалистическая идея солнечного ангела168 Митатрола <...>, высшего посредника между богом и вселенной» [см. 538, с. 223]. В булгаковском романе Воланд выступает отнюдь не солнечным ангелом, однако вполне справляется с миссией посредника.
В духе подобной мистической философии может быть рассмотрено замечание Л. Ионина о том, что булгаковская космогоническая концепция перекликается с концепцией «третьего мира» К. Поппера, в котором господствуют идеи, где каждая теория и гипотеза истинны. Именно в этом мире, по предположению Л. Ионина, пребывает Воланд [293, с. 53].
Подавляющее количество булгаковедов говорят о «трехмирной» структуре романа, хотя представление о ней у всех разное. Вместе с тем, пространственно-временную организацию булгаковских произведений можно рассматривать только с учетом их аксиологической составляющей. Именно в этом ключе рассуждает И. Галинская, которая пытается соотнести художественную космогонию Булгакова с «теорией трех миров» и этической концепцией «внутреннего» и «внешнего» человека украинского философа Г. Сковороды. По мнению И. Галинской, в «Мастере и Маргарите» представлены три мира: «земной, библейский и космический». «Первый в романе представляют люди. Второй — библейские персонажи. Третий — Воланд со своими спутниками» [190, с. 120]169. В то же время в трактате «Потом змиин» Г. Сковорода приводит несколько иную версию: весь мир для него состоит из трех «миров»: большого (космоса) — природы, малого (микрокосмоса) — человека, символического — Библии. Космогонические представления И. Галинской, к сожалению, опираются на различные основания: «земной» и «библейский» миры в «Мастере и Маргарите» разделяет время, тогда как «космический» мир представляет собой пространство. Справедливее было бы выстроить иную модель художественного мира на единых основаниях, учитывая взаимодействие земного (современного), библейского (древнего) и инфернального (вневременного) миров. При этом «космический мир», являясь одной из эманаций инфернального, предстает структурной составляющей в аксиологической модели художественного мироздания М. Булгакова.
Заслуживает внимания и точка зрения И. Галинской на этические грани булгаковского произведения, которые она тоже связывает с влиянием Г. Сковороды. Действительно, немало трудов украинского философа посвящено своеобразным рецептам счастья, нравственным аспектам человеческой натуры170; однако о наличии двух противоборствующих начал в человеческой природе, из которой внутреннее, сокровенное является истинным, уже писали восточные отцы и учителя церкви, в частности, Климент Александрийский и Ориген, под влиянием философии которых находились и Г. Сковорода, и Вл. Соловьев, и...
Критикуя И. Галинскую за попытку подверстать философско-этические воззрения Г. Сковороды под концепцию мироздания булгаковского романа, П. Абрагам предлагает свое видение истоков булгаковской космогонии. По мнению исследователя, «образцом для писателя» послужили идеи П. Флоренского [2, с. 129]: «С точки зрения христианской философии, в вечности зло не существует, из-за этого ад (т. е. царство Воланда) должен быть помещен между временем и вечностью. Ад определяется, например, как «застывшее теперь» (П. Флоренский) или «застывшее прошлое» (Е. Трубецкой). В космологии, предложенной в «Мнимостях геометрии», этой сфере бытия отвечает граница Земли и неба, где тело утрачивает свою протяженность, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость, так как его время, наблюдаемое со стороны, становится бесконечным. <...> Если чистилище и ад Воланда находятся на границе Земли и Неба, то в его царстве время должно останавливаться» [1, с. 96]. В целом с подобной трактовкой можно было бы согласиться, если бы она учитывала аксиологический аспект эстетических построений М. Булгакова. Спорной в этой связи представляется гипотеза П. Абрагама о том, что «московское пространство» (пространство Земли) включено в «движение вечности» (Иерусалим, Небо) [см. 1, с. 144]. Соотношение Земли и неба (временного и вечного) в данном случае не вызывает сомнений, но если говорить об этической значимости московских и ершалаимских сцен, то не само их пространство, а лишь отдельные герои, населяющие его, обрели вечность.
К художественной реализации философских идей П. Флоренского относит трехмирную структуру булгаковского романа Е. Ухова, выделяя при этом «древний ершалаимский мир, вечный потусторонний, и современный московский», при этом «царства истины и справедливости, о которых говорит Иешуа, ни в одном из этих миров не существует» [см. 613, с. 49]. Последнее заключение явно противоречит «оптимистической эсхатологии» финала «Мастера и Маргариты».
А. Кораблев полагает, что на Булгакова оказала влияние «Тайная доктрина» Е. Блаватской, согласно которой человек на протяжении своей жизни пребывает в трех мирах: в обычном физическом (мир видимый, с прямой перспективой), в астральном (мир сновидений, с обратной перспективой), в ментальном (мир мысли, без физической оболочки). Высказывая интересную гипотезу, А. Кораблев, к сожалению, несколько поспешно соотносит сцены «московской жизни» с «миром физическим», фантастические события — с «миром астральным», а исторические эпизоды — с «ментальным миром» [см. 347, с. 18].
Б. Соколов рассматривает пространственно-временную структуру романа как бы в трех плоскостях: ершалаимский мир, где события разворачивается неторопливо, размеренно и в соответствии с канонами классической трагедии — сутки; московский мир, происходящее в котором размыто, фрагментарно и охватывает четыре неполных дня; мир потусторонний, время действия которого «фактически останавливается» и замыкается полуночным балом у Сатаны. Эту логическую схему, к сожалению, нарушают и Понтий Пилат, ожидающий прощения на лунной дороге, и Левий Матвей, посланный Им, и безумная скачка разгоряченных коней в финале романа, и, наконец, обретенный героями «вечный приют».
Таким образом, большинство исследователей закономерно приходят к мысли о наличии именно трех миров в художественной космогонии «Мастера и Маргариты». Едва ли эзотерическое значение числа «три» восходит только к учению П. Флоренского о «троичном числе»: о триединстве добра, истины и красоты говорили философы древности. С принципом триад мы встречается в работах И. Канта и Г. Гегеля, на этом принципе базируется теория Всеединства русской религиозной философии. Однако именно П. Флоренский сформулировал связь между триединым Абсолютом и понятием Истины (а ведь именно к Истине стремятся и Воланд, и Мастер, и Бездомный). По мысли П. Флоренского, «число три, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, свойственно всему тому, что обладает относительной самодостаточностью, — присуще заключенным в себя видам бытия» [623, с. 59]. При этом, «Истина есть единая сущность в трех ипостасях <...>. Я говорю о числе «три» как имманентном Истине, как внутренне неотделимом от нее. <...> Только в единстве трех каждая ипостась получает абсолютное утверждение, устанавливающее ее как таковую. Вне трех нет ни одной, нет Субъекта Истины» [623, с. 49—50].
По замечанию Б. Соколова, «для Булгакова троичность также оказывается соответствующей Истине, на ней не только основана пространственно-временная структура романа, но держится ее этическая концепция» [573, с. 130]. Следовало бы несколько уточнить: именно этическая концепция определяет пространственно-временную структуру произведения (меж двумя «безднами» — Земля).
Рассматривая структуру «Мастера и Маргариты», М. Йованович на случайно отмечает близость М. Булгакову кантовской концепции «идеального пространства и времени». Булгаковский хронотоп в романе построен по принципу поэтапного постижения истины. Для непосвященных она предстает «вещью в себе». Автор оценивает персонажей в зависимости от их способности постигать истину; при этом устанавливается некая градационная пирамида, в основании которой те, кто мечется, уповая на мнимую эрудицию; за ними следуют ищущие, осознавшие ограниченность своего опыта и знания; затем — те, кто на уровне сверхчувственной интуиции «угадал» истину; и, наконец, — Творцы этой непознаваемой Истины.
«Мастер и Маргарита» по праву считается вершинным романом Михаила Булгакова. Именно в этом произведении, нарушая привычные представления о материи и трехмерном пространстве, сложившиеся бытовые стереотипы восприятия реальности, писатель созидает новую реальность, свою художественную модель мироздания, которая определяется авторской системой ценностей. Схематически её можно представить следующим образом:
Покой и вечность
Структура «художественной вселенной» «Мастера и Маргариты» является отражением ценностных представлений автора о добре и зле, о вечной истине и сиюминутной правде, о подлинной и мнимой красоте. Роль каждого из участников «человеческой комедии» (или трагедии?!) определяется авторской оценкой его личности. Но высшей, абсолютной ценностью для Булгакова, «связующим пунктом двух миров — аксиологического и онтологического — является человек...» [цит. 519, с. 203] со всеми его плюсами и минусами, достоинствами и недостатками. Очевидно, поэтому Воланд задумчиво произносит: «— Ну что же, <...> они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...» [121, т. 2, с. 438].
Связующим звеном, объединяющим весь пространственно-временной континуум романа, выступает Воланд со своей свитой. Существуя как во, так и вне времени, свободно путешествуя по измерениям171, он словно демонстрирует этическую концепцию мироздания, где на одном полюсе СВЕТ (инобытие Иешуа), рядом с которым ПОКОИ и ВЕЧНОСТЬ («вечный приют» Мастера и Маргариты), а на другом — ТЬМА (бездна, куда устремляются в финале романа Воланд и его свита), тоже окруженная ПОКОЕМ и ВЕЧНОСТЬЮ (последнее пристанище Понтия Пилата). ЗЕМЛЯ же, «омываемая» НЕБЫТИЕМ (постоянное местонахождение «гостей» воландовского бала, «лунная дорога» Пилата), находится «посередине», но именно здесь сталкиваются СВЕТ и ТЬМА, добро и зло, бытие и небытие.
Воланд в романе играет роль посредника между Светом и Тьмой в человеческих судьбах («...не мир пришел Я принести, но меч...» [Матф., X: 34]), между Истиной (история Иисуса — Иешуа) и теми, кому она доступна («все угадавший» Мастер). С некоторыми оговорками172 можно принять точку зрения В. Лакшина, который считает, что «в прекрасной и человечной исповеди Иешуа не нашлось места для наказания зла, для идеи возмездия. Булгакову трудно с этим примириться, и оттого ему так нужен Воланд, изъятый из привычной ему стихии разрушения и зла и как бы получивший взамен от сил добра в свои руки меч карающий. Воланд словно чувствует над собой власть Иешуа и, подчиняясь ей, переносит в ближайшую реальность закон справедливости» [370, с. 325]. Булгаков и не стремится к финальному решению проблемы добра и зла. Подобно Данте и Гёте, Мильтону и Байрону, писатель создает художественную вселенную, построенную на антиномии этих аксиологических категорий; и в этом космогоническая архитектоника «Мастера и Маргариты» не противоречит христианским постулатам. Внешне парадоксально выглядит параллель между Воландом и Иешуа, однако у них есть общая истина173, как и способы воздействия на окружающих174, да и аксиологические подходы175 у них одни.
Мир бытия зеркально (с точностью до наоборот) отражается в небытии176 с той лишь разницей, что категория времени имеет значение лишь на ЗЕМЛЕ. Отдельные текстуальные фрагменты из «другого пространства и времени» в некоторых главах романа демонстрируют прорыв пространственно-временного континуума, позволяющий Булгакову реализовать идею взаимоперехода реального в ирреальное, мнимого в действительное: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город <...>. Да, тьма <...>. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом <...>. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город» [121, т. 2, с. 602], — заканчивается 24-я глава, следующая, 25-я, словно вырастает из предыдущей. «Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете...», — звучит финал 29-й главы; и тут же начинается 30-я: «— Ты знаешь, — говорила Маргарита, — как раз когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря...» [121, т. 2, с. 665]. Едва ли можно согласиться с И. Галинской, которая пытается соотнести эту особенность булгаковской поэтики (принцип «захвата» последних слов предыдущей главы и повтор их в начале последующей: главы 1—2, 15—16, 18—19; прием «повтора в захвате»: главы 2—3, 24—25, 25—26, 26—27) с поэтикой средневековых трубадуров [см. 190, с. 158], поскольку теми же «особенностями» обладает русский национальный фольклор.
Место и время действия в романе обозначают пространственно-временные координаты булгаковской модели мира177, благодаря чему можно выявить некоторые закономерности аксиологической космогонии автора:
1) художественное пространство романа охватывает «небо» и «землю», но более значимую оценочную роль играет «небо» (к небу обращены взоры героев, там решаются их судьба);
2) художественное время в произведении смещено в область темного времени суток178 (символизирует не только присутствие инфернальных сил, но и земных сугубо человеческих пороков), однако между ночными («луна», «звезды») и дневными («солнце») светилами складывается равновесие179.
Двадцатый век остро поставил проблему осмысления социальных катаклизмов с точки зрения вневременных нравственно-философских категорий (добра и зла, света и тьмы, гуманизма и жестокости). Опираясь на мифологическую и фольклорную традицию, Булгаков вписывает в систему ценностных ориентиров символику явлений природы. Так, согласно христианской традиции «свет» — атрибут святости. С ним ассоциируются такие ценностные категории, как ДОБРО, ВЕРА, ЛЮБОВЬ. Поэтому закат, время угасания энергии солнца, воспринимается в романе как момент, когда жизнь человека легче всего оборвать. На закате умирает Иешуа, на закате прокуратор дает приказание убить Иуду, на закате Азазелло отравляет Мастера и Маргариту.
«Темнота» в булгаковской книге символизирует отсутствие истины, и если герои блуждают в потемках, то это свидетельствует об их неведении или заблуждениях180. В день казни Иешуа противопоставление света и тени, разделяет героев на тех, кто несет свой крест до конца, и тех, кто пытается укрыться в тени, уйти от моральной ответственности за содеянное. Не случайно во время допроса Иешуа Понтий Пилат, находясь в затемненной комнате, пытается заслониться от солнца рукой. Отчасти это объясняется «нестерпимой жарой». Однако Булгаков дает и иное объяснение: «Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, <...> возводят на помост» [121, т. 2, с. 355—356].
Иешуа на допросе тоже сторонится солнечного луча, вероятно, предвидя свою мучительную смерть под палящими лучами солнца. В этом случае «свет» — источник жизни — превращается в свою противоположность. С другой стороны, «света» отнюдь не чужд князь тьмы181.
«Луна»182 и «лунный свет» в книге Булгакова символизируют истину. В лунном свете исчезают обманы, как ложь при свете истины. Луна является своего рода индикатором, который помогает выявить сущность героев, их отношение к вечным истинам. Стремление спрятаться от лунного света, исчезновение луны из поля зрения после определенных слов или поступков героя указывает на то, что автор считает его действия ошибочными, противоречащими истине. Напротив, чувства и мысли, возникающие у персонажа, когда он смотрит на луну, события, во время которых она появляется, по мысли автора, приближают героя к постижению истины. Изображение сцен и картин, залитых лунным светом, свидетельствует не только о достоверности, истинности описываемого, но и о ключевом значении данных сцен для понимании авторского замысла. Луна является традиционным атрибутом, сопутствующим появлению нечистой силы. Так, гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» озарены светом месяца, который и вовсе оказывается украден чёртом в «Ночь перед Рождеством». В «Мастере и Маргарите» образ луны обретает всеобъемлющее значение, поскольку не только сопровождает мистические действа (сцены шабаша ведьм, полета Маргариты, необычайное происшествие с Римским), но и раскрывает внутреннее состояние героев (Мастера, Ивана Бездомного), предопределяет их судьбы (Берлиоз, Пилат).
Ситуативно обусловленные лейтмотивы — явления природы нередко выступают в романе в виде некоего комплекса природных метаморфоз-катаклизмов. Так, трижды в тексте последовательно повторяется одна и та же картина: «жара», «духота» являются предвестником «тучи», которая в свою очередь порождает «тьму», а затем — «холод» и «грозу».
Лейтмотив грозы подчеркивает авторскую мысль о господстве нравственного закона, нарушение которого вызывает дисгармонию в мире, частью которого является человек. «Жара» и «холод» свидетельствуют о концентрации на Земле критической массы Зла, зримым воплощением которой является «туча». «Тьма» символизирует силы Хаоса, угрожающие мировой гармонии. «Гроза» — процесс нейтрализации Зла; окончание «грозы» и появление «радуги» — победа доброго начала.
Недостаточно аргументированной представляется позиция Н. Новиковой, согласно которой «Булгаков создает образ мира, воплощающего победу зла» [473, с. 42]. Подобно Вл. Соловьеву и немецким романтикам, М. Булгаков помнит об ограниченности земного человеческого бытия («человек смертен»), однако бессмертной оказывается другая ипостась существования — духовная. Очевидно поэтому британская исследовательница Л. Милн воспринимает финал романа оптимистически как «духовную победу над материальным миром» [см. 726, р. ЗЗ].
«Истинному бытию, или всеединой идее, противополагается в нашем мире вещественное бытие — то самое, что подавляет своим бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает осуществиться ее смыслу» [577, с. 51], — пишет Вл. Соловьев в статье «Смысл любви». От этого «вещественного» бездуховного, «бессмысленного» бытия и пытается укрыться в клинике Мастер. Однако ищущему Истину невозможно укрыться «в своей пылинке». Тем более, что «стать художником, — по замечанию Ф. Шлегеля, — значит посвятить себя подземным божествам. Лишь вдохновение гибели открывает смысл божественного творения. Лишь в средоточии смерти возжигается молния вечной жизни» [682, т. 1, с. 363].
Каждый в «Мастере и Маргарите» получает «по вере его»: Берлиоз (неверие в иное бытие) — небытие; Пилат (вера в «неслыханную славу») — Лунную дорогу; Мастер (неверие в реальный мир) — смерть, бессмертие и покой; Маргарита (вера в Мастера) — разделяет участь того, кого любит; Левий Матвей (вера в сына Божьего) — Царство Божие. Едва ли можно принять точку зрение А. Кораблева о том, что «насилие сблизило жестокого игемона и жестокого «ученика» (Левия Матвея — П.В.) [347, с. 18], поскольку в этом случае пришлось бы сравнивать их и с Маргаритой, учиняющей погром в квартире московского литератора, и со свитой Воланда, чьи «похождения» отнюдь не безобидны. А решающий аргумент в этом случае — воля автора, который в конечном счете даровал Левию Матвею СВЕТ, Пилату — НЕБЫТИЕ, Маргарите — СЧАСТЬЕ, а свита Воланда погружается во ТЬМУ. Строгая предопределенность судеб героев, связь добра и зла в решении нравственных проблем, представление об искусстве как о «художественной религии», ориентированной на постижение мира, — все это, безусловно, перекликается с положениями гегелевской «Науки логики» и «Феноменологии духа»183. Вместе с тем, в подходе к решению нравственных проблем М. Булгаков, скорее, ориентируется на русскую философско-религиозную традицию, в основе которой идеи христианского прощения и софийного преображения.
Через весь роман проходит мотив бессмертия и покоя. Во время казни Иешуа верный Левий Матвей начертал на пергаменте: «Солнце склоняется, а смерти нет» [121, т. 2, с. 486], и это высказывание из конкретного («Бог! За что ты гневаешься на него? Пошли ему смерть») обретает символический смысл, когда Пилат, склоняясь к тому же самому пергаменту, пытается разобрать написанное: «Кое-что Пилат прочел: «Смерти нет...»... Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: «Мы увидим чистую реку воды жизни... Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...». Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «...большего порока... трусость» [121, т. 2, с. 341]. В этих словах не только пророчество воскрешения, но страшный диагноз и однозначный приговор. Вопреки, а возможно, и благодаря людской жестокости «рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины» [121, т. 2, с. 631—632], через призму которой «человечество будет смотреть на солнце».
Мотив бессмертия как наказания звучал уже в «Беге»184; в «Мастере и Маргарите» в связи с сюжетной линией Пилата этот мотив обретает нравственно-философскую направленность: страшна не смерть, а та память, которая остается потомкам. В финале книги идея нравственного суда доводится до абсолюта: две тысячи лет, двенадцать тысяч лун, не зная покоя, в одиночестве на лунной дороге сидит пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат185. Две тысячи лет он «более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что <...> охотно бы поменялся своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем» [121, т. 2, с. 682]186. Размышляя о смысле жизни, Е. Трубецкой подходит вплотную к описанию того состояния, в котором пребывает Понтий Пилат, оказавшись между мирами: «...ад противополагается вечной жизни не как другая жизнь, а как «вторая» смерть <...>. Вечные муки есть не что иное, как увековеченный миг окончательного разрыва с жизнью. <...> Очевидно, страдание «второй смерти» не может быть ни длящимся переживанием во времени, ибо время для умершего этой смертью навсегда остановилось, ни состоянием вечной жизни, ибо от вечной жизни это существо навсегда отрешилось. Это страдание для переживающего его существа, как сказано, может заполнить только единый миг — тот миг, которым для него заканчивается время. Но в этот миг духовный облик существа, его переживающего, утверждается на веки вечные... <...>. Стало быть в данном случае «миг» совпадает с вечностью...» (С. Трубецкой [605, с. 94—98]). Только великодушие Маргариты187, христианское всепрощение188 и гений Мастера, поставившего точку и в своем романе, и в одной из трагических страниц человеческой истории189, позволили Пилату обрести свободу и долгожданный покой.
«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии» [81, т. 6, с. 167], — писал А. Блок. Трудно принять точку зрения Б. Гаспарова, который полагает, что пребывание Мастера в «вечном приюте», а не в «доме» означает множество совершенных им ошибок и, скорее, является наказанием. Это мнение, к сожалению, разделяет В. Покровский, считающий обретенный Мастером покой наказанием за легковерность (поверил свидетельству сатаны) и «неспособность воспринять благодать» [см. 513]. Противоположных взглядов придерживается Б. Соколов, акцентируя внимание на том, что «покой» в русской литературной традиции представляется неоспоримой ценностью. Анализ булгаковского творчества убеждает в том, что понятие «ПОКОЙ», действительно, воспринимается автором в качестве одной из главных нравственных ценностей, поскольку означает внешнюю (Ефросимов) и внутреннюю (Хлудов) гармонию личности. Поэтому отчасти можно разделить точку зрения Е. Миллиор, которая считает финал «Мастера и Маргариты» закономерным завершением «пасхальной мистерии» [415], где «художник — демиург» разрушил проклятье прощением. «...Покойся, кто свой кончил бег!..» [267, с. 42] — эти слова Жуковского могли бы стать эпиграфом не только к «Бегу», но и к роману «Мастер и Маргарита», где острота проблемы вины, компромисса с собственной совестью и нравственной расплаты достигает своего апогея.
Вряд ли можно согласиться с точкой зрения Б. Гаспарова, который полагает, что у Булгакова в 30-е годы «чувство личной вины за какие-то конкретные поступки, растворившись в творчестве, заменилось более общим чувством вины художника, совершившего сделку с сатаной» [194]. Причина несогласия кроется в самом характере булгаковской нечистой силы, которая не только вершит правый суд, но и помогает Мастеру и его возлюбленной обрести покой в последнем «вечном приюте». В отличие от традиционного образа сатаны190, булгаковский Воланд становится опорой справедливости, хотя его представления о добре и зле выходят за привычные рамки; потому и поступки его едва ли можно рассматривать с точки зрения обыденных представлений. Покой, уготованный Мастеру, воспринимается как единственно возможное завершение его судьбы. Между Иешуа и Мастером, несмотря на ассоциативный параллелизм, есть существенное отличие: первый выходит навстречу жестокой судьбе, второй пытается замкнуться в себе: «— Откуда вы сейчас? — Из дома скорби. Я — душевнобольной <...>. Зачем потревожили меня? О боги, боги...» [121, т. 2, с. 590, 592]. Мастер не заслужил света. И причина этого не в том, что он искал «помощи у сатаны и этим сам связал свою дальнейшую судьбу с дьявольской силой» [720, с. 506], и не в том, что Воланд «в игре за душу мастера <...> может считать себя победителем» [352, с. 68], а в том, что не сумел выстоять под жестокими ударами судьбы191.
Особую роль в этической системе романа играет любовь Маргариты, любовь, которая являет собой «торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное» (Вл. Соловьев [577, с. 40]). Именно любовь, милосердная и жертвенная, способная и на отчаянные безумства, и на подвиг служения, такая любовь заслуживает бессмертия. Любовь Маргариты не только преображает Мастера, даря ему творческие силы и долгожданный покой, она становится залогом гармонии мира, основой его софийного преображения. И уж совсем нелепо в этой связи выглядят «приземленные» суждения критиков, типа: «...отсутствие близкой женщины, могущей поддержать в трудную минуту, сближает трех героев — Воланда, Иешуа и Пилата, в то же время отдаляя их от мастера и профессора Понырева» [161, с. 118].
Уже в первых редакциях романа Булгаков предполагал перерождение Ивана Бездомного. Встреча с нечистой силой и с Мастером открывает для него этот путь. Недалекий от природы, бесприютный (сама фамилия свидетельствует об этом192), он был плохим учеником. Но отсутствие таланта возместили ему живая душа и беспокойная совесть. В финале книги горе — литератор не просто преображается в Ивана Николаевича Понырева, профессора, сотрудника института истории и философии; он не может забыть тех четырех памятных дней, вместивших всю его боль и все надежды; он не может не думать о пятом прокураторе и бродячем философе; и каждый год в весеннее полнолуние появляется он на Патриарших, садится на памятную скамеечку и разговаривает сам с собою, и мучается, зная, что никакое здравомыслие не поможет ему избавится от воспоминаний о Мастере.
В критике нет единого мнения о том, как следует рассматривать легенду о Понтии Пилате. Одни литературоведы считают её «евангелием от Булгакова» (А. Зеркалов [279]), другие — «евангелием от Воланда» (А. Романычев [533]). Б. Соколов именует эту легенду то «новым евангелием» [573, с. 81], то «евангелием от Воланда» [573, с. 86]. Ответ на этот вопрос определяет смысловые акценты в понимании произведения. Роман Мастера («роман в романе») стал пятым апокрифическим Евангелием: «Он прочитал сочинение мастера...» [121, т. 2, с. 662], Мастера, а не Воланда, как полагают некоторые критики193. Однако авторские мистификации на этом не кончаются: роман Булгакова, описывающий судьбы самого Мастера и Маргариты, Воланда и Ивана Бездомного, удивительным образом перекликающийся с этим «пятым» Евангелием, составляет Евангелие шестое («Евангелие от Ивана»194), сохранившееся разве что в болезненном воображении Ивана Николаевича Понырева. Таким образом, неудавшийся поэт Иван Бездомный в финале романе оказывается не только профессором института истории и философии, но и выступает в двух символических ипостасях (Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова).
В литературоведении бытует мнение о незавершенности трех (из четырех) романов Булгакова: «Белой гвардии» (К. Симонов), «Записок покойника» (К. Симонов, М. Чудакова), «Мастера и Маргариты» (М. Чудакова, И. Бэлза). Однако с учетом логики «апокрифических евангелий» более убедительной представляется точка зрения В. Немцева, который полагает эту незавершенность для автора принципиальной. Та же «незавершенность», «недосказанность», «разомкнутость», ставящая читателей перед «мучительными раздумьями», характеризует «Героя нашего времени» и «Горе от ума», «Братьев Карамазовых» и «Мертвые души», «Медного всадника» и «Евгения Онегина» [см. 454, с. 15—16].
Возможно, что в процессе написания «Мастера и Маргариты» на М. Булгакова оказала влияние идея Вл. Соловьева о пришествии нового Мессии, хотя образ его (Воланд) нарочито полемичен. Впрочем, «пришествие» это не только служит теодицее, но и загадочным образом воскрешает идею Софии (греч. Sophia — мастерство, знание, мудрость), развиваемую в трудах Вл. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского.
В финале романа по законам сцены автор прощается с героями и зрителями. Лирически возвышенная 32 глава195 ставит точку в истории Понтия Пилата и многоточие в «новом Евангелии». В ночь полнолуния тают призраки прошлого и совершает свой последний полет преображенная свита Воланда: «...все обманы исчезли <...>. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом <...>. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном — пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. <...> Азазелло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон — убийца <...>. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд» [121, т. 2, с. 680].
В эту ночь для героев останавливается время, а все происходящее обретает монументально-обобщенное символическое звучание. И даже очертания «вечного приюта» воспринимаются уже не как некий недостижимый идеал196: «о, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте! Мне пора» [121, т. 2, с. 683]. Вот оно разрешение «трагического противоречия между бесконечностью человеческого духа и конечностью земной природы человека...» [165, с. 373]. Что же касается самого Булгакова, то на долю его выпала бессмертная благодарная память потомков. И хотя его произведения не сразу вошли в историю литературы, судьба подтвердила: «рукописи не горят».
* * *
«Мастер и Маргарита» по праву считается средоточием нравственных и философских воззрений М. Булгакова, где не только реализуются основные творческие находки писателя, но и получает законченное художественное воплощение его этико-эстетическая концепция мира. В «закатном романе» находят место реальные и вымышленные лица и события, соотносятся прошлое и настоящее, обыденное и мистическое, нарочито приземленное и космически вселенское. Возникающие при этом интертекстуальные связи не только специфически окрашивают конкретные ситуации, но и расширяют семантическое поле рассматриваемых проблем, придают им вневременной характер. При этом отдельные произведения Булгакова являются своего рода модулями единой художественной вселенной автора.
Так, на протяжении творческого пути в различных жанрах Булгаков постоянно обращался к вечной, но глубоко выстраданной проблеме: «личность и тараническая власть». В поисках разгадки рокового противостояния, с одной стороны, и истоков бессмертия подлинного гения, — с другой, художник обращается к нравственному опыту великих писателей прошлых эпох (Мольер, Пушкин). Именно здесь формируется для Булгакова высшая онтологическая ценность, над которой не властно время, — ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО. Именно здесь намечаются не только штрихи к портрету «триждывеликого», но «бедного и окровавленного мастера», но и контуры его извечной трагедии («творец» — «предатель» — «человек, умывающий руки»).
Размышления Булгакова о судьбе писателя-современника («Тайному другу», «Записки покойника») могут быть восприняты и как раздумья автора о превратностях собственной судьбы, и как творческие наброски конфликтного поля будущего «закатного романа». Если в самоубийстве Короткова («Дьяволиада») проявляется его протест против бездушного мира бюрократиады и стремление к внутренней свободе, то смерть Максудова («Записки покойника») — это не только следствие невозможности обрести свободу творческую, но и предтеча «ухода» Мастера («Мастер и Маргарита») в «вечный приют», и утверждение подлинных универсальных ценностей.
Булгаковские герои живут в мире, где грань между обыденным и мистическим настолько зыбкая, что их сознание то и дело переступает её. И тогда инфернальное входит в привычную жизнь, создавая двойную реальность.
Гротескный реализм Булгакова опирается на антиномичную пару «вероятно — невероятно», при этом фантастическое и невозможное, вызывающее на первых порах удивление, изумление и оторопь197, впоследствии воспринимается как обыденное, тем более, что, будучи невероятным по форме, оно с должной степенью вероятности отражает суть реальности, балансирующей на грани нереального. Эта реальность и порождает узколобых невежественных бюрократов (от Портупеи, Саввы Лукича, Бунши-Корецкого до Никанора Ивановича Босого) и всевозможных проходимцев и приспособленцев (от Колобкова, Аметистова, Дымогацкого до Поплавского). Автор судит этих героев, противопоставляя им цельные и возвышенные натуры, утверждая непреходящую ценность ИСТИНЫ и ВЕРЫ, СЛУЖЕНИЯ и ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ.
Тема нравственного суда в Мастере и Маргарите» раскрывается в духе гностической трактовки198 библейских и историко-литературных мотивов199, воспринятой через призму русской религиозно-философской мысли. Вероятно, поэтому Г. Круговой, считающий основой произведения борьбу добра и зла в космическом масштабе, относит роман «Мастер и Маргарита» к гностическим романам «тайного знания» [352, с. 47—81]. И если появление Мефистофеля в трагедии Гёте испытывало философские истины, то у Булгакова художественное воплощение нравственных полюсов добра и зла в «Мастере и Маргарите» высвечивает и ценностные ориентиры автора, и его представления о современном мире.
Верность истине, добру и красоте, способность творить, любить и сострадать определяют систему координат в художественной аксиологии Михаила Булгакова. Нравственный закон становится для него критерием оценки своих героев и позволяет создать собственную этическую типологию характеров, центральное место в которой занимают вечные образы, как бы они ни назывались (Максудов, Ефросимов, Мольер, Пушкин, Мастер, Иешуа; Ева, Маргарита; Битков, Муаррон, Алоизий Магарыч, Майгель, Иуда; Хлудов, Пилат; Левий Матвей, Иван Бездомный; Аметистов, Кири-Куки, Пончик-Непобеда и т. д.). Авторское отношение делит персонажей на настоящих и призрачных, на тех, кто в силу своих деяний (добрых или злых) останется в памяти людской, и тех, кто бесследно канет в небытие200. Воистину, «каждому воздается по вере его». С этой верой жил и умирал Булгаков.
Примечания
1. Неестественный фиолетовый цвет придает картине мрачный колорит, а некто в сером, при одном взгляде на которого все бледнеют, вызывает ассоциацию с дьяволом, однако барышням это нипочем, они — порождение «дьявольского» мира.
2. «— Подотдел искусств откроем! — Это... что такое? — Что? — Да вот... подудел? — Ах, нет. Под-от-дел! — Под? — Угу! — Почему под? — А это... Видишь ли, <...> есть отнаробраз, или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?! ... — Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет... — Мы откроем... Искусств? — Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото, Тео. — Не по-ни-маю» [121, т. 1, с. 117].
3. «Стоит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Изо. Лито. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами и скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфорой: третий приступ!..» [121, т. 1, с. 118].
4. Погоня за Кальсонером («Дьяволиада»), пропавшее «Бюро» («Записки покойника»), поиски неуловимого иностранного профессора («Мастер и Маргарита»).
5. В главе «История с великими писателями» речь идет о близких автору Чехове и Пушкине, о гоголевских героях (Ноздрев). Впоследствии Чехов, Гоголь и Пушкин неоднократно «встречаются» в булгаковском творчестве (то как упоминания, то в виде аллюзий и реминисценций, то на уровне освоения традиций). Выступая на диспуте о Пушкине, который состоялся в начале июня 1920 года во Владикавказе, Булгаков сказал: «На всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, отвращения к убийству, насилию, лишению жизни человека человеком» [115, с. 226].
6. В главе «Сквозной ветер» описываются некоторые характерные эпизоды судеб булгаковских собратьев по литературному цеху в смутное время (Рюрик Ивнев, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Александр Серафимович).
7. Об этом подробнее в работе М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова».
8. «Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты... Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что!.. А я пропаду, как червяк... Господи! Дай так, чтобы этот дебошир умер!.. Ведь этот кретин подведет меня под арест!..» [121, т. 1, с. 121, 126].
9. В действительности, в «Записках...» речь идет о владикавказском периоде жизни и творчества Булгакова.
10. В обоих случаях речь идет о некоей рукописи героя, находящегося на грани жизни и смерти; в обоих случаях эта рукопись адресована тайному другу; и там и здесь — исповедальные интонации, мотив катастрофы, фаустовские мотивы, инфернальные образы, связанные с миром искусства.
11. Перифраз из седьмой главы пушкинского «Евгения Онегина»: «Но там, где Мельпомены бурной / Протяжный раздается вой, / Где машет мантией мишурной / Она пред хладною толпой...» [522, т. 2, с. 312].
12. Имеются в виду перекликающиеся с романом «Белая гвардия» страшные сны (гл. III — «Неврастения»): «...приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз, и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром. И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью <...>, и я во сне крикнул, заплакав: — Не смей, каналья! — И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул: — Тримай його!» <...> Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество <...>. В громадной квартире было тепло <...>. От пианино отделился мой младший брат. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря на то, что грудь его была прострелена и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться. <...> На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир «Фауста», он был раскрыт на той странице, где Валентин поет. <...> Во всяком случае, черный пластырь, смех во сне, Валентин означать могли только одно — мой брат, которого в последний раз я видел в первых числах 1919 года, убит. <...> Когда я заснул, мне приснились юнкера 18-го года. Они шли валом и свистели и пели дикую песню» [131, с. 577, 579, 580, 595].
13. Сюда восходит и поэтическая формула «этого не может быть, но это было», явно или косвенно встречающаяся в булгаковских произведениях.
14. Вероятно, «Дьяволиадой» навеяны представления главного героя об окружающем, которое впору объяснить лишь волшебным способом: «Мне захотелось увидать какого-нибудь колдуна, умеющего толковать сны. Но и без колдуна я понял этот сон» [131, с. 579].
15. «В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел Дьявол, ко мне же не придет никто» [131, с. 589].
16. В этом «превращении» угадываются традиции Н. Гоголя, в письмах которого чёрт оборачивается мелким чиновником [см. 480, с. 267].
17. Прежде всего, они касаются многоликого (зловещего и ироничного) редактора Рудольфа, которого автор именует то Дьяволом, то Сатаной, то чёртом, то Вельзевулом, то Мефистофелем, то черным, то лукавым.
18. «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...».
19. Подобной болезнью страдали не только герои «Дьяволиады», «Тайному другу», но и гоголевский Акакий Акакиевич («Шинель»). Впоследствии в состояние меланхолии впадает Иван Бездомный («Мастер и Маргарита»).
20. Хронологически первыми должны идти 2—7 главы.
21. Намечается параллель с монологом Дымогацкого в Эпилоге «Багрового острова».
22. Роман «Белая гвардия» публиковался в журнале «Россия».
23. Не случайно Рудольфи сразу же вычеркивает из рукописи романа три знаковых слова: «архангелы» (атрибуция рая), «дьявол» (атрибуция ада), «Апокалипсис» (столкновение сил ада и рая на бренной земле).
24. Поэтому слово «странный» встречается в тексте 21 раз.
25. Кальсонеры тоже были маленького роста, а пристрастием к драгоценным камням отличался Воланд в «Мастере и Маргарите».
26. Не было иного пути и у Мольера («Жизнь господина де Мольера»).
27. Мирче Элиаде считал «бессознательное» единственной возможностью современного человека прикоснуться к «космическому», к «сакральному», «идет ли речь о его мечтаниях и воображаемой жизни или же о творческих сознаниях, возникающих из бессознательного» [689, с. 83].
28. В описываемых картинах легко угадываются не только контуры, но и образы «Дней Турбиных». Истинный художник должен видеть Истину, а потому мысль Максудова «что видишь, то и пиши» является не столь уж банальной.
29. Слово «театр» в тексте повторяется 129 раз.
30. Упоминание о Гоголе — своего рода ключ к пониманию авторской оценки мхатовских старожилов с хлестаковскими замашками.
31. Постановка «Белой гвардии» (в сценическом варианте — «Дни Турбиных») тоже нарушила единство классического репертуара Московского Художественного театра. Нехватка современных пьес — одна из причин ожесточенной борьбы театра за эту постановку.
32. Этот «конфликт» описан в многочисленных воспоминаниях о постановке «Дней Турбиных».
33. Достаточно вспомнить стенограмму диспута по поводу постановок пьес «Дни Турбиных» М. Булгакова и «Любовь Яровая» К. Тренева [587].
34. В романе эпитет «серый» встречается 16 раз, подчеркивая мистический смысл событий.
35. В дальнейшем подобный мотив звучит в «Мастере и Маргарите».
36. В этом коте нетрудно узнать предшественника Бегемота из «Мастера и Маргариты».
37. С учетом этого построены «Багровый остров» и «Кабала святош (Мольер)».
38. Впоследствии рукопись, источником которой, по мнению Б. Соколова, послужил роман Э. Миндлина «Возвращение доктора Фауста», была сожжена писателем.
39. Последний раз М. Булгаков диктовал Е. Булгаковой исправления и дополнения к роману 13 февраля 1940 года.
40. Первая редакция имела ряд наименований: «Черный маг», «Копыто инженера», «Сын В <...>», «Жонглер с копытом», «Гастроль (Воланда?)». Вторая редакция первоначально была названа «Консультант с копытом», затем — «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», «Подкова иностранца», «Он явился», «Пришествие», «Черный маг», «Копыто консультанта». Третья редакция сначала называлась «Князь тьмы», но уже с конца 1937 года — «Мастер и Маргарита».
41. Философско-эстетический анализ романа «Мастер и Маргарита» приводится в работах Э. Баррета [718], Эллендии Проффер [728; 729], Т.Р.Н.Эдвардса [723], Э. Эриксона — младшего [724].
42. В 70-е — 80-е годы появилось множество работ, посвященных «Мастеру и Маргарите», причем подходы к исследованию были самыми различными. Так, М. Чудакова и Б. Мягков, Л. Яновская и И. Галинская, В. Петелин и И. Бэлза (и др.) предприняли попытку выявить исторические и литературные источники произведения; Г. Лесскис и Б. Гаспаров, А. Вулис и Л. Дмитриева, Л. Посадская и И. Приходько обратились к проблемам поэтики «закатного романа»; А. Кораблев и Е. Яблоков, А. Минаков и Л. Киселева, П. Абрагам и В. Агеносов вплотную занялись нравственно-философской проблематикой «Мастера и Маргариты». В настоящее время «закатный роман» так или иначе исследуют почти две трети булгаковедов.
43. Это относится не только к «нечистой силе», но и к главным героям романа.
44. Например, Воланд.
45. Например, история мастера. Кстати, большинство исследователей пишет имя героя булгаковского романа «Мастер» (с заглавной буквы), подчеркивая тем самым его творческий дар. Отныне и мы будем именовать его так, тем более, что «имя — тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» (Флоренсий П. [621, с. 170]).
46. К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Ф. Ницше, Э. Тейлор, Н. Фрай, Б. Фонтенель, З. Фрейд, Дж. Фрейзер, Т. Элиот, К. Юнг, С. Аверинцев, А. Лосев, В. Пропп...
47. Мениппея оформилась как жанр в Древней Греции в III веке до н. э., опираясь на народные карнавальные действа; непременным атрибутом жанра являются мифологические принципы построения содержания (фабулы, средств раскрытия характеров), элементы мифологической фантастики. В мениппее (особенно мистерийного типа), как правило, присутствуют демиурги и трикстеры. И если демиурги творят мир, стремясь к гармонии и единству, то трикстеры — напротив — вносят в этот мир очевидные элементы разрушения и хаоса. Отсюда — неизменные катастрофы, скандалы и метаморфозы. Отсюда — соединение внешне несоединимых начал: трагического и комического, возвышенного и ничтожного, прекрасного и безобразного. Отсюда — смешение смеха и слез, иронии и сатиры, увенчания и развенчания.
48. Сатирическая линия «Мастера и Маргариты» находится в центре внимания в работах А. Вулиса, Л. Яновской; лирико-философская — П. Абрагама, В. Лакшина; мистеральная — М.Петровского, М. Вайскопфа, Е. Толстой и т. д.
49. Литературовед выделяет мотивы-слова, мотивы-пейзажные зарисовки, мотивы-события, мотивы-предметы. В качестве примера он приводит ассоциативную цепочку: Бездомный — Бедный (сходство поэтической продукции антирелигиозного содержания); Бездомный — Безыменский (сходство отношений Бездомного к Рюхину, а Безыменского — к Маяковскому); Бездомный — Левий Матвей (сходство отношений единственного ученика к учителю); Бездомный — Чацкий (сходство обличительных речей, которые никто не слушает и за которые обличителей именуют сумасшедшими). Кстати, благодаря наметившемуся сходству Бездомного и Чацкого можно добавить еще одну ассоциативную связь: Бездомный — Дымогацкий (сходство трагикомических судеб, качества литературной продукции, реакции аудитории на обличительные монологи). Мотивными ассоциациями, по мысли Гаспарова, связаны московский дом «Грибоедова» и ершалаимский дворец Ирода Великого, клиника Стравинского и Гефсиманский сад, арбатские переулки и Нижний город.
50. Лейтмотивы в творчестве Булгакова рассматривают М. Бессонова [72], В. Лакшин [369], Ю. Лотман [384], Е. Ляхова [400], В. Немцев [456].
51. Образное сравнение «Великий Инквизитор» Булгаков использует в письме Правительству СССР в 1930 г.
52. «Насквозь» пародийным считает булгаковский роман Т. Эдвардс, рассматривая символический пласт произведения. По его мнению, Бал Сатаны — Черная месса — является пародией на христианскую мессу, а сцена в доме «Грибоедова» — на Тайную Вечерю [723]. Э. Эриксон считает эпилог «Мастера и Маргариты» пародией на Откровение Иоанна Богослова [724]. На травестийном характере романа акцентирует внимание В. Немцев [454].
53. В отличие от А. Белого, Булгаков относился к символу как к приему, помогающему «раскрытию внутренней сути явлений» [575, с. 79].
54. Э. Баррет, например, полагает, что «Мастера и Маргариту» следует рассматривать через призму символистической традиции как постмодернистский религиозный роман [718], поскольку противостояние двух миров вызывает у автора произведения уже не страх, а иронию.
55. Например, образ МЕРТВОГО ТЕЛА в «Зойкиной квартире».
56. Отсюда — общий для писателей интерес к сказочной традиции (сказки братьев Гримм — сказки Т. Гофмана), к мистицизму (И. Гейне — В. Жуковский), к художественной философии (И. Гёте).
57. Имеется в виду статья И.М. Миримского «О социальной фантастике Гофмана», опубликованная в журнале «Литературная учеба».
58. На преемственную связь булгаковского романа с мировой литературной традицией обратили внимание зарубежные исследователи (Н. Звезданов, М. Йованович, Л. Милн, Э. Райт).
59. Впервые отмечено И. Галинской.
60. В некоторых работах 80-х — 90-х годов предпринимается попытка рассмотрения романтизма как особой эстетической системы (см. Бент М.И. [62]; Наливайко Д. [449]). В работах А. Гаджиева, Н. Гуляева, И. Карташовой, Л. Тимофеева, Б. Хрулева романтизм рассматривается как особый тип творческого мышления и миропонимания (см. 184; 230; 597; 638).
61. Например, мистического романа Алексея Скалдина «Странствия и приключения Никодима старшего».
62. Роль зеркальности в «Мастере и Маргарите» является объектом внимания в работах В. Крючкова [354], Г. Стальной [585], В. Химич [633].
63. По свидетельству С. Ермолинского, именно так относился к произведению и сам Булгаков.
64. 28 марта Булгаков сам сообщает об этом в письме Правительству СССР.
65. 2 августа 1933 года в письме В. Вересаеву М. Булгаков писал: «В меня вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю» [цит. 671, с. 232].
66. Оба персонажа — «первые помощники», а в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, с которым, безусловно, был знаком Булгаков, сказано, что Фагот — музыкальный инструмент, изобретенный в Германии в 1539 году каноником Афранио в Ферраре.
67. Почему Марк Крысобой и Азазелло, а не Афраний и Абадонна.
68. Едва ли принадлежность к миру животных может обосновать функциональное подобие двух собак (кстати, непохожих) и одного «полукота».
69. Единственное, что объединяет этих героинь — то, что все они служанки. Но «роли» у них у всех разные.
70. Нет сомнений в функциональной близости первых двух персонажей.
71. «1) Пилат — Воланд — Стравинский — финдиректор Варьете Римский; 2) Афраний — Фагот-Коровьев — врач Федор Васильевич — администратор Варьете Варенуха; 3) Марк Крысобой — Азазелло — Арчибальд Арчибальдович — директор Варьете Лиходеев; 4) Банга — Бегемот — Тузбубен — кот, задержанный неизвестным в Армавире; 5) Низа — Гелла — Наташа — соседка Берлиоза и Лиходеева Аннушка-Чума; 6) Каифа — Берлиоз — неизвестный в Торгсине, выдающий себя за иностранца, — конферансье Варьете Жорж Бенгальский; 7) Иуда — барон Майгель — Алоизий Могарыч — Тимофей Квасцов, жилец дома 302-бис; 8) Левий Матвей — Иван Бездомный — Александр Рюхин — Никанор Иванович Босой, председатель жилтоварищества дома № 302 — бис» [573, с. 137]. Остается добавить: «Ноев ковчег»!
72. Мастер даже внешне напоминает Гоголя.
73. Одновременное пребывание человека во времени и в вечности — характерная черта мифопоэтического сознания [см. 429, с. 52—66].
74. Ариман — автор статьи «Вылазка классового врага». Примечательно, что своих гонителей, слегка изменив их фамилии, писатель включил в окончательный вариант романа. Так, критик Литовский преобразился в Латунского, а Мастер, узнав о происшествии на Патриарших прудах, с ненавистью произносит: «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича» [121, т. 2, с. 447].
75. В гностическом Евангелии от Филиппа читаем: «хорошие не хороши, и плохие — не плохи <...>. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира (олицетворяющие добро и зло — П.В.); — неразорванные, вечные» [Евангелие от Филиппа; X: 3—5]. М. Булгаков не был знаком с этим Евангелием, однако сходные мысли он мог почерпнуть из «Очерков по истории гностических учений» Ю. Николаева [459] и из философии Вл. Соловьева, где наряду с Абсолютом присутствует тварный мир, в котором «...всякому углублению положительной стороны соответствует и <...> внутреннее усиление отрицательной. <...> в человеке оно <...> выражает <...> свою глубочайшую сущность, как нравственное зло» [581, с. 129].
76. М. Булгаков был знаком с книгой М. Орлова «История сношений человека с дьяволом», где упоминается черная собака знаменитого богослова и философа Генриха Корнелия Агриппы (1486—1535): «Каким путем Агриппа приобрел себе такого домашнего гения, это осталось невыясненным. Но адское происхождение его сомнению не подлежит» [476, с. 55].
77. Маргарите Коровьев называет целью визита проведение ежегодного бала и изучение нравов современной Москвы. Д. Куртис полагает, что Воланд лишь случайно обращает внимание на роман Мастера, и причиной тому явилось желание Маргариты любой ценой спасти своего возлюбленного [см. 720, p. 179—180]. И. Бэлза считает, что Воланд с самого начала книги был просто обязан заняться судьбою Мастера, «ради которого, как явствует из всей концепции романа, он, собственно говоря, и прибыл в Москву» [150, с. 217]. По мнению Б. Соколова, цель визита Воланда — «извлечение мастера и его романа» [573, с. 252]. Думается, эту цель точнее определяет библейская формула: «Мне отмщения и аз воздам».
78. Подчеркивается мессианская роль.
79. Это не только «гости» на балу, но и испорченные «квартирным вопросом» москвичи.
80. Исследователи по-разному определяют время действия в романе: Б. Соколов (см. [575]) — с 1 по 4 мая 1929 года (5 мая — последний полет героев и встреча Воланда с Пилатом); А. Барков — с 15 по 19 июня 1936 года (см. [41, с. 67]).
81. Фамилия заимствована из «Мелкого беса» Ф. Сологуба.
82. «Тихий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя?» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды <...>. Словом, ад. И было в полночь видение в аду» [121, т. 2, с. 433].
83. Например, у древних северных народов (Скандинавии) «пятое измерение — измерение Разума, который находится вне вещества и не имеет продолжительности, но действует через вещество и в пределах Времени. Посредством Разума осуществляется выбор» [414, с. 242]. Кстати, в тех же эзотерических учениях «шестое измерение принадлежит Душе. Это измерение творчества» [414, с. 242] (здесь разворачивается пространство древних глав; отсюда — «шестое чувство», которым Мастер «все угадал»); «седьмое измерение принадлежит Духу. Он не имеет формы, но выражается через форму и совершенствуется в ней» [414, с. 242] (это мистическое пространство метаморфоз, где преображаются и облик воландовской свиты, и квартира покойного Берлиоза); «восьмое измерение — это Ничто, из которого возник индивидуальный Дух» [414, с. 242] (здесь берут свое начало, подобные двум безднам, Свет и Тьма — обители Иешуа и Воланда), «девятое измерение это земля, место, где могут быть восприняты все остальные измерения» [414, с. 242].
84. Диалог между Берлиозом и Бездомным мог иметь вполне реальную основу. В апреле 1925 года в газете «Правда» была опубликована поэма Демьяна Бедного «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», где Иисус представлен резко негативно (развратником и пьяницей), однако... вполне реально. М. Булгаков уже тогда заинтересовался поэтическим ответом на опус пролетарского атеиста — «Посланием евангелисту Демьяну (Бедному)» (Авторство приписывается сотруднику «Крестьянской газеты» Н. Горбачеву — П.В.) [см. 494, с. 161]. В основе «разбора» Берлиозом пьесы Бездомного мог лежать и текст разгромной рецензии поэта С. Городецкого на пьесу С. Чевкина «Иешуа Ганоцри», опубликованную в 1923 году в «Красной ниве» [см. 616, с. 532—537].
85. Появлению нечистой силы в «Дьяволиаде» тоже предшествовал характерный возглас (своего рода «призыв»): «Чёрт с ним! — загремел блондин, чёрт с ним. — Машинистки, гей!» [121, т. 2, с. 265].
86. В фельетоне «Столица в блокноте» (1922) читаем: «...за спиной молодого человека, без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!), из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было гофмановское нечто...» [129, т. 2, с. 262]. О параллелях с «Эликсиром сатаны» писали О. Михайлов и А. Нинов. Кроме того, согласно философии Анаксимена Милетского (588—525 гг. до н. э.), все вещи (вода, земля, камень) возникают путем сгущения воздуха.
87. «Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы...» [121, т. 2, с. 325]
88. В народном сознании образ иностранца (инородца) традиционно связывается с нечистой силой. Кстати, в первой главе мы встречаем 38 примеров, когда корень и суффикс образуют символически значимое сочетание «страны».
89. В том числе цветообозначения и фонетические созвучия.
90. Серый цвет не случайно преобладает в одежде Воланда. Преобладание этого цвета в одежде героя означает для него позицию стороннего наблюдателя (см. психологическую характеристику серого цвета М. Люшера). Действительно, Воланд в Москве не столько деятель, сколько наблюдатель.
91. Аллюзия не только на гётевского Мефистофеля, но и на гоголевского чёрта из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком <...>. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам <...> можно было догадаться, что это не немец, <...> а просто чёрт» [201, с. 91].
92. Одна из традиционных отличительных черт нечистой силы — нарушение естественной гармонии и природных пропорций (разноцветные глаза, искаженные черты лица, косоглазие, хромота и т. п.).
93. Эпиграфом из «Фауста» И. Гёте автор словно отвечает на этот вопрос.
94. Символика и семантика «Небесных Домов» взята нами из «Астрологического энциклопедического словаря» А.Ю. Саплина [538].
95. «Несчастьем» в романе автор обозначает происшедшее с Берлиозом, с Иудой, с Римским, с Пилатом. С точки зрения Булгакова, все они — грешники, и все они так или иначе наказаны.
96. Своеобразное противопоставление Христа и Антихриста. «Евангелием от сатаны» именует роман «Мастер и Маргарита» А. Дравич [722].
97. «Большей частью скелет понимается как символ смерти», однако «в алхимическом образном мире скелеты символизируют воскресение и новое рождение превращающейся первоматерии после ее «почернения», потемнения и разложения» [76, с. 246].
98. «В раннехристианской символике скарабей встречается как смысловой образ воскресения. <...> и делались из твердого полудрагоценного камня, такого, как яшма или карнеол...» [76, с. 246].
99. Отдельные детали памятного спора на Патриарших прудах (упоминание о критике кантовской теории Шиллером и Штраусом) буквально повторяют содержание словарной статьи.
100. Кстати, в правлении МАССОЛИТа было 12 членов; Берлиоз, как и Иуда, был двенадцатым.
101. Б. Соколов отмечает перекличку сцены предсказания будущего Ивану Бездомному с подобным эпизодом из романа «Мельмот Скиталец» Ч. Метьюрина, где герой, продавший душу дьяволу, при встрече со Стентоном предсказывает ему следующую встречу ровно в 12 часов в сумасшедшем доме. В дальнейшем после многочисленных попыток рассказать другим о Мельмоте, после безумной и безуспешной погони за ним Стентон действительно попадает в лечебницу для душевнобольных, где в полночь к нему приходит Мельмот.
102. Историческое (история Иешуа, чье царствие «не от мира сего»), космологическое (архитектоника романа, высвеченная «последним ночным полетом»), телеологическое (все происходящее кем-то предопределено), онтологическое (вера Мастера в существование Иешуа, сына Божия), нравственное (существование «категорического императива», которым руководствуются Мастер, Маргарита, Левий Матвей).
103. «Бесконечный универсум, который олицетворяет Воланд, не знает добра и зла» [703, с. 148].
104. М. Бахтин считал, что «...в литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [52, с. 121].
105. М. Чудакова впервые указала на связь булгаковского хронотопа с данной работой.
106. И Флоренский, и Булгаков в поисках аргументации своих этико-философских изысканий обращаются к «Божественной комедии» Данте.
107. Сравнивая романы «Братья Карамазовы» и «Мастер и Маргарита», И. Розенталь пишет: «Великие писатели Достоевский и Булгаков затронули очень давно (первый более 100 лет, а второй — 50 лет назад) проблемы, которые стали центральными в современной физике — проблемы геометрии и разномерности физического пространства» [530, с. 60].
108. Согласно Евангелию от Филиппа, «святым служат злые силы. Ибо они слепы из-за Духа святого, дабы они думали, что они служат своим людям, тогда как они работают на святых» [XXXIV: 1, 2].
109. От Н. Некрасова, Ф. Достоевского, Л. Толстого до Н. Гумилева, А. Блока, Л. Леонова и, конечно, Булгакова.
110. Сравните с апокрифическим Евангелием от Филиппа: «Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое — братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга» [Евангелие от Филиппа; X: 1, 2].
111. Как отмечает Г. Симаков, равновесие добра и зла объясняется моральным фактором: «...такой мир — мир без добра — отвратителен даже нечистой силе» [14, с. 352].
112. Не случайно у Понтия Пилата «белый плащ с кровавым подбоем».
113. В первом варианте романа Воланд сам отпускал на свободу Понтия Пилата; в окончательном это делает Мастер.
114. Единую гоголевскую традицию в создании образа Коровьева-Фагота и чёрта из «Братьев Карамазовых» впервые отмечает М. Чудакова [см. 655, с. 57].
115. Имеется в виду Третья книга Ездры.
116. В одном из набросков к булгаковскому роману, датируемым 1933 годом, Азазелло, вероятно, выступает в обличии козла: «Встреча поэта с Воландом. Маргарита и Фауст. Черная месса. Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать романтические <...> Маргарита и козел. Вишни. Река. Мечтание. Стихи. История с губной помадой» [см. 671, с. 235].
117. М. Чудакова и Н. Утехин обращают внимание на то, что в первой редакции романа персонаж, названный впоследствии «Азазелло», именовался «Фьялло», что в переводе с латинского означает «сын» [см. 667, с. 74; 610, с. 290]. Вероятно, речь идет о «сыне погибели».
118. А. Вулис выделяет пять повествовательных манер, однако нам представляется более убедительной позиция В. Немцева, обозначающего только три: «первый автор» выступает в роли нейтрального, объективного повествователя, максимально дистанцируясь от героев и событий (древние главы); «второй», — этакого гоголевского «правдивого рассказчика», выражающего свою субъективную эмоциональную оценку происходящему («И повесил трубку, подлец»); «третий», — активно вмешивается в ход событий, увлекая читателя за собой («За мной, мой читатель...»), оставляя в тексте явные пометы своей личности («Пишущий эти правдивые строки сам лично...»).
119. Так, героиня новеллы Гофмана «Золотой горшок» произносит: «...я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное часто видимым и, можно сказать, осязаемым образом вступило в мою жизнь» [206, т. 1, с. 239]. В «Записках покойника» появление Рудольфи герой тоже воспринимает как нечто вполне обыденное.
120. Следующим закономерным шагом для Булгакова становятся встречи Мастера на лунной дороге и в «вечном приюте».
121. «Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить!» [121, т. 2, с. 366].
122. «— Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда» [121, т. 2, с. 645].
123. 81 раз вместе с производными словоформами.
124. Похожий эпизод встречаем на представлении в театре Варьете («Мастер и Маргарита»).
125. Имя Гелла в булгаковском романе могло быть заимствовано из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (статья «Чародейство»), где сказано, что Гелла — в греческой мифологии дочь Афимонта и Нифелы; по проискам своей мачехи она, вместе с братом Фриксом, должна была быть принесена в жертву; бежала с Фриксом на золоторунном баране в Колхиду, но по дороге упала в море, прозванное в честь ее Геллеоспонтом» [690, т. VIII, с. 279]. Впервые на это указала Л. Милн в 1977 году.
126. См. главу «Шабаш ведьм». На подобную параллель (применительно к «Огненному ангелу» В. Брюсова) обращает внимание Н. Утехин.
127. В Евангелии от Марка читаем: «И как уже настал вечер, — потому что была пятница, то есть день перед субботою, — пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова» [XV: 42, 43].
128. Согласно преданиям Западной и Центральной Европы о ведьмах, «повелитель шабаша», восседающий на вершине священной горы, выбирает одну из присутствующих женщин себе в жены. После этого она находится рядом с повелителем, и участники шабаша воздают ей почести, кружась в бешеном хороводе» [48, с. 248].
129. В поисках прототипа этого образа Б. Соколов указывает на книгу швейцарского психолога и врача Августа Фореля «Половой вопрос», неоднократно издававшуюся в переводах в России. Здесь описана судьба швейцарки Фриды Келлер, удавившей шнурком своего незаконнорожденного мальчика пяти лет, а также приведен случай с уроженкой Силезии Кониецко, задушившей младенца носовым платком. Выписка этих имен со ссылкой на данную книгу хранится в архиве М. Булгакова. В булгаковском романе Фрида задушила мальчика платком в младенчестве, и 30 лет камеристка кладет ей на стол платок, напоминая о содеянном.
130. Материалы процесса над Христом.
131. Выявлению своеобразия булгаковской трактовки евангельского сюжета посвящены публикации А. Зеркалова [279], А. Романычева [533] и др.
132. Действительно, «Назарет — Нацрат. <...> — город, где жил Иосиф и Мать Иисуса [Лук. I: 26; I: 4] и где Он провел первые 30 лет Своей жизни [Матф., II: 23; IV: 13; Лук. II: 51; Иоан. I: 45], почему и был известен как «пророк из Назарета» [Матф., XXI: 11] и обыкновенно назывался Назарянином [Map. I: 24; Лук. IV: 34; Мат. XXVI: 71; Деян. II: 22; III: 6 и т. д.]» [74, с. 268].
133. Согласно общественной морали это было позорным.
134. В Евангелии от Матфея читаем: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился» [XXVII: 12—14]; евангелист Марк пишет: «Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился» [XV: 4, 5].
135. А также «правда — обман, вранье, клевета и т. п.».
136. В Евангелии от Матфея — 34, у апостола Марка — 18, у Луки — 14.
137. «Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем» [Евангелие от Иоанна, XVIII: 37—38].
138. Явственно слышится мотив постижения истины через страдания (не потому ли Мастер «бедный и окровавленный»?!), который был намечен уже в «Записках на манжетах»: «Только через страдание приходит истина <...>. Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают» [121, т. 1, с. 122].
139. В Еванг. от Иоанна: «вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем» [XVIII: 38]; «Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины» [XIX: 4], «Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины» [XIX: 6]. Лишь после того, как Иисус перед лицом смерти не убоялся власти наместника кесаря, «Пилат искал отпустить Его» [XIX: 12].
140. Выписки из нее сохранились в архиве М.А. Булгакова.
141. После казни Иешуа Пилат предчувствует свою трагическую судьбу: «Я сплю плохо, — прокуратор усмехнулся, — и все время вижу во сне лунный луч... Будто бы я гуляю по этому лучу» [121, т. 2, с. 624]. Так оно и случилось...
142. Как в Евангелии от Луки (направил к Ироду, который до того обезглавил Иоанна); и в Евангелии от Матфея (умыл руки перед народом и произнес: «Condemno, ibis in crucet»).
143. Впервые указано М. Чудаковой.
144. Согласно традиционным христианским представлениям, «запад» — это сторона обитания дьявола, восток — божеская обитель.
145. Едва ли можно согласиться с предположением Б. Гаспарова о тождестве фигур Воланда и Афрания, основанном на внезапности их появлений и на «всеведении» героев. Прежде всего, Воланд не всеведущ, гораздо более осведомлена о происходящем на Земле его свита. Имя Афраний Булгаков мог заимствовать из словаря Брокгауза и Ефрона (каноник Афранио) или книги «Антихрист» Э. Ренана, где Афраний — префект претории Рима.
146. См. блоковские краски «страшного мира».
147. Цветом тревоги и обреченности, одиночества и дьявольского азарта становится желтый цвет в «Мастере и Маргарите»: «желтые грязные стены» убогого жилища Мастера, «желтоватый крем» и «желтый клык Азазелло», «глаза Понтия Пилата с желтыми прожилками», его желтые зубы и желтоватые щеки, темно-желтый коньяк на балу у Воланда и т. д.
148. «С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума <...>. Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье <...>. Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме» [121, т. 2, с. 490].
149. Более подробно см. [502, с. 269].
150. См. Л. Шестов [676, с. 288].
151. Мастер внешне похож на Гоголя.
152. В черновых набросках к роману Мастер носил имя Фауст.
153. П. Абрагам, И. Бэлза, И. Григорай, Б. Соколов, В. Немцев и др.
154. О. Викторович, Б. Соколов, Е. Ухова.
155. Сведения об А.И. Булгакове имеются в «Большой энциклопедии» под редакцией С.Н. Южакова (С.-Петербург, 1904. — Т. 4. — САЗ).
156. См. 690, т. XXXVIa, с. 50—509.
157. Следует признать, что использование Булгаковым масонской символики и атрибутики носит сугубо условный характер и не означает его приверженности этому эзотерическому учению.
158. См. «Портрет» Н. Гоголя. Своего рода набросками в русле этой темы можно считать отдельные повороты сюжета в «Записках на манжетах» и в «Багровом острове».
159. Мастер — одна из степеней Иоанновых в масонстве.
160. Меняется только год. Из книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» Булгаков знал, что на пятницу 14 нисана приходилось не только в 33 (как в Библии), но и в 29, 36 годах н. э. Если в первой редакции «Мастера и Маргариты» действие древних глав протекает в 33 году и булгаковскому герою к моменту казни исполняется 30 лет, то в окончательном варианте автор романа предпочел 29-й год. На это указывает и возраст Иешуа — 27 лет.
161. События в «Мастере и Маргарите» разворачиваются тоже в 29 году... только в 1929.
162. В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона сказано, что «роза стала эмблемой весны, красоты, любви, кратковременности житейских благ...», а кроме того, в древности «широко распространены были так называемые Rosaria — поминки по умершим, когда розами украшали могилы» [690, т. XXXVIa, с. 958—959].
163. Например, в обоих случаях действие заканчивается весной и в полнолуние.
164. Один из прототипов барона Майгеля — барон Б.С. Штейгер — впоследствии был расстрелян. Кстати, в «Мастере и Маргарите» Иуда уже не ученик, как в Евангелии, а платный доносчик, который не раскаялся и не повесился, а был убит ножом в Гефсиманском саду. Именно там, согласно библейской мифологии, провел свою последнюю ночь Иешуа. Вероятно, версию о том, что Иуду зарезали, М. Булгаков берет, отталкиваясь от картины Леонардо до Винчи («Тайная вечеря»), на которой в непосредственной, почти символической близости от Иуды изображен нож. В убийстве ножом автор видит некую роковую предопределенность, фатальную неизбежность. Такой же неизбежной становится встреча Мастера и Маргариты, во время которой «любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» [121, т. 2, с. 452].
165. О зеркальной симметрии в композиционной структуре романа достаточно убедительно пишет М. Гаврилова [см. 181, с. 138].
166. Та, что оставили позади Мастер и Маргарита, направляясь в «вечный приют».
167. Ариман — имя одного из критиков Мастера.
168. Аллюзия на Люцифера очевидна.
169. Подобно И. Галинской, О. Викторович выделяет в романе три мира: человеческий, космический и библейский (словно библейский не является человеческим?! — П.В.).
170. Трактаты «Наркис или познай себя» (СПб., 1798), «Начальная школа по христианскому добронравию» (Сион. вест., 1806), «Дружеский разговор о душевном мире» (М., 1837), «Беседа двое» (М., 1837) и т. д.
171. Так, Великий бал Сатаны становится своеобразным перекрестком пространств и времен, «воскрешая» на очередной суд тени разных эпох.
172. Воланда никто не «изымал»; «добро» и «зло» неразделимы; князя тьмы интересует лишь «истина».
173. Иешуа ее изрекает, а Воланд в разговоре на Патриарших прудах лишь подтверждает, тем более, что ее уже «доказал» Кант, с которым князь тьмы беседовал за завтраком.
174. Иешуа и Воланд гипнотически воздействуют на окружающих.
175. Если в «Белой гвардии» нравственным императивом было: «Каждому воздается по делам его», то в «Мастере и Маргарите» авторская позиция иная: «Каждому воздается по вере его».
176. Эта особенность построения пространства отражает «архетипические представления об обратности, взаимной перевернутости связей посюстороннего и потустороннего мира: потусторонний мир мыслится как мир с противоположными (перевернутыми) связями по отношению к миру посюстороннему, и наоборот» [609, с. 32].
177. Так, слово «земля» (вместе с производными) упоминается в тексте 7 раз, «подземелье» — 1, «небо» — 14; «рассвет» — 12, «утро» — 32, «день» и «полдень» — 40, «сумерки» — 7, «вечер» — 84, «закат» — 8, «ночь» — 114; «солнце» — 62, «луна» — 58, «звезды» — 4.
178. Сумерки, вечер, закат, ночь.
179. Как между добром и злом.
180. Достаточно вспомнить скитания Ивана Бездомного по Москве в поисках нечистой силы.
181. Вспомним рассуждения Воланда о взаимозависимости света и тьмы. Жук скарабей на его груди вызывает ассоциации с солярной символикой древнеегипетской культуры.
182. «...согласно народным поверьям, Луна «управляет» всеми изменениями и превращениями в природе» [48, с. 260].
183. Например, «все действительное разумно, а все разумное действительно», «единство действий и борьба противоположностей».
184. В связи с персонажем христианской легенды Агасфером (см. заключительный монолог Чарноты).
185. В гностическом Евангелии от Филиппа читаем: «Жизнь — не жизнь, и смерть — не смерть. А пребывают все <...> или в мире, или в воскресении, или в местах середины — да не оказаться мне в них! <...> Пока мы в этом мире, нам следует приобрести себе воскресение, чтобы, если мы снимем с себя плоть, мы оказались бы в покое и не бродили бы в середине». Булгаков не читал этого текста, но именно «середины» (небытия) так страшится Пилат.
186. Нравственные страдания героя романа А. Белого «Маски» («тридцать же месяцев мучился» [58, с. 419]) погружают его в пилатовскую ситуацию: «Двенадцать тысяч лун за одну луну...» [121, т. 2, с. 682].
187. «Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд» [121, т. 2, с. 747].
188. «...за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать...» [121, т. 2, с. 747].
189. «— Свободен! Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» [121, т. 2, с. 747].
190. Согласно каноническим христианским представлениям, сатана влагает в людские сердца злые планы и намерения [Деяния святых Апостолов, V: 3], стремится удержать их во зле [Первое послание к Фессалоникийцам, II: 18], объединяет только в лицемерии и грехе [Откровение Иоанна Богослова, II: 9].
191. Сожжение романа — проявление трусости. Как пишет Н. Звезданов, «...отречение от Иешуа (хотя и временное — П.В.) и есть самый большой грех мастера» [275, с. 68]. Вероятно, поэтому отдельные реплики Мастера и Пилата почти буквально совпадают (например, высказывание Мастера «И ночью при луне мне нет покоя» в главе «Извлечение мастера» и фраза Пилата «И при луне мне нет покоя» в главе «Погребение»).
192. На говорящую фамилию неоднократно указывали В. Лакшин, В. Немцев, Б. Соколов и др.
193. А. Гапоненков, А. Забровский, Б. Покровский, А. Романычев, Б. Соколов.
194. Аллюзия на мистическое «Евангелие от Иоанна».
195. Не случайно 33-я глава романа — возраст Иисуса до Вознесения — становится «Эпилогом».
196. Так было в «Записках на манжетах» и в «Белой гвардии», в «Беге», в «Адаме и Еве», в «Александре Пушкине».
197. В «Мастере и Маргарите» происходящие события 24 раза вызывают у героев «удивление», 25 — «изумление», 8 раз они оказываются «поражены», 2 — «ошарашены».
198. С гностическими учениями М. Булгаков мог познакомиться, читая статьи Вл. Соловьева в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (о Валентине, Василиде, гностицизме), труды Оригена, Иринея Лионского [295].
199. «История о докторе Фаусте» (1587), «Фауст» (1831) И. Гёте.
200. К теме бессмертия подлинного искусства, которое оценивается Булгаковым как критерий его истинности, писатель обращался на протяжении всего творчества:
• «...написанное нельзя уничтожить» — в «Записках на манжетах»;
• «...Фауст, как Саардамский плотник, — совершенно бессмертен» — в «Белой гвардии»;
• «...человек, который живет уже четвертое столетие, несомненно, бессмертен» — в «Жизни господина де Мольера»;
• «И сохраненная судьбой, / быть может, в Лете не потонет / строка, слагаемая мной...» — в «Последних днях (Пушкине)»;
• «Достоевский бессмертен», «рукописи не горят» — в «Мастере и Маргарите».
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |