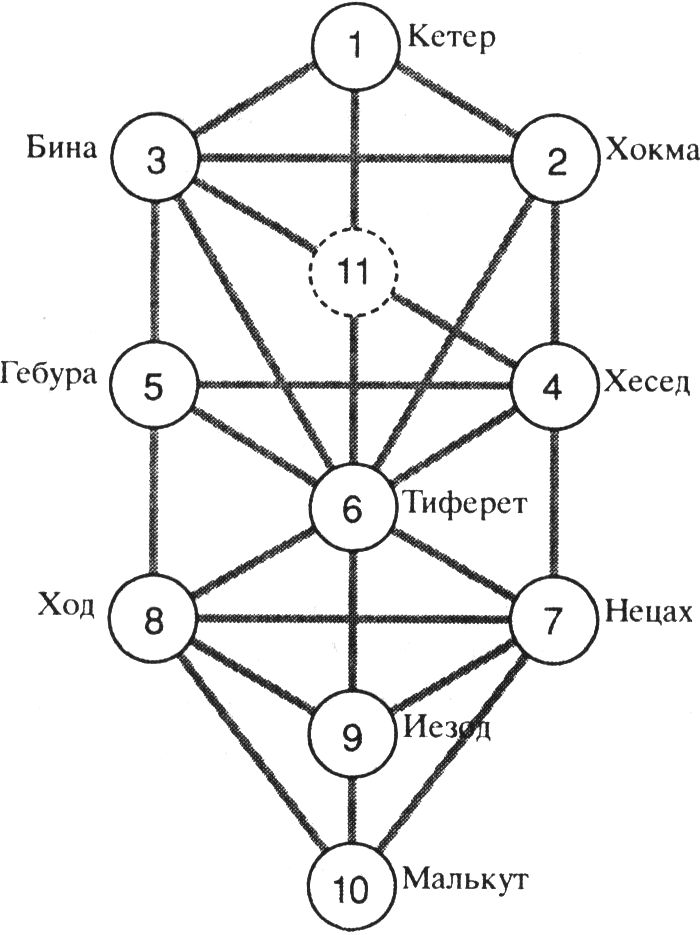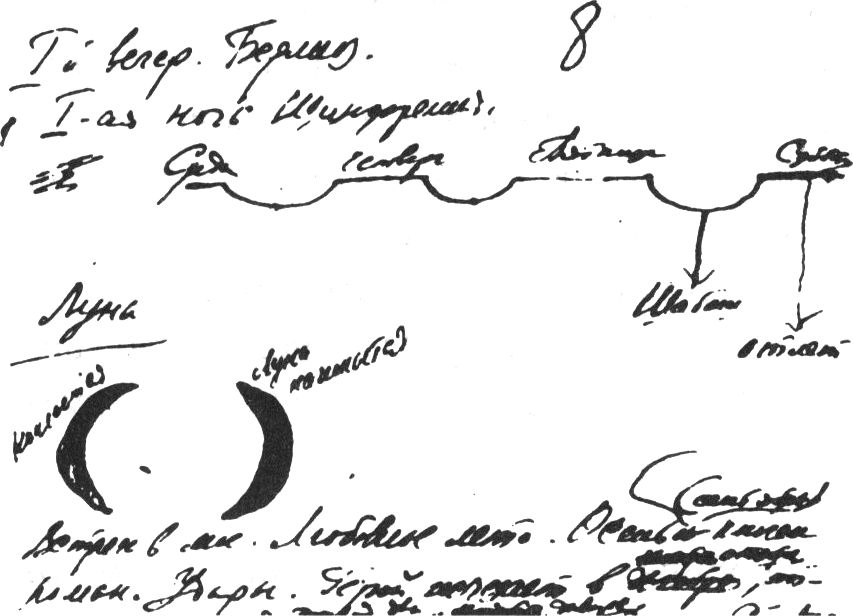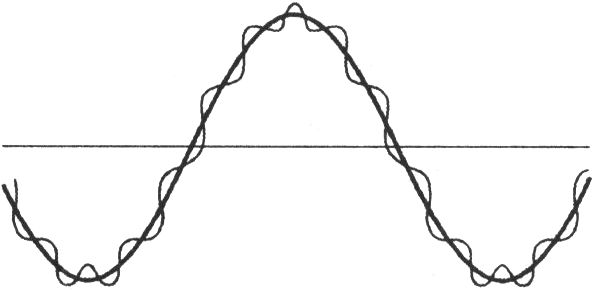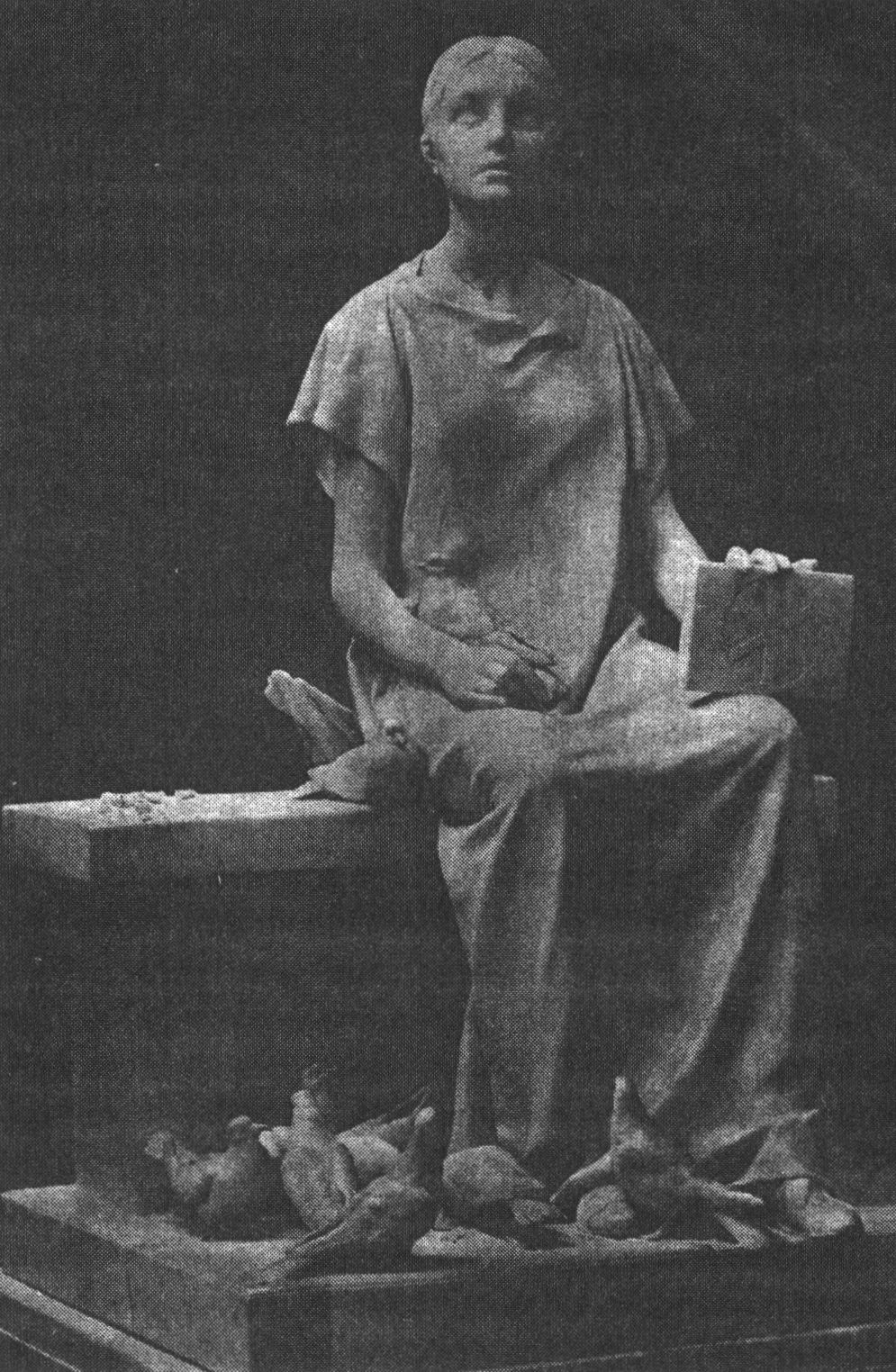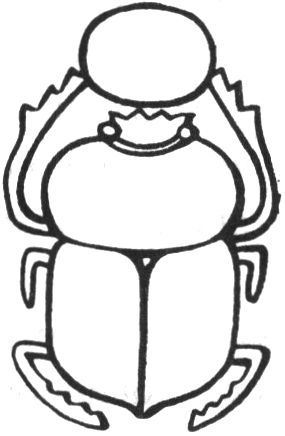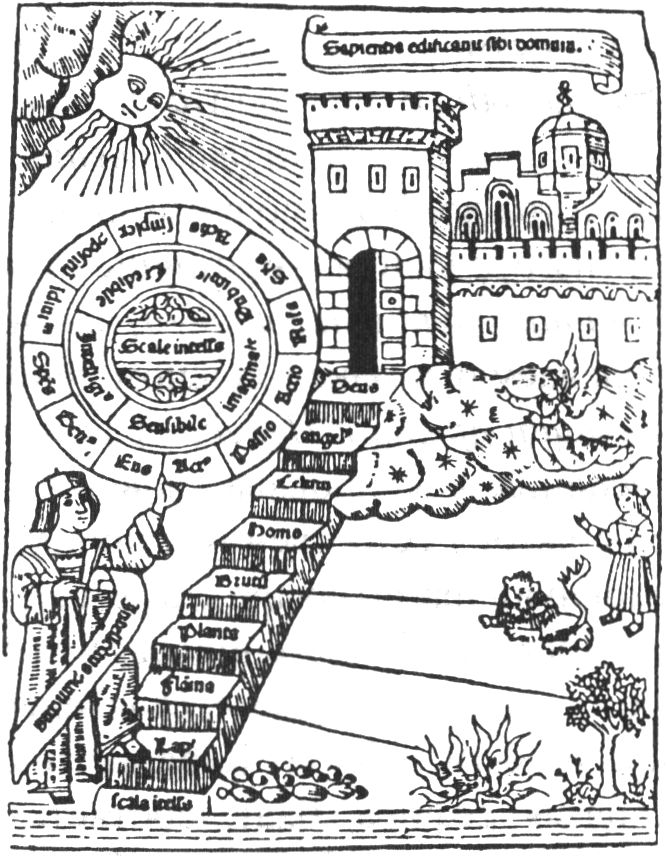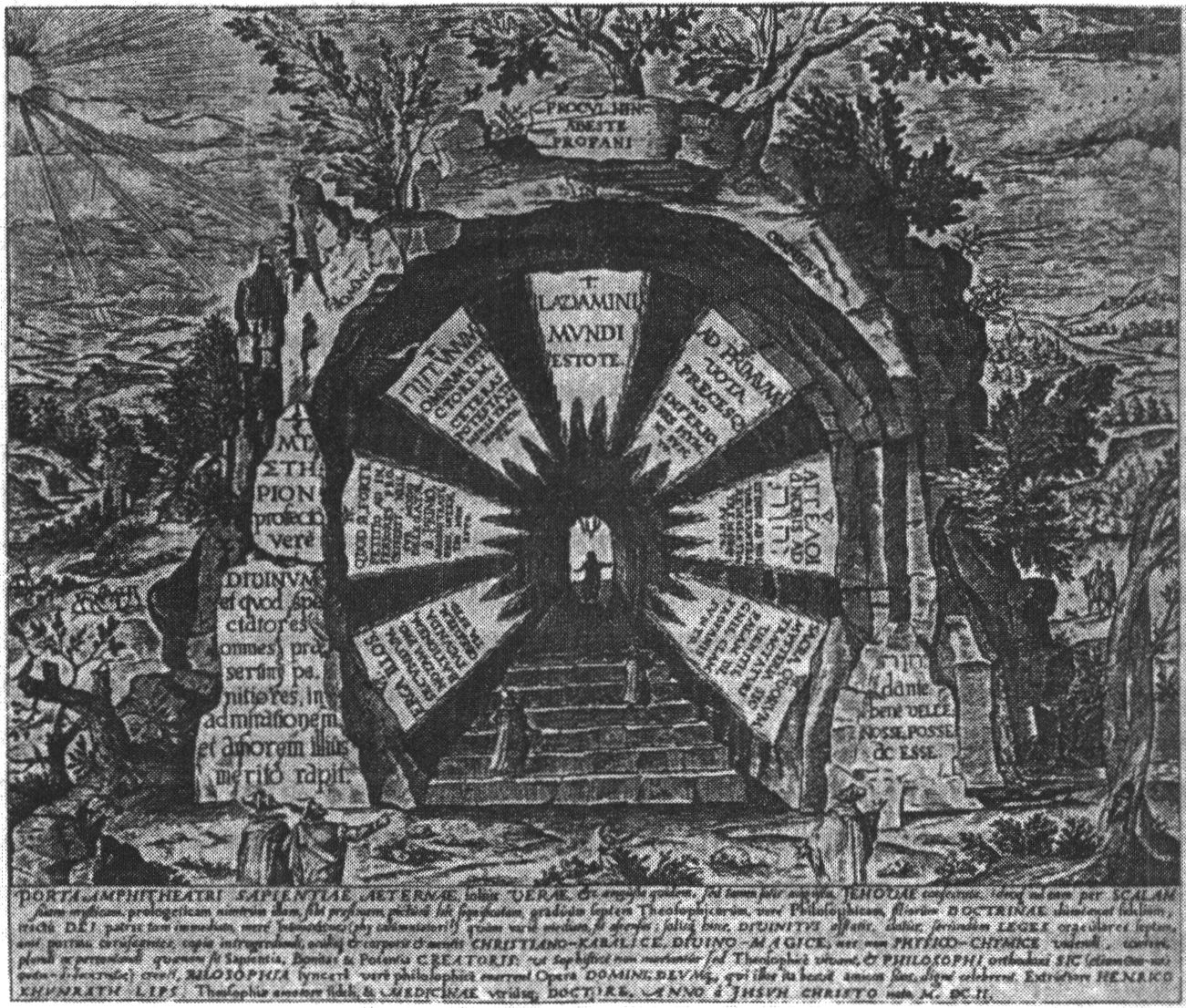Перед нами лежит Роман. Булгаков продолжал над ним работать и из посмертного далека руками Елены Сергеевны и Ермолинского. «...Мы с Леной были увлечены перепечаткой «Мастера и Маргариты», его окончательной редакцией, то есть с последними поправками уже слепого, умирающего автора. Лена волновалась, перепечатывая внесённые её рукой под его диктовку изменения... И вот роман лежит стопкой аккуратных листков!» (9; 117).
Недаром Булгаков жаловался при диктовке-редактуре 1938 года в письмах жене: «Ах, какой трудный путанный материал!» — эти же сложности в конце концов достались и ей. Многочисленные изменения в элементах текста: замена фамилий, имён и отчеств персонажей, названий мест действия (скажем, Владикавказа на Ялту или Эн-Сарида на Гамалу) надо было отследить по всем эпизодам произведения и не упустить требующихся корректировок деталей. Увы, это оказалось не по силам чрезвычайно заинтересованной и прилежной ученице мастера. Нестыковки, незамеченные разночтения, неисправленные старые варианты нет-нет да и встречаются внимательному читателю. Когда следовало бы за автора, но в его интересах исправить неизбежные в таком сложнейшем «производстве» оплошности, ей это сделать было легче всего. Теперь, при естественной канонизации каждой запятой опекаемого «обслуживающим персоналом» гения внести в текст подобного рода изменения чрезвычайно трудно. «Елена Сергеевна была не только помощницей, но и доверенным лицом писателя; в её пользу составлены его прижизненная доверенность и посмертное завещание; у неё были особые права, каких другие текстологи и редакторы Булгакова не имеют» (1/5; 668).
И всё же плод коллективных усилий, текст Романа, был доведён до того состояния, которое позволяет рассматривать его как законченное целое прежде всего в плане духовной архитектоники и художественной выразительности. Некоторые логические несообразности и несоответствия уже абсолютно не мешают целому. Они напоминают известное разночтение цвета драпировки и её отражения у одного из выходящих из воды евреев в картине А. Иванова «Явление Христа народу». Булгаков настолько стремился к совершенству и настолько хорошо его себе представлял, что мучился, умирая: «Там есть длинноты, что-то лишнее, и что-то важное упущено,» — жаловался он Ермолинскому (9; 94). Истина, которой он служил, не позволяет эстетски или садистически злорадно смаковать ляпсусы великого текста, из издания в издание упорно (и у-порно) перевторяя их. Однако изучать текстуру камня можно только на остывшей и превратившейся в минерал материи, а не на ещё клокочущей лаве.
Текст Романа, напечатанный в пятитомном собрании сочинений Булгакова, изданном в 1990 году, уже позволяет заниматься такой тончайшей «кристаллографической» работой. Грандиозность свершения побуждает с уверенностью говорить о неслучайности каждого элемента произведения независимо от того, произошла ли она прямым умыслом автора или является следствием благого вмешательства Высших Сил. Для такого вмешательства следовало набрать определённый критериум боговдохновенности, чтобы это включение не явилось грубым нарушением установленных свыше же правил игры. Булгаков соответствовал уровню уже в 1927 году, когда начал собирать материал для Романа, тем не менее каждая новая редакция была не просто текстологической шлифовкой целого, а прежде всего повышением планки задания, сложности и ответственности задачи. Мистические университеты Волошина-Флоренского-Шмакова привели к тому, что желание сказать нечто важное человечеству приобрело черты реального творческого замысла. В центре этого проекта стала идея рассказа о Христе очевидца, каковым мог быть в силу бессмертия только сам Сатанаил. Тем более, что время от времени он в той или иной — пусть фантомной (по сути), но достаточно реально визуализированной — форме оказывается на Земле, с которой находится в постоянном контакте в качестве Князя мира сего. Такова мифология европейского человечества, ставшая за последние столетия универсальной. Дьявол, появляющийся в стране государственного атеизма, дважды нарушает «запрет на себя» — как на материально сомнительное и как на «идеологически невыдержанное» нечто. Запрет запретом, а он возьми да и возникни наперекор регламенту и табу.
Категорически посюстороннее сознание мещанина и бытового материалиста воспринимает Булгаковскую историю как цепь психических недомоганий, нервных расстройств и галлюцинаций, чтобы для собственного спокойствия объяснить тривиальным и обыдённым экстраординарное и незаурядное. Мозговой ливер филистера не допускает ничего выходящего за пределы собственного понимания. Нужно это прежде всего для успокоения своей нечистой совести, для скрытия реальных размеров их облачённых в позлащённые мундиры и сутаны ничтожеств. Для них равно неприемлем как непохожий на них Христос, так и непохожий на них Дьявол. Для них не существует всё запредельное, а предел они полагают близ своего измазанного помоями пятака.
Духовное свинство — главный объект сатирического пера Булгакова, мишень (согласно трансцендентному значению имени) его остроумных эскапад. Юмористическая дерзость «поражённого в правах» интеллигента и сомнительные права поражённого реальностью невозможного обывателя — вот те клещи, какими Булгаков впивается в размякшую в самодовольстве нежную плоть мира. Обнажая рыцарский меч слова, он, не колеблясь, встаёт на защиту истины, как и его любимый герой; с ним он самоидентифицировался до конца в финале жизни: «Дон-Кихот. Ну, что же... Я буду сражаться с вами вашим же оружием — языком!» Они, против кого была направлена мощь его иронии, считали себя хозяевами на земле в пределах узурпированной власти. Выяснилось же, что есть некто с названием Князь мира сего, перед коим основательность их посюстороннего владычества оказалась дутой, условной, смешной. Фундаментальные позиции этого распорядка вдруг лопнули, как мыльные пузыри, земные божества брякнулись жалкими раскоряками, судорожно пытаясь сориентироваться во внезапно потерявших привычные очертания положении и значении вещей. Амбициозные претензии смертности неожиданно высветились до глубин в своей патологической безосновательности, а заявки на прогностическую дальновидность оказались пустозвонно-мнимыми. На земле не может иметь места самовластие человека в силу низкого уровня его эволюционного развития, а в космическом целом — никогда в принципе. Человек потому прекрасен, что богоподобен, а не потому, что равняется сам себе (что становится очевидно при ленински-картавом произнесении слова).
Красота и совершенство космоса положены на его гармонии (Garmonia Mundi пифагорейцев), а не на конфликтности, ненависти и вражде, как это измыслили богословствующие политиканы. Мир создан полярно, но эти полюса никак не окрашены этически. Поделённое надвое божественное совершенство наполнило Вселенную полусовершенными элементами, зато они ищут друг друга, стремятся навстречу друг другу, чтобы воссоздать своё прежнее единство в божественной полноте. Этот поиск, это стремление — есть жизнь вселенская и её фрагментом на пороге мира духовного и мира материального является земная жизнь.
Профанное сознание видит картину мира исходя из данных своей материальной агрегатности, почитая её не только высшей из всех возможных, но и единственно сущей. Человеческое рассматривается из кондиций животного, культ стаи (с выспренним названием «народ») и биологическая иерархия стада стали к началу XX века определять самосознание масс. Сила мысли как принцип стала уступать место культу просто силы. Звериное, к чему было некогда привито разумное, восстало против привоя своим тёмным аборигенским естеством. Но что может зверь пред лицом сверхъестественного или хотя бы космических катастроф? — Только забиться в угол и трястись, повторяя заученные некогда бесплодные формулы. Только ритуально сучить ручонкой да умасливать непонятных, но грозных идолов. Только испуганно совать взятки жиреющим на невежестве да цинически разжигающим страх посредникам.
Об этом Роман, и всё это в нём есть, в ярчайшей форме.
Он — о главном. О том, без чего — нельзя. Нехорошо. Недостойно. Это не только Евангелие, т. е. Благая весть, но и Апокалипсис, т. е. Откровение. Это и Книга Жизни, как некогда прочёл слово евангелие Иоанн Богослов, первую часть его переведя ивритским Ева — жизнь. Ибо на смену евангелиям, трактующим о Боге мёртвом, пришло Евангелие, повествующее о Боге живом. Посему от этого рассказа невозможно оторваться.
Уже в первом варианте текста основная и самая невероятная коллизия заключается в том, что сидящий на Патриарших иностранец излагает своим собеседникам «как всё было на самом деле», апеллируя к тому, что сам это видел. Правда, как выясняется, «вещественных доказательств» у него нет, приходится рассчитывать только на силу слова (т. е. на феномен присутствия в рассказе Христа-Логоса). И Булгаков наваливается на эту одиночную вначале Ершалаимскую главу всем своим феноменальным дарованием. Несмотря на высочайший уровень получившегося текста, он правит, шлифует, расширяет и оттачивает его, доводя до такого совершенства, что сегодня знаменитое «В белом плаще с кровавым подбоем» стало лучшим зачином литературных произведений мира. Роман пришлось совершенствовать сразу по нескольким линиям (силовым): по истинности, по ёмкости информации на текстовую единицу, по тотальной трансцендентной пронизанности, по реалистической достоверности, по смеховой насыщенности, по эзотерической самостоятельности в отношении к профанной культуре (вернее — субкультуре), по отстранённости от личной вердиктности по поставленным проблемам, по укрупнению масштабности без потери тонкости в прописывании деталей и...
Сумма текстов всех редакций представляет прекрасную, грустную и поучительную картину: перенасыщенный раствор выпадает кристаллами, а Булгаков всё накладывает и накладывает новые компоненты, не жалея завоёванных позиций, не экономя вещества на другие свершения. Всё, что накопила за жизнь душа, — всё было брошено в МиМ. — И ничего не упало мимо. Никакое коммерческое задание не истребовало бы для себя такого количества совершенств — так может твориться только чистый дар Богу. Что Булгаков достиг библейского уровня ~ несомненно. Если же брать ординарную библейскую сказовость, то её он и превзошёл. Только Достоевский дышал воздухом тех же высот.
Безумно жаль утраченных навсегда вариантов. После фундаментального самосожжения 1930 года он ещё несколько раз фрагментарно уничтожал Роман по разным, не всегда творческим, причинам. Потому жаль, что после МиМ лучшее, что написал Булгаков — это варианты Романа. Тем паче, что исчезли главы более уже не возобновлённые.
Он добился главного — текст МиМ как информационный поток сделался явлением пятого измерения. Он наметил себе вершину — и взял её. Он обменял свою жизнь на самое лучшее, на что только можно было её обменять. Он не получил свободы передвижения, пляжей на Ривьере, не услышал балалаечных переборов своего младшего брата. Зато он получил свободу в небесах и воспользовался ею от души. Были ли Высшие Силы жестоки к нему, не внимая жадным требованиям «дитяти»? — Он же и ответил на этот вопрос: «Иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать судьбу». Исчезновение этой невероятной по глубине сентенции Воланда из окончательного текста является невосполнимой утратой. Это один из принципов законодательства Высших Сил, и это, безусловно, евангелическая фраза.
И главное: когда Воланду предоставляется возможность произнести Евангелие (Благую весть), он рассказывает не о себе, а о Иешуа Га-Ноцри. Как очевидец и как, по проницательному наблюдению Берлиоза, любящий Иисуса Христа, он с ходу создаёт самое достоверное, а потому и самое совершенное из всех Евангелий. — Не искажённое плоскими и корыстными человеческими мозгами.
Итак, в МиМ содержится фундаментальная информация по принципиальным вопросам устройства Мира.
Перед вами его краткое и фрагментарное изложение1.
Триипостасное Божество: традиционная Троица (Её не знает Ветхий завет) — Божественный Отец, Божественная Мать и Божественный Сын — в виде креативного акта вне себя порождают Старшего и Младшего Сыновей (Сыновей Триипостасного Бога). Те, являясь отдельными сущностями, оформляют полярность Мира. Старший сын — Люцифер (Светоносец); Младший — Метатрон (Свет; «Стоящий за троном»). Старшему доверено по-отечески ухаживать за Младшим и носить его. Одновременно, получив разные знаки-заряды (Младший, конечно, плюс, а Старший, по необходимости, минус), Они в созданном по этой структуре многокомпонентном мире осуществляют динамическое развитие — своего рода шахматную игру; белыми, естественно, играет Метатрон, чёрными — Люцифер. Для мира нижних этажей Иерархии Они оформляют своё партнёрство за доской как оппонирование, драматически «раскрашивая» роли. Старшему приходится скрывать свои архангелические кудри за личиной, манифестирующей антропный пентоидный принцип, но в перевёрнутом (для отличия) виде. — И всё. На магните минусовый полюс не является «плохим», а «contra» — на космическом уровне — значит просто «находящийся напротив».
Объективирует эту картину мира ещё один эзотерический ключ — Кабалистическое древо. Оно представляет собой симметрично расположенные в три Колонны десять сефирот (сфер, цифр). имеющих каждая своё название, смысловое качествование и символическое значение:
три правых сефиры (2 — 4 — 7) образуют Колонну Милосердия;
три левых (3 — 5 — 8) — Колонну Строгости;
средняя Колонна из четырёх сефир (1 — 6 — 9 — 10) называется Колонной Равновесия, причём над точкой пересечения с ней соединительного тяжа между Третьей и Четвёртой сефирами «зависает» таинственная дополнительная Одиннадцатая сефира Даат, через неё вся система, наложенная на некую материальную конкретику, трансцендирует в новую мерность.
Так что Булгаковские два Ведомства не «с потолка» взяты, хотя уж точно с потолка гностики. Обратите внимание на внутреннюю развёртку названий Ведомств-Колонн: Воланд проявляет в своих действиях-деяниях не только строгость, но и глубочайшее понимание и возможность прославить «в вышних» (т. е. создать славу, независимую от переменчивых вкусов публики; когда почитают, даже переставая читать). «А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы».
Так же и Колонна-Ведомство Милосердия: Иешуа переполнен мудростью, а победа — греческое НИКА — пишется на всех иконах, изображающих Христа страдающего. Эти качества Главы Ведомства Милосердия прописаны Булгаковым с величайшей выразительностью и тщанием.
Его книга гностически устойчива и абсолютно не фантазийна, ибо положена на многовековых накоплениях знания, познания-любви, а не в дикой сфере культового суеверия, где измочаленные попытками здравомыслия философы-неоплатоники начала нашей эры бросали своё знаменитое «верую, ибо абсурдно».
Из писателей XX века никто так искренне, верно и глубоко не любил Христа, как Булгаков. Он служил Ему, Истине, как преданный паладин, он открывался Ему навстречу всем своим взыскующим подлинности сердцем.
И встреча произошла.
Тогда-то в Москву и засобирался профессор чёрной и белой магии.
Наступила пора принимать экзамен у мастера.
Перед нами запись этого экзамена (реконструкция моя. — ОК).
1. Вопрос: Какова общая структура Романа?
Роман построен по принципу орденской посвятительной лестницы, в память об Учителе учителей имеющей тридцать три ступени, соответствующие гностической полноте Кабалистического древа (двадцать два пути между сефирами, десять самих сефир плюс сокровенная сефира Даат). Соответственно Роман включает тридцать две главы (22 + 10) и Эпилог, являющийся тридцать третьим элементом системы.
Сумма глав разбита на две Части: Часть первая содержит 18 глав, а поскольку 18-й аркан Тарота — Луна, то первая Часть в целом манифестирует лунный принцип. Луна — символическая планета Изиды, покровительницы визионеров и мистиков, мечтателей и поэтов — меланхоликов по темпераменту, романтиков и утопистов по мировоззрению. [По приверженности теме Луны творчество Булгакова напоминает музыкальную поэтику Дебюсси, с которой не совпадает вполне лишь по отсутствию малейшей центрированности у французского композитора.]2 Первая Часть — символический портрет Мастера, начинающий проступать одновременно с появлением Воланда, кого он угадал так же точно, как и всё в своём «романе о Пилате».
Часть вторая, состоящая из 15 элементов (14 глав плюс Эпилог), символически манифестирует Сатанаила соответственно 15-му Аркану Таро. Вторая часть — символический портрет Маргариты, начиная с «солнечной» Девятнадцатой главы, ей посвящённой, и кончая последним, принадлежащим ей высказыванием на пороге Вечного Покоя. Эти четырнадцать глав — своего рода гностический Маргарит, символически раскрываемый рисунком 14-го аркана Время. Поскольку Темперанс-Время манифестировано ещё дважды (в седьмой главе «Нехорошая квартира», номер которой — 50 — соответствует числовому значению 14-го аркана, и в четырнадцатой главе «Слава петуху!», где фактор времени является главной драматической пружиной повествования), общий характер Романа можно определить как «хорошо темперированный клавир в прозе», тем более что темповая динамика и шахматная хронометражность являются главными отличительными свойствами этого текста (см. схему).
Вторая Часть при смысловой компактизации даёт 6 перикоп: 1) гл. 19—24; 2) гл. 25—26; 3) гл. 27—28; 4) гл. 29; 5) гл. 30—32; 6) эпилог, что вместе с восемнадцатью главами первой Части образует сумму в 24 фрагмента текста, соотносимых с 24-мя темперациями-тональностями хроматического звукоряда.
В свою очередь, эта «полноциферблатная» структура соответствует 24-м рунам Футхарка и 24 буквам греческого алфавита.
32 главы помещаются на половине шахматной доски (суммарное поле фигур и пешек обеих сторон изначальной игровой позиции). В этом случае Эпилог располагается на «сгибе» шахматной доски, магической черте, чире народных ритуальных игр. Это подлинно ось превращений, скрепа метаморфоз.
Такая чёткость архитектоники была достигнута не сразу: вначале в Романе было 37 глав, [видимо] хотелось зашифровать возраст автора ко времени начала работы; эзотерическая ясность пришла значительно позже.
2. Является ли структура Романа авторским достижением, только его воле принадлежащим?
Эстетика прихотливости долгое время казалась единственной и сакраментально неприкосновенной; деспотия театральной технологии заставила «быть изящным поглядывая на часы», «быть искренним, не называя вещи своими именами впрямую», «впадать в прострацию мечтательности, не переставая пребывать на стрёме» и т. д.
Постепенно на смену ей пришла другая эстетика: эстетика ясности и точности (в смысловом, а не метафорическом отношении), красота Истины, которая одна является истиной Красоты. Стало понятно, почему «единый план «Ада» есть уже плод высокого гения», по глубочайшему гностическому наблюдению Пушкина, явившего несколько великолепных образцов в этом роде (например, стихотворение «Осень»). Как только эта новая эстетика овладела автором в полноте, началось самодвижение словесной материи, выходившей из-под его пера. Solve и Coagula 15-го аркана срабатывали как природный магнетизм, выстраивая определённым рисунком реактивные на магнитность элементы романного полотна3. Их взаимная «цепная реакция», детонация, контактность поверх «не могу», просвечивание и верификация часто оказывались неожиданностью для самого сочинителя. Без самостановления материала одолеть такого рода сложности едва ли кому бы то ни было по плечу. [Быть гениальным и послушным — редкое сочетание, Булгаков обладал им вполне.]
Автор в русском эзотерическом прочтении это а(з) втор(ой), а первый — Бог. В случае МиМ это особенно явно. Взять на себя больше — невыносимо.
3. Сколько в Романе планов и какова их духовная топология?
Планов всего два: небесный и земной. Небесное обнаруживает себя как постояннодействующее начало, а не просто залегает «до времени» в латентном состоянии. Во всех главах Романа представители Высших Сил взаимодействуют с жителями Земли. И поскольку в 28 из них это Воланд со свитой4, взрывной характер движения повествования четырежды прерывается оглушительной тишиной Ершалаимских глав, где вроде бы ничего «сверхъ-естественного», в Бегемотовом смысле, не происходит, но именно в этом «вакууме» звучат как гром тихие слова Иешуа (адекватизируясь с шахматно-эзотерическим понятием «тихий ход»), кричит «корвана-корвана» ласточка, разрывая перепонки в заплывших от мирского шума ушах. Отсутствие малейшего намёка на трансценденцию в этих главах (даже когда проклинает Бога Левий Матвей) наполняет каждое движение Иешуа, каждое его сказанное в простоте слово авторитетностью и властью Надземного; и что тот самый бродяжка в «застиранном стареньком таллифе» возглавляет (оказывается!) Ведомство Милосердия, не удивляет. Пока ум возится с аргументами, душа уже давно узнала, признала и приветила.
Из своего надмирного далека Иешуа — уже Планетарный Логос — даёт распоряжения о судьбе Мастера и Маргариты, и даже рисунок поведения Воланда и его свиты тоже конституирован Им. Но у Воланда есть и полномочия, «выданные» ему непосредственно Отцом Небесным — это забота о Иешуа, защита Его интересов, лимитирование Его всепрощающего милосердия. Поэтому Иешуа вынужден просить и ходатайствовать перед главой Ведомства Справедливости о том или другом участнике «драмы человеческой истории». И хотя Воланд никогда не отказывает Ему, контрдоводы, обеспеченные волей самого Небесного Отца, порой задерживают исполнение. Стратег Иешуа чувствует конечную победу ангелического в человеке, тактик Воланд урезонивает постоянно прорывающееся наружу звериное в аборигене. Так галактически медленно происходит — взаимодействием чёрных и белых фигур — замысел о человеке, фрагментом которого является Земная школа.
Пока на Земле персонально (воплощённо) действует сам Планетарный Логос, Воланд и его свита присутствуют в визуализированном действе инкогнитивно, анонимно, прикровенно. То мы чувствуем, что кто-то из них — ласточка, то почти узнаём самого под капюшоном Афрания (Толмая), а в одном из ранних вариантов текста Азазелло хвастал, что он самолично прирезал Иуду. Однако постоянно сохраняется чётко выраженная эстетическая данность и творческая заданность: Иешуа — картина, Воланд и его свита — рама к ней. Правильность такой акцентировки и «угадал» Мастер. [Благодаря этому читателю так легко дышится в гностическом интерьере этого текста].
Ершалаимские главы, верифицированные рассказом очевидца, перекрывают по линии духовной достоверности Канонические евангелия. Первым в этом убеждается Иван Бездомный, пытающийся сверить по книжке рассказ профессора: «Но Матфей мало чего сказал о Пилате, и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука же утверждал, что. Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил.
В общем мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось» (7; 107). Более просвещённый Берлиоз отреагировал на рассказ мгновенно: Только, знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, — всё не сводя глаз и всё прищурившись, говорил Берлиоз.
Инженер улыбнулся.
— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней» (7; 234—235; курсив мой. — О.К.).
Настоящее, прошлое и будущее существуют только в структуре линейного пространства-времени.
Крупномасштабное циклическое пространство-время даёт уже круги повторяемости: малые — эпохи (2160 лет) и большие — циклы Миротворного круга (25920 лет, т. е. 2160×12). Это на них намекает профессор (инженер, консультант), рассуждая об управлении человечеством на Земле. Действительно, величина человеческой жизни, её динамика (т. е. изменчивость) не позволяют планировать что-либо даже в пределах малого круга, не говоря уже о Большом миротворном. Логический дискурс иностранца убийствен своей доказательностью, вернее, эзотерической показательностью. Однако «лягушачья перспектива» поэта и редактора, мелкоскопичность их оптики не дают им возможности сфокусироваться на аргументах собеседника и воспринять его доводы как руководство к действию (а следовало бы; сравните с поведением Мастера на очной ставке с тем же персонажем).
Есть ещё высшее, трансцендентное, мифологическое пространство-время; в реалиях МиМ — то, где располагаются оба широкоизвестные ныне Ведомства с их Главами и сотрудниками, их эпицентрами и периферией (знаменитый по Роману Покой). Для профанного сознания, неспособного глядеть «сквозь штакетник забора» (т. е. на панораму за ним), оно этим забором от толпы экранировано, — а значит и не существует (как не существуют для некоторых видов хищников неподвижные объекты). Поэтому вполне можно чувствовать себя — по отношению к Небесам — кошкой, гуляющей сама но себе. [«Кепка и сапоги» — как описывал двумя словами человека толпы Булгаков. «...Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мразы, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар» (49; 133). Профессор Преображенский5, кому принадлежат эти слова, терпит поражение перед лицом крупномасштабности, а о мифологическом пространстве-времени (пятое измерение Романа) и говорить нечего. Убийственная ирония Булгакова по поводу культа связана именно с тем, что существо пятого измерения было «переписано» церковниками языком мирской трёхмерности и даже, для простонародья, доведено до двухмерной олеографии, где зато отыгрались на позолоте и подрисовывании глазок. — Ещё бы, каков приход, таков расход, — а это (для них) главное.
Не правда ли, вроде бы абсолютно ничем не примечательный «бродячий философ» мыслит крупномасштабно: «Я полагаю, что две тысячи лет пройдёт ранее... — он подумал ещё, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной» (7; 113).
Тот, кто был радостью для всех, с Ним общавшихся («Боги, какая улыбка!» — думает Пилат, глядя на арестанта.), был превращён в мрачного экзекутора страшного суда второго пришествия. Профаны и вздыхают с облегчением: «Фу!.. — пронесло», если после катаклизма небеса не разверзаются и никто не нисходит. И это — христиане! Вспомним для сравнения «язычника» Пилата, кто дважды двенадцать тысяч лун беспрерывно и напряжённо ожидает встречи с арестантом, чтобы договорить недосказанное. Когда очередное полнолуние обманывает его, он безутешен. Именно такое, ненормальное, положение вещей побуждает Булгакова взяться за перо глашатая Истины. Только под этим пером всё встаёт на свои места и приобретает правильные пропорции. Поэтому планы в произведении соответствуют реально существующим.]
4. Являются ли Ершалаимские главы самостоятельным «произведением в произведении»?
Нет. [Булгаков разбросал материал Второй главы, увеличив его, на четыре главы окончательной редакции. Ершалаимские фрагменты инкрустированно встречаются и в других главах. Ильф в середине 30-х предлагал Булгакову напечатать Роман бел «древних» глав — тот отказался. Ныне у некоторых недалёких смаковщиков возникает обратное, не менее неприемлемое поползновение: если не публиковать, то хотя бы обсуждать отдельно этот «четырёхглавый» фрагмент.
Но! Совершенство Булгаковского текста заключается в том, что это откровение не только о Иешуа-Иисусе, но и о Воланде-Люцифере. Причём, если (в рассказе) истинные пропорции Иешуа устанавливает Воланд, то истинные пропорции Воланда — Иешуа. Вспомните: «Отпустите его! — вдруг крикнула Маргарита. <...>
...Воланд ответил спокойно:
— Вы опять просите? — Он рассмеялся. — Вы нарушаете уговор!
— За одну луну терпеть сотни и тысячи лун, это жестоко... — сказала Маргарита.
— Это всегда так бывает, — отозвался Воланд, — но я успокою вас. Просить вам за него не нужно. За него уже попросили ранее вас...
— Иешуа! Иешуа! — в восторге закричала Маргарита» (6; 285).
Сентенции, произносимые Воландом, носят абсолютный, «межведомственный» характер. «Всё будет правильно», «рукописи не горят» да и только что прозвучавшее «всегда так бывает» не являются афоризмами-мотто в прямом смысле слова; это, скорее, инвективы, приказы, обеспеченные деяниями, и они не удачно сказанное красное словцо, а подготовленный всей суммой текста сгусток истины, её бессмертный кристалл, выпавший из перенасыщенного мыслью произведения. А «все люди добрые»6 — тот самый кристалл, через который человечество когда-нибудь будет глядеть на солнце.
Откровение о Сатанаиле в МиМ не менее громоподобно, чем откровение об Иисусе Христе. Впервые в художественной литературе, поднятой на вершины эзотерики, прозвучала благая весть о божественном помощнике Планетарного Логоса — Сатанаиле, развернув евангелическое — почти забытое — Иди за мной, сатана.
Нет-нет, за человеческую историю он не отстал от Него ни на шаг. Это он не дал растерзать Его остервенелой толпе; это он сорганизовал Его «поклонников» (евангелические «мужи благоговейные»); это он спас Его руками этих святых людей, чем и обусловлены «посмертные» Его явления...
Но это — уже другая история. Ещё ненаписанной книги.]
5. Если МиМ — евангелие, то каким образом предполагалось его проповедование?
После изобретения Гуттенберга снующие среди толпы апостолы перестали быть единственной формой трансляции трансцендентальных сведений. Правда, оформить Истину широковещательными возможностями печатного слова долго не решались: малотиражность не использовала потенциальные возможности станка, а тиражность, требующая для своей реализации повышенного спроса, досталась преимущественно прессе, которая для поддержания себя «на плаву» должна была постепенно становиться всё более жёлтой. [Этот цвет Булгаков «проработал» детально.] Беллетристика же набирала читателей, делаясь сверх меры занимательной и пикантной.
Соединить высокое с широтой охвата долго никому не удавалось. Но неслучайно корешом Гуттенберга был Иоганн Фауст: магическая сердцевина изобретения постепенно вышла наружу. Гёте недаром потревожил тень великого мага: русские носители орденской идеологии подхватили начинание гениального масона; Пушкин «Пророком» спроектировал Достоевского, а тот своим феноменальным дарованием вывел беллетристику без потери тиражей на вершины мирового гнозиса и духовной культуры. Человек, воспитанный искусством такого рода, был способен не только обучаться, фанатически вызубривая прописи, но на основе привитых навыков, образованного сердца, отточенного ума самостоятельно разбираться в материале. Этих уже появилась возможность экзаменовать, подсовывая им и фальшивые варианты в расчёте на проницательность и методологическую зрелость. Таков уровень подмастерья, и Европа наполнилась странствующими подмастерьями, распевающими свои весёлые песни7. Никогда дотоле не читало с таким увлечением серьёзное такое количество людей. Десятки Преображенского обросли сотнями и даже тысячами, не поклонников, нет — сотрудников. Тогда-то и стали близиться к завершению отпущенные Иешуа человечеству на уразумение ошибочности предыдущего своего блуждания во тьме две тысячи лет.
«Добрые люди... ничему не учились, поэтому перепутали всё, что я говорил» (6; 27).
Это звучит перед вердиктом о двух тысячелетиях.
И хотя объясняет, да, но мало оправдывает.
[Булгаковское «Дикий мы, тёмный, несчастный народ» (16; 60) есть толкование перечислением: дикий, поэтому-то тёмный, потому и несчастный. И без аватарного вмешательства не обойтись. Действительно, потому тёмный, что дикий — или потому дикий, что тёмный? Это излюбленное Булгаковым рондо называется дурная бесконечность взаимных отсылов. Экзюпери зафиксировал нечто подобное в сцене с пьяницей из «Маленького принца». Поэтому абориген модифицируется не уговорами, а долгой благой селекцией. Пилат справедливо указывает Иешуа, что в случае с Иудой Он потерпел поражение. Но — тем хуже для Иуды. Полезность сексота сказалась хотя бы в том, что всё произнесённое Иешуа было тщательно запротоколировано. — И тем самым дошло до потомства. От этой записи Иешуа не «открещивается», как от козлиного пергамента Матвея. — Вот трагедия! — Кто может — не хочет, кто хочет — не может. Высшим Силам всегда приходится решать непростые задачи.
Булгаков, пропагандируя Истину, нашёл ключ к сердцам миллионов. И то сказать — маг слова, «златоуст»8 — почище самого Иоанна.
Дело не только в массовости. Булгаков сделал по ходу дела несколько принципиальных эзотерических открытий, вошедших в мировую гностическую идиоматику, вроде летучего «рукописи не горят», по глубине и популярности («у всех на устах») не уступающего Пушкинскому «Гений и злодейство — две вещи несовместные».]
6. В названии Романа под разными обозначениями до последнего варианта фиксировался Сатанаил-Воланд; почему же в конце концов его там не осталось?
Текст задумывался как «роман о сатане», где дьявол выступал в качестве романтического героя с неограниченными трансформативными возможностями. За густой смеховой завесой должна была скрываться некая философичность в стиле «философских повестей» Вольтера с сатирической осью сатана против сутаны, подводя под последнюю и неокультовую фанаберию гегемона. Главным действующим лицом предполагал быть сам автор, только прикрытый карнавальной маской. Но «чаяновщина» нечаянно начала превращаться из лёгкого ветерка в ураган, маска неожиданно стала оживать, пластика обернулась мимикой, жесть — жестом, шутка — жутковатым фантазмом. Дальше — больше: рождённые фантазией автора персонажи сравнялись по живизне со списанными с натуры московскими обитателями, а потом и превзошли их. Постепенно возникла иллюзия, что евангелие правды может быть произнесено устами Воланда и оставлено в материи Романа как устный текст.
Не тут-то было. Авторская демиургическая фиксация этого текста оказалась эфемерной, а в силу принципиальной фантомности персонажа, несмотря на всю его правдоподобность, и безответственной. Информация такого чрезвычайного значения должна быть написана кровью, и за неё надо отвечать головой. Ответил же головой за дезинформацию Берлиоз...
И тогда настоятельно потребовался внутрисюжетный носитель слова, автор второго порядка «с ограниченной ответственностью». — Так появляется Мастер.
Ещё ранее возникла необходимость в «хозяйке бала» у Сатаны, с ярко выраженными ведьмовскими наклонностями и специфической структурой личности, — капризная, удалая, авантюрная, — одним словом, королева. — Так родилась Маргарита.
Оставалось свести их между собой. Это даже в окончательном тексте получилось слабо аргументированным, хотя для убедительности пришлось прибегнуть к реалиям собственной судьбы. Отсюда возникли невольно спровоцированные «догадки» читателей об автопортретности Мастера, абсолютно не соответствующие действительности. Если бы это было так, Мастер бы появился уже в первом варианте Романа. Мастер же из всех центральных персонажей текста появился последним.
Слабая эротическая мотивированность «любовной истории» болела и ныла до тех пор, пока вся структура произведения не перешла, укрупняя масштабы, в чисто космический план. Мастер — мифотворец и ясновидец, Маргарита — ведьма... «Нуль секса» запрограммирован в Романе так же, как у Достоевского в «Идиоте» в связи с Мышкиным. «Нуль секса» имеет место и в отношениях героини с Мессиром и рыцарями его свиты. Раскручивать любовную интригу на таком отрицательном качествовании очень сложно: Маргарита получает чувственное удовольствие, прижимая к себе и поглаживая возрождённый роман Мастера, который она любила гораздо больше, чем он, и — если внимательно приглядеться — гораздо больше, чем его. Это совсем не эротическая, но агапическая история с креативной начинкой в её потаённом нутре. И посмертное соединение «любовников» опять-таки с «нулём секса» навсегда («Значение слова «навсегда» понимаешь ли?») выглядит абсолютным и полным счастьем для обоих.
Пока шла работа над Романом, они превратились постепенно в символы-олицетворения: она — Солнца, он — Луны. Она вся — активность, энергичность, жертвенность; он — меланхоличность, пассивность, созерцательность. Оттого-то командует всем Маргарита, хотя мэтром считается он. Если такие необыкновенные женщины устают от их подопечных «хозяев» (как правило по естественной причине усталости материала), то горе избраннику — ему никогда не выбраться из брани. [Поэтому Булгаков заблаговременно переводит неустойчивую в равновесном отношении пару по ту сторону бытия. Ведь и Настасья Филипповна стала под стать Льву Николаевичу только «в совершенстве смерти». Интересно, сможет ли Маргарита в Покое печатать под диктовку (как Елена Сергеевна) роман об Алоизии Могарыче, как присоветовал Мастеру Воланд? Связь Маргариты с романом Мастера чисто ситуационна. Если б роман был напечатан и они с Мастером, ставшим знаменитостью, укатили на новые сто тысяч за границу нежиться на пляжах (ну хоть бы рядом с Замятиным), никакая добропорядочность поведения (даже с регулярным посещением церковки) не спасла бы ситуацию от пошлости, а Маргариту — от взрыва.
Другое дело Булгаков и Елена Сергеевна. Он написал Роман не потому что, а вопреки, да и она чувствовала себя за пишущей машинкой увереннее, чем за столиком ресторана. К светской жизни тянулась Шиловская — Елена Булгакова писала «письма на тот свет». Маргарита — это не рисунок личности, а роль; после бала у Сатаны даже Наташа «не желает обратно». «Королева Марго» не может готовить на кухне и подметать пол; ведь Маргариту Николаевну выбирают из других Маргарит только потому (Тс-с! — сказал бы Булгаков, — это пока секрет!), что она стала избранницей Мастера, который написал «роман о Пилате», в тюрьме, которую построил Сосо.
Вот почему — «Мастер и Маргарита». Идеи Романа получили своих материальных носителей, не став «частным случаем» по причине библейской высоты замысла.]
7. Почему мастер безымян?
Долгая конспиративная алтонимность (Турбин, Голубков, Максудов) должна была в момент кульминации выйти на какой-то новый уровень: или орденское священное переименование, или... полную безымянность в атмосфере убойного тоталитаризма. Это сродни молчанию Иисуса на допросах в синедрионе («в ответ Иисус улыбался...»9). Кроме того, анонимность Мастера сугубо публична (Иван — «публика»); невозможно представить, что при знакомстве с Маргаритой он представился: «Мастер. Можно просто: Мася».
Есть во всём этом более важный трагедийно-автобиографический момент: затравленный «цепными псами» режима бывший историк боится своего имени как сигнала к мгновенной атаке на «воинствующего старообрядца» (быстрота, ярость и первенство в нападении шли в зачёт при получении мзды). [Из этих же соображений Булгаков пытался опубликовать «Манию фурибунда» под псевдонимом К. Тугай; но уже тогда он понял: как ни тужься — всё напрасно. Его вынюхивали, выведывали и вычисляли с тщанием, намного превосходившим его потуги.]
Это не конец.
В аспекте русского прочтения слова автор как аз второй (я — втор), Мастер всё более убеждался, что он только орудие и исполнитель, своего рода «скрипка Страдивари», тогда как подлинными «сочинителями» являются представители Высших Сил, от Них и высота, и глубина, и ёмкость произведения. [«Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло» (16; 274; курсив мой. — О.К.). А почему — за горло? Потому что тянуло благоденствовать и благодушествовать, вести светскую жизнь, бражничать и острить с гостями. — Разве такова жизнь для избранников и пророков, призванных и наделённых даром? Харизма — греческое слово, а не русский вульгаризм. — Деваться некуда, оставалось лишь соответствовать. Самоотверженное служение означает полную потерю себя, в том числе и своего имени. Вопль «Бог знает!» — об этом.]
8. В Романе много музыкальных аллюзий. Почему?
Музыка — это игра чисел, а не холодный дискурс, как математика. Музыка — идентификат волновой структуры мира и её манифестация. Музыка — совокупная игра муз, их проявление.
«Санчо. Куда вы смотрите, сеньор?
Дон-Кихот. На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселенной, создатель музыки и врач людей» (6; 396; курсив мой. — О.К.).
Перед нами огненный гимн, играющий бликами в медных; одновременно и засурдиненное пиано процеженного сквозь вату тишины лунного света. «Музыку нельзя не любить. Где музыка, там нет злого». Это тоже Дон-Кихот.
Как же — без музыки?
[О юношеском увлечении музыкой, желании стать оперным певцом уже говорилось. В детстве Булгаков освоил рояль, учился игре на скрипке. О закатных его годах: «Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив... Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижёра» (36; 638).
Выразительна музыкальная партитура к «Бегу»: «Глухой хор монахов из подземелья, многокопытный топот, мягкий удар колокола, нежный медный вальс, под который уходит конница Чарноты, лязганье, стук, страдальческий вой бронепоезда и могильная тишина, нежные голоса поющих телефонов и оглушительный их треск, ария безумного Германа из «Пиковой дамы» и «странная симфония» Константинополя, в которой «Светит месяц» сплетается с турецкими напевами, теноровые крики продавцов лимонов и вторящие им басы разносчиков буйволиного молока, залихватские марши гармоней и тихие капли падающей воды, шарманочная «Разлука», голос муэдзина, летящий с минарета, и хор, распевающий песню о Кудеяре-атамане...» (52; 177).
Раскрытый на рояле клавир «Фауста» стал эпиграфом ко всей жизни Булгакова. Шервинский обольщает Елену бесконечными фиоритурами из «Демона» Рубинштейна. Де Бризар заходится на «трёх картах» из «Пиковой дамы» Чайковского, а Козиха в Москве утопает в звуках вальса его же «Евгения Онегина». Фанфарон Хлестаков оглашает «криком медных» страницы сценария «Ревизора», а МиМ по существу представляет собой классический концерт для Фагота с оркестром (в одном случае — и хором).
Роман построен на комбинации мажора и минора. В качестве первого (в понятийном плане) выступают Большие (Мажорные) арканы Таро; в качестве второго — минорные, малые: четыре «картинки» четырёх мастей (король, дама, рыцарь, валет) и номерные — от единицы (ас — туз) до десятки. 37 глав первого варианта Романа включали идеографическую полноту Тарота: 22 Мажорных аркана + 4 картинки «хозяев» мастей (король жезлов, дама чаш, рыцарь мечей и валет динариев-пантаклей) + 10 номерных карт соответственно десяти сефирам Кабалистического древа + секретная сефира Даат. Всего 37 структурных единиц.
Есть ещё и фамилии композиторов, в обилии разбросанные по страницам Романа, во главе с Берлиозом и Стравинским. Кучно они «положены» на балу у Сатаны, но музыка Шуберта, как камертон Вечного Приюта, как абсолютная мелодика Покоя, перекрывает собой всё. Если же учесть, что среди сочинений масона Моцарта были три (B-dur, B-dur, C-dur) концерта для фагота с оркестром, а редкостный в то время инструмент, контрфагот, он включил в свою Траурную масонскую музыку (К 477), то музыкальная константность Булгаковского творчества становится самоочевидной. Правда, юмор и сатира плохо вяжутся с торжественным мелосом классики10; на этот случай у «писателя из Киева» был припасён фокстрот «Аллилуйя», с ним, своего рода курьёзным ручным монстром, Булгаков прошагал всю свою жизнь.
Не надо забывать, что как драматург, сценарист и либреттист он был погружён в стихию живой музыки. С ним общались, договаривались о сотрудничестве и вступали в рабочие отношения Прокофьев и Шостакович, Шебалин и Асафьев, Василенко и Глиэр, Дунаевский и Соловьев-Седой, Самосуд и Мелик-Пашаев. С ним, через посредников, вёл переговоры Алессандро Моисси, гениальный мастер мелодекламации и сценического речитатива, лучший исполнитель специально для него поставленной музыкальной монодрамы по «Фаусту» Гёте. Моисси мечтал сыграть Булгаковского Мольера.
Музыкальная терминология в текстах Булгакова не экстравагантное включение, а важный понятийный инструмент, позволяющий расширить поле серьёзных гностических проработок. Синкопы и вальсирование — целые темы Булгаковского образного хозяйства. Главный дирижёр драматического театра Ликуй Исаич, знающий что такое пони-мать с полуслова, атакует начальство ответной услугой «по ещё восходящему мячу». Это — высший класс пластической живописи в стиле «холуй».
Воланд появляется в Москве в виде некоего вальяжного, «всемирного» бассо-профундо в сопровождении вертлявого регента, в задачи которого как бы входит постоянно и повсеместно набирать хозяину для аккомпанемента — хор и для аплодисмента — публику. Эта музыкальная компания с шубертовским репертуаром почему-то оккупирует для своих выступлений московскую телефонную сеть, предпочитая давать публичные концерты без напряжения голосовых связок.
Есть и музыка для мужика. Ансамбль гармонистов пилит воздух на балу у Сатаны «Светит месяцем»; он прибыл прямиком из Константинополя, где оглашал воздух, глуша муэдзинов, во времена «Бега». «Ликуй Исаич-два» из Варьете является лучшим в мире исполнителем симфонического переложения известной песни «У самовара я и моя Маша», что он и демонстрирует в заключение «сеанса чёрной магии» по убедительной просьбе факиров.
И совсем уже сюрреалистично во второй половине 30-х годов знакомыми четы Булгаковых стали супруги Любовь Орлова и Григорий Александров с их сногсшибательным «Нам песня строить и жить помогает» — ну, в общем, весёлые ребята. — Бог сподобил, Коровьев помог. Музыки в доме прибавилось.]
9. Случайно ли появление в Романе шахматной темы?
Шахматы как гностический код давно привлекали внимание орденской мысли. Мистика 64-х клеток, символики и игрового достоинства фигур, математики системы ходов, почти бесконечное разнообразие игровой комбинаторики сообщают им тот элемент сверхреального, что издавна делал чатурангу-шатранг-шахматы атрибутом мудрецов, мыслителей, кудесников, магов. Китайские «шахматные домики» представляют часть гораздо более высокой и изысканной культуры, чем «домики для чайной церемонии» (почему первых нет в маргинальной по отношению к «бастиону совершенномудрых» Японии). Шахматы — игра атлантов, и поэтому известна в Египте со времени основания (судя по изображению их на росписях, рисунках на папирусах, графитти). [Булгаков чувствовал эту тайную мистику игры, любил её и с ранних пречистенских времён имел несколько постоянных партнёров. В 20-е годы игра в шахматы была признаком аристократичности, почти единственно дозволенным официально, каким ещё можно было выделяться в унылой среде гегемона, играющего в примитивные простонародные шашки. Отсюда булгаковская ирония по поводу «графа» Николая Николаевича (пречистенского его приятеля Н.Н. Лямина) и комическое сопоставление его с «поли-графом» Шариковым.
Что касается эзотерики, то шахматы имеют несомненную связь с минорными арканами Тарота в семантике и расположении фигур. Но главное в шахматах 64-клеточная доска-насик, её невероятные гностические возможности пока исследуются. В советском государстве шахматы оставались единственной «гностической машиной», пользоваться которой было непредосудительно. Эксперименты Булгакова со спиритизмом едва не кончились для него плачевно, а приятели, участвовавшие в «сеансе», постарадали, несмотря на пародийный характер всего предприятия. На шахматах он «отводил душу» (упражняясь в роли Вергилия; в этом амплуа он выступает с 40-го года и до сих пор).
Так, занося руку с конём для очередного хода, он вдруг задумывался о том, как непрямолинейно и неординарно трактует рыцарское поведение эзотерика в отличие от тупого профанного стереотипа «закованного в латы колуна». И в «Дон-Кихоте» появляются следующие сентенции:
«Дон-Кихот. Ах, как я рад, что дело кончилось благополучно! Ты был на волосок от смерти! Очень хорошо, что ты догадался сдаться! В отчаянных положениях самый храбрый бережёт себя для лучшего случая.
Санчо. Я — храбрый, но я сразу догадался, что нужно сдаться...» (6; 339).
А спёртый мат? — Положение, когда «осталось только материться»? Булгаков испытывал его на себе несколько раз. Отрывок письма к брату Николаю 24 августа 1929 года: «В сердце у меня нет надежды. <...>
Вокруг меня уже ползёт змейкой тёмный слух о том, что я обречён во всех смыслах.
В случае, если моё заявление будет отклонено (о выезде за рубеж; так и случилось. — ОК), игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить.
Мне придётся сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут.
Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдёт чуда. Но чудеса встречаются редко».
И так далее. Шахматное прочтение некоторых заезженных слов и понятий позволяет найти эзотерический ход в казалось бы глухой стене. Например, выражение едва-едва: движение с прохвалой, ленцой, но всё же движение. — Неправда! — На самом деле e2-e2 — псевдоход, поднятая и опущенная на место фигура, невозможная по правилам игры вещь.
Так что «подкованность» в «ходе конём» сыграла в творчестве Булгакова огромную роль.]
10. Какова в структуре Романа природа зла и каковы условия его бытования?
В естестве человека соединены разнородные начала: дух и косная материя, звериное и ангелическое. По условиям креативного производства при низком творческом статусе художника изначального материала должно быть намного больше (в десятки и сотни раз), чем конечного продукта — для возможности реализовать прихотливость и свободу выбора. Это только до поры. Когда свинство в человеке будет до конца изничтожено и он перестанет затаптывать перлы в песок, предпочитая им тёплую навозную жижу, тогда мы увидим в алмазах не только всё небо, но и всю землю. Земной творец станет брать для работы первый попавшийся под руки кусок материала, ибо в дело будет годиться каждый — и все. Случится это не ранее, чем великий тезис Иешуа «все люди — добрые» эволюционно — для масс, но революционно — для индивидуальностей приведёт к наполнению понятия ВСЕ реальным содержанием.
Пока же Его невероятный завет читается так: только все добрые на земле — люди. Тогда — «царство божие среди нас» (людей). Значит, лишь «мужи благоговейные» собственно люди, остальные — недочеловеки, или прямая нелюдь. Не удивительно, что они не добрые. То есть злые. Иуда это подтвердил, а своим человекообразием ввёл в заблуждение даже Великого Провидца. Вернее, Провидец исходил в своей доверительности при беседе из финальной ситуации, именно там был сфокусирован Его взгляд. Дальнофокусность и обличает в нём Главу Ведомства Милосердия. Он смотрел не на, а сквозь Иуду. И видел один свет.
Пока квазиантропосы жируют на фоне мучащихся собственно людей, они, нагло похлопывая себя по ляжкам, говорят об «умении жить». Когда же неленивым избранникам судьбы Высшие Силы раздают «золушкино приданое», мразь (по Преображенскому) от злобы стирает зубы до дёсен. Поскольку «блага» преходящи, а «хрустальные башмачки» нет, то шариковы вечно чувствуют себя обманутыми, требуют сначала «справедливости по-Швондеру», затем, проев поделённое, сохранённое «непьющими» всё снова переподелить. Пусть, сволочи, делятся по-братски». Это — зауряд, обыдёнщина, злоба дня.
Однако ни в природе, ни в небесах никакой злобы нет. Хищник поедает то, что ему предназначено экосистемой и терпеливо ждёт, пока эволюция сделает его вегетарианцем. Приматы, медведи и некоторые другие виды всеядных хищничествуют только при крайней необходимости. Они уже «дышат в спину» человеку, ревниво поглядывая на него.
Небеса же недаром испоконно называют космосом, т. е. красотой упорядоченности (неслучайно издавна существует понятие Гармонии Мира), чтобы в них подозревать грязные кухонные перепалки, так ядовито прописанные в Романе. Вспомним сцену в кухне:
«Маргарита... прислушалась, что говорили две домохозяйки.
— Вы, Пелагея Павловна, — грустно покачивая головой, говорила та, что кашу мешала, — и при старом режиме были стервой, стервой и теперь остались!..
— Свет, свет тушить, тушить надо в клозете за собою! Тушить надо, — отвечала резким голосом Пелагея Павловна, — на выселение на вас подадим! Хулиганьё!
— Пельмени воруешь из кастрюль, — бледная от ненависти, ответила другая, — стерва!
— Сама стерва! — ответила та, что якобы воровала пельмени.
— Обе вы стервы! — сказала Маргарита звучно.
Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита повернула краники, и сразу оба примуса, зашипев, умолкли.
— Ты... ты чужой примус... будешь тушить? — глухим и страшным голосом спросила Пелагея Павловна и вдруг ложкой спихнула кастрюлю соседки с примуса. Пар облаком поднялся над плитой. Та, у которой погибла каша, швырнула ложку на плиту и с урчанием вцепилась в жидкие светлые волосы Пелагеи Павловны, которая немедленно испустила высокий крик «Караул!». Дверь кухни распахнулась, и в кухню вбежал мужчина в ночной сорочке и с болтающимися сзади подтяжками.
— Жену бить?! — страдальчески спросил он и кинулся к сцепившимся женщинам, но Маргарита подставила ему ножку, и он обрушился на пол с воплем.
— Опять дерутся! — провизжал кто-то в коридоре, — звери!
Ещё кто-то влетел в кухню, но уж трудно было разобрать кто — мужчина или женщина, потому что слетела кастрюля с другого примуса и зловонным паром как в бане затянуло всю кухню.
Маргарита перескочила через катающихся по полу в клубке двух женщин и одного мужчину, схватила щётку, ударила по стеклу так, что брызнуло во все стороны, вскочила на щётку и вылетела в переулок. Вслед ей полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль «Зарежу!» и хрустение давленного стекла» (7; 345—346).
Комментарии, как говорится, излишни.
[Материализуясь, духи злобы, исходящие от неразумно себя ведущего «человека разумного», образуют агломератно составленных фантомных, но абсолютно реальных «духов зла» (вроде чайного гриба в спитом чае). Кроме того, есть своеобразные «духи стихий», чья время от времени возникающая активность (без малейшего «злого умысла») бывает для живых существ катастрофична (извержение вулканов, землетрясения, ураганы, засухи, эпидемии и т. д.). Есть притяжение бездны, риска, жребия, азарта, куража, действующие на душу человека, как загар на кожу. Есть лярвические уродцы посмертно «несостоявшихся», бескрылых духов, весёлые из них шкодничают полтергейстами, а унылые являются привидениями. Есть люди, обвыкшие в зле, закосневшие в нём, тогда им присваивается наименование «нелюдь», как цветам без завязи — пустоцвет. Конечно, это не суд, а только рассуждение, но история подтверждает справедливость такого вердикта, изобретённого для лучшей общежитийной ориентации. В конечном счёте энергия зла распадается и в этих душах, хотя период их даже «полураспада» слишком велик. Приходится Воланду проветривать эту траченную «бемолью» заваль, терпеливо избывая их остаточную злоботу. Что делать... — Сказано: все люди добрые. По ту сторону бытия это должно же быть реализовано! Необходимость заставляет глотать псифилис реверансов и терпеть буффонадно-лихорадочный бал.]
11. Какова в аспекте МиМ духовная топология мифологического пространства-времени?
Это не открылось, а только приоткрылось автору. И вот что можно сказать по поводу увиденного.
Два Ведомства перекрывают собой традиционные условные наименования Inferno и Paradiso, оставляя Покою «ничейную полосу» Purgatorio (для гностических её преобразований ортодоксальная мифология в силу убожества вообще не годится). Основное отличие двух структур — принципиально. В Дантовой модели главы «отсеков» обладают лишь номинально заглавной функцией, тогда как Главы Ведомств Романа активно взаимодействуют с земным бытием, интересуются новостями и реагируют на них, т. е. поступают как деятели. [Сравним хотя бы торчащего как пень Люцифера Inferno с деловитым и собранным Воландом МиМ, и одно это сделает ясной картину. Иисус Христос, читающий с интересом в своём надмирном положении свеженаписанные литературные опусы — такое ещё не творили человеческое воображение и рука. Но с какой радостью откликается на это человеческое сердце, как мгновенно узнают-верифицируют это человеческий разум и душа! И дело не только в гениальной интуиции Булгакова, но и в расстоянии, пройденном нами, людьми, на встречу с Тем, кого мы так опрометчиво и дико в своё время не признали. — Газет он, конечно, не листает, но «рукописи, которые не горят» изучает внимательно. Одно слово — Пастырь Добрый, а не позирующий в президиуме или в окладе набоб на о-очень большом окладе. Ничего выспреннего, тщеславного, подозревающего, мстительного. Нет, такого, с сердцем наружу, безусловно, надо охранять, заботиться и лелеять. — Спасибо Воланду & Co. Воистину, Свет Миру требует тщательного ухода, а от людей — не дождёшься, каждый занят своей керосинкой.]
Поэтому Ведомство Милосердия, в отличие от рая, не мемориал, не пантеон — бесконечные ряды позлащённых тронов с восседающими на них «всеми святыми», просто тронуться можно от этой картины! — А ведь именно так выглядит рай на фресках Дмитровского и Успенского соборов во Владимире. Изощрённейшая мысль изографов-богословов ничего не смогла изобрести поверх этой монотонности и статуарности. Правда, «дяденьки» раздувают ноздри и сверкают глазами... но дальше что? Обязательно должно быть это самое «дальше», иначе получается, что жизнь продолжается уже без них. Продолжается себе как ни в чём не бывало. А это говорит о многом.
Интересна структура Ведомства Справедливости в духовной архитектонике Романа. Во-первых, у Воланда-Люцифера есть несколько помощников, выполняющих функции «действующих замов». Это главный церемониймейстер Фагот, он же отбывающий епитимью за неудачную шутку рыцарь, исполняющий эту должность временно. Возникает естественный вопрос: жив этот «фиолетовый рыцарь» или уже мёртв? В аспекте символической логики повествования грех его невелик (т. е. не является оскорбительным кощунством против возлюбленного Сына Божия Люцифера), но тем более досаден как проявление непонимания подлинного положения вещей в духовной сфере. В отличие от Мастера, кто свою «слабину», страхи, неуверенность, отступничество от романа будет избывать в Покое, находящемся, судя по репликам, в ведении Сатаны-Люцифера, «фиолетовый рыцарь» проходит своё послушание в густоте вечного земного карнавала, совсем не забавного, если в мирскую суету не брошена закваска Коровьева и Бегемота.
Есть у Воланда и охрана, и сразу же возникает вопрос: от кого надо его охранять, и кто в принципе может ему повредить? Нет, не киллеры (смешно говорить!), а попрошаи и кляузники, т. е. огромная рать докучливых посетителей, по-хамски «не по чину берущих» и нарушающих, по давнишнему остроумному замечанию Булгакова, «тринадцатую (!) заповедь: без доклада и крайней нужды — не входи!»11
Этим — сохранением суверенной тишины и покоя вокруг Мессира, а также выполнением разовых поручений — занимается заместитель начальника охраны Азазелло. Расторопен, услужлив, понятлив, хоть и, вроде, простоват и грубоват; выполняет также роль повара в свите Воланда. Шеф охраны Абадонна обременён совсем другой работой: стоит на страже самого принципа Ведомства — справедливости. Он блюдёт баланс при взаимном уничтожении враждующих половин человечества, неся бремя в основном экзекуторских функций. Он исполняет приказы Иешуа, поступившие на имя Воланда и ставшие потом его распоряжениями своим подчинённым. [Булгакову аккомпанирует Сервантес: «Пусть каждого убивает его судьба или Бог, создавший его». Этот афоризм автор МиМ выписал, готовясь к компоновке своего «Дон-Кихота».] Абадонна — весь в хлопотах, в разъездах, всё время занят и едва находит время для посещения «бала ста королей». Знакомство с ним Маргариты — счастливая случайность. Постоянно находятся при Воланде лишь Бегемот — паж, Азазелло — повар (и охранник) и Гелла — служанка. Причём Азазелло — это стихия огня, о чём свидетельствуют его рыжина и работа у плиты, а Гелла — мир холодной полночи, негреющего лунного света, могилы, воды, льда. Паж же помещается как раз посередине — это зыбящаяся, играющая, неуловимая, лёгкая, изменчивая стихия воздуха, вздоха. В аллегорическом смысле Воланд, сопровождаемый Бегемотом, как бы вечно «возлежит на воздусях» забавных импровизаций, шуток, смеха (в отличие от натужной библейской выспренности культа) и поэтому чрезвычайно близок гуманистической сердцевине мира, как, впрочем, и положено быть Князю мира сего.
12. Какова основная гностическая характеристика Романа?
МиМ — это трактат о карме, законе причин и следствий, поступков и воздаяний за них, заданий в аспекте прохождения Земной школы и учёта успешности их выполнения. Это — повествование о необходимости беспрерывной работы души для неукоснительного осуществления божественного замысла о человечестве в ключе изначальной заданности его богоподобия. Это — тестамент совершенствования человека по пути от зверя к ангелу, чему посвящена вся идеология Третьего Завета, Завета Духа Святого. [О чём ещё мог писать «божий Голубков», как не об этом?]
Сила иронии и образной выразительности направлены у автора МиМ на то, чтобы отделить чистую материю человеческой души от тёмных и пошлых деяний, совершаемых под руководством плотского рассудка и эгоистических животных интересов. Недаром Высшие Силы обставили бескорыстие на земле антуражем нищего неудачника, идиотизмом социального аутсайдера. Профанная очевидная выгодность добра и самоотверженности создали бы давку и толчею недостойных в этом святая святых мира. Поэтому и воздаяние — лишь на небесах, среди своих и адекватных.
Постижение — это научение правильности выбора при наличии нескольких вариантов, из которых все, кроме одного, фальшивы. И приходится команде Воланда изготавливать эти маски по макси. Ленивые примитивы сразу злобно начинают шипеть: «отец лжи», «лукавый», «обезьяна Бога»... Конечно, им хотелось бы, чтобы на поверхности лежал один вариант и сразу правильный. «А то — что это за издевательство на самом деле?!» — Не тут-то было! — Дорога сквозь враки — дорога в рай. Ибо только это — дорога научен и я; всё остальное — необязательный болтливый променад.
Слишком сурова и ограничена во времени школа, слишком велик Учитель, чтобы экзамен превращать в фарс поддавков и послаблений («послаб» лени). Мастер «подскакал к Воланду ближе и крикнул:
— Куда ты влечёшь меня, о великий Сатана?
Голос Воланда был тяжёл, как гром, когда он стал отвечать.
— Ты награждён. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа... Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил» (7; 327, курсив мой. — О.К.).
Как необыкновенно это русское награда: перед лицом Высших Сил (сумма «команд» обоих Ведомств) человек наг и рад произносимому по его поводу вердикту, ибо любое решение Бога и ближних Его — благо. И ещё: судьба — благо, ибо моя (фр. car ma); то, что думают и говорят о нас Высшие Силы — это единственное наше достояние во Вселенной, единственное, что нетленно. Это и есть наша судьба — суд Ба и суть Ба12.
«Лагранж (приходит к себе..., разворачивает книгу, говорит и пишет). ...В 10 часов вечера господин де Мольер, исполняющий роль Аргана, упал на сцене и был похищен без мучений и покаяний неумолимой судьбой. В знак этого рисую самый большой крест. Что же явилось причиною этого? Что? (Думает.) Как записать? <...>
Причиною этого явилась — судьба. Я так и запишу» (6; 326).
[Булгаков сам неоднократно вспоминает это слово. В письме сестре 1921 года: «Не удивляйтесь моим скитаниям... Ну и судьба! Ну и судьба!» Затем в «Необыкновенных приключениях доктора»: «За что ты гонишь меня, судьба?!» И почти слово в слово в «Беге»: «Голубков. ...Судьба! За что ты гнетёшь меня?»]
И так далее.
Отсюда: «иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать свою судьбу». Случай с Берлиозом это ярко демонстрирует.
13. Является ли случайной и локально связанной с одной Маргаритой тема перевоплощения?
Уже в самой разработке понятия вопрос поставлен шире: как тема крови. И если в фольклорном смысле кровь является понятием этническим, то в персоналистском — аристократическим. Древний народ с устоявшимся набором признаков-качеств — нечто столь же определённое, что и древний род с ограниченным набором перемешивающихся элементов. Поэтому Габсбурги имеют вытянутые, как на портретах Веласкеса, физиономии, а рыжая борода Фридриха Барбароссы оставила огненный след в генофонде европейской истории. Это и есть знаменитое слово порода, им так гордятся его носители несмотря на явно зоологический оттенок. Перевоплощение — не просто выскакивание одних и тех же карт при тасовке колоды. Реинкарнация — «возвращение на круги своя» библейских пророков, она вращение колеса эволюции, когда наиболее удачные сорта растений превращаются из сезонных в многолетники с полным сохранением при многотрудной генетической работе природы и индивидуальных достижений отдельных личностей. Земная школа — отнюдь не однолетка, начинать каждый раз всё по-новой — «нет, это, братцы, о другом». Это не просто тренинг с никого (из Высших Сил) не интересующим результатом, вроде прошлогодних детских тетрадей с диктантами. Чтобы «рукописи не сгорали», надо чтобы текст был серьёзен, важен и интригующ для Высших Сил. Вселенная — не просто монотонное перекатывание стекляшек в калейдоскопе, она есть обратное движение к Богу с накапливанием достигнутого и фиксацией его во избежание ретроградных срывов.
Вопрос переселения душ — важнейший из опекаемых и решаемых обоими Ведомствами.
Кроме того, — продолжал Воланд, и в комнату неслышно вскользнул тот траурный, что преградил было Маргарите путь в спальню, — Абадонна. Командир моих телохранителей, заместителем его является Азазелло. Глаза его, как видите, в тёмных очках. Приходится ему их надевать потому, что большинство людей не выдерживает его взгляда.
— Я знаком с королевой, — каким-то пустым бескрасочным голосом, как будто простучал, отозвался Абадонна, — правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года» (6; 195).
Иван Бездомный вдруг вспоминает свою прошлую жизнь в виде Иванушки-верижника, причём Василий Блаженный и Николка Железный Колпак не то его кореши, не то псевдонимы. Мелькает ещё один реинкарнат: «Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель.
«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин»...» (7; 241).
Имеется в виду послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами и в нём такой пассаж: «Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметьев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое».
[Аллюзии на время Ивана IV чрезвычайно часты в творчестве Булгакова, не говоря уже о пьесе «Иван Васильевич», ему полностью посвящённой. Судьба эзотерика на троне привлекала автора МиМ по самым разным сюжетам и темам, но по преимуществу с орденской стороны. Идея перемещения во времени и исторической реальности при помощи «машины времени» невольно рождает анекдотические коллизии, обильные в такого рода происшествиях. Комична и встреча персонажа со своим предыдущим воплощением.
Себя Булгаков считал перевоплощением Гоголя. Многое было «за»: киевское происхождение, любовь к гротеску и чертовщине, некоторые черты в физиогномике, фигуре и стати, болезненность и меланхоличность... «Писатель из Киева» — это звучало совсем по-гоголевски, несмотря на пренебрежительный оттенок в устах пречистенских «аристократов». Наиболее политесные и дальновидные не гнушались польстить «провинциалу» с поистине макиавеллиевской дипломатичностью: «Миша спросил — «но я, не похож на Достоевского?» На это Петя ответил — «Никак! Вы похожи на Гоголя»». Ещё бы! И «Похождения Чичикова» написал, и «Мёртвые души» инсценировал, и «Ревизора» в сценарий переделал, и «отцом» и «учителем» звал... Были и отличия капитальные. Гоголь был анахорет и аскет, Булгаков — наоборот: и женолюб и гурман. (В сентябре 1939 года Б.В. Шапошников навестил смертельно больного приятеля. «Я вошёл..., окна были занавешены, на М.А. были чёрные очки. Первая фраза, которую он мне сказал, была: «вот, отъелся я килечек» или «ну, больше мне килечек не есть». Это были воспоминания о застольях на Пречистенке».) И винцом баловался, чего Гоголь себе не позволял. И всё-таки «аптечный пафос», брезгливость, болезнь и медленное умирание — один к одному. О мистическом путешествии «голгофы» уже было сказано. Даже письмо в правительство (за счёт обильных цитат) шло за двумя подписями.
Так что и в данном случае «вопрос о переселении душ» не стал бы дискутироваться слишком долго.]
14. Что из себя представляет рисунок полевой структуры Романа?
Биполярность, представленная в алтарях древних храмов двумя колоннами (белой и чёрной — Йакин и Бохас Тарота), намекает на полноту истины, поделённую в пределах сотворённого мира на контрастные, но взаимодополняющие половины. Рисунок шахматной доски наиболее чётко соответствует этой великой идее, предоставляя шанс для внутренней игры, т. е. постоянной перегруппировки возможностей. Речь идёт о движущихся по поверхности доски шахматных фигурах, в свою очередь окрашенных на два. При учёте значения каждой клетки (в аспекте их гексаграмматиче-ского соответствия) и каждой фигуры динамика игры образует чрезвычайно сложный перенасыщенный символизмом текст, связность которого (поверх прихотливой вязи алеаторических намёков) ещё никогда никем не была прочитана. Свёрнутая в порождающую пару инь-ян система эта приобретает динамические характеристики взаимодействия и взаимообратимости мужского (ян) и женского (инь) начала во Вселенной. В русской языковой структуре они передаются словами синь и изъян (с инь и из ян). Инь, лукавое, изменчивое, ускользающее — женское начало; ян, твёрдое, простовато-лапидарное, остойчивое, верное — мужское. Пара инь-ян выявлена ещё в раннем варианте Романа: «Одного из двух, первосвященник, тебе, согласно закону, нужно будет выпустить. Благоволите же указать, кого из двух — Вар-Раввана Иисуса или же Га-Ноцри Иисуса. Присовокупляю, что я настойчиво ходатайствую о выпуске именно Га-Ноцри. И вот почему: нет никаких сомнений в том, что он маловменяем, практических же результатов его призывы никаких не имели. Храм оцеплен легионерами, будет цел, все зеваки, толпой шлявшиеся за ним в последние дни, разбежались, ничего не произойдёт, в том моя порука. Vanae voces popule non sunt crudiendo. Я говорю это — Понтий Пилат. Меж тем в лице Варравы мы имеем дело с исключительно опасной фигурой. Квалифицированный убийца и бандит был взят с бою и именно с призывом к бунту против римской власти. Хорошо бы обоих казнить, самый лучший исход, но закон, закон... Итак? (Пожалуйста, ян! — ОК)
И сказал замученный чернобородый Каиафа:
— Великий Синедрион в моём лице просит выпустить Вар-Раввана.
Помолчали.
— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну: — Повтори мне, первосвященник, за кого просишь?
— Даже после твоего ходатайства прошу выпустить Вар-Раввана.
— В третий раз повтори... Но, Каиафа, может быть ты подумаешь?
— Не нужно думать, — глухо сказал Каиафа, — за Вар-Раввана в третий раз прошу.
— Хорошо. Ин быть по закону, ин быть по твоему, — произнёс Пилат, — умрёт сегодня Иешуа Га-Ноцри» (А вот и инь!) (7; 223—224).
[Как потрясающе разыграно смысловое наполнение контрастных понятий! Две опорных фразы содержат два прозрачно упакованных знака, Булгаков не боится ввести в речь римского прокуратора русское фольклорное ин (первый слог ещё более «квасного» undo) — так ему важно донести свой эзотерический месседж.]
Трижды ходатайствует (повторяя слово) Пилат за Иешуа и трижды отвергает его первосвященник. Вспомните, как по первому же ходатайству Иешуа выполняет Воланд-Сатанаил Его просьбу относительно Пилата.
Так кто же — средоточие зла?!
Фальшивый мифический «дьявол с рогами», пугало для прихожан, является всего лишь коллективной проекцией всех первосвященников, тенью их «рогатых тиар» — «он, друг душевный всех религиозных изуверов, которые затравили великого философа». Вот кто главное скопище ненависти, злобы и лжи. Он поощряет торговать индульгенциями, манипулировать свиньями по своему усмотрению и не моргнувши безудержно врать.
15. В аспекте финального свершения жизнь Мастера представляется определённым путём; какова идея пути в Романе?
Целеустремлённое желание полного самовыражения и порыв личности к истине, к познанию подлинной картины мира за пределами клишированных пропагандистских суррогатов, приготовленных «кастой правителей» для быдла, привели привата Голубкова (он же — доктор Турбин) к попытке творчески переосмыслить фундаментальную для европейской культуры мифологему Христа и квазиисторическую панораму Новозаветных событий. Однако сила воображения, уровень гностической подготовки позволяют ему «провалиться» в реальность личности Иисуса из Назарета, в высшую подлинность Его краткой жизни на земле. Два первых варианта биографии-судьбы: поэт и Фауст (в стиле В.Ф. Одоевского) — оказались слишком легковесны для верификаторской состоятельности героя Романа. Он должен был не уверовать в Христа, но — познать Его, чтобы стать вестником-евангелистом для остальных людей. Мастер, модифицируясь, меняя данные биографии, профессию, даже цвет глаз (на смену зеленоватым — 7; 157, затем зелёным — 6; 429—431 приходят карие — 6; 97), становится тем. кто не просто способен общаться с самим Сатанаилом, но кто ищет встречи, кто страстно рвётся ему навстречу: «Затем, возбуждённо расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кой-какие справки необходимые, чтобы дописать его роман...» (7; 297). Уже тогда ему стало ясно, что история Христа, превращённая христианами в условный и не питательный для души догмат, есть не то абсурдное нечто, во что можно только слепо веровать, растоптав в себе остатки ума и здравого смысла, а есть пример уникального по своему величию и простоте поведения, рисунок которого достовернее и реальнее пустой и пошлой земной суеты. Именно познание Христа любовью понимания окрыляет Мастера, трансцендирует его дух уже во время написания романа; это, а совсем не любопытство влечёт его, преодолевающего робость и барьер деменциональной несовместимости, к очевидцам земной жизни Иешуа Га-Ноцри: ...Вы верите, что это действительно я?
— Верю, — сказал пришелец, — но, конечно, спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня...
— Если спокойнее, то и считайте галлюцинацией, — вежливо ответил Воланд» (7; 407).
Ранее эта встреча выглядела так:
Вы знаете, кто я? — спросил его хозяин.
— Я, — ответил привезённый, — догадываюсь, но это так странно, так непонятно, что я боюсь сойти с ума. <...>
— О, только не это. Ум берегите пуще всего, — ответил хозяин и, повернувшись к Маргарите, сказал:
— Ну что ж... <...> Я одобряю ваш выбор. Мне нравится этот непокорный вихор, а также зелёные глаза» (7; 158, курсив мой. — О.К.).
Почему же так ценен Главе Ведомства Справедливости полу-замученный человек, магически по просьбе Маргариты возвращённый с лесоповала?
Он написал книгу о Иешуа Га-Ноцри, — ответила Маргарита.
Великий интерес выразился в глазах Воланда, и опять что-то зашептал ему на ухо Коровьев.
— Нет, право, это черёд сюрпризов, — заметил хозяин, но слов своих не объяснил» (7; 157, курсив мой. — О.К.).
«Роман о Пилате» постепенно становится «книгой о Иешуа Га-Ноцри», но Мастер, возрастая духовно, физически выглядит всё более и более измочаленным. Речь идёт не об оттачивании ума в интеллектуальных изысках, а о непрерывном нравственном подвиге, о стоянии одного против всех (ситуация автора Романа: он «выпендривается», когда уже «все сдались»). Это, конечно, путь, путь мудрости дао. В потаённости русской души слово дао известно в форме переставня ода со времён Ломоносова, адекватизировавшего его скрытое содержание в великолепной оде «Бог»13. Русское жизнеутверждающее да, содержащееся в слове, способствовало его популярности. Тем более, что палиндромной подкладкой да является фантастически-анекдотический ад, на самом деле гнездящийся в порах человеческого бесчеловечного общежития: «Квартиры, семьи, учёные, работа, комфорт и польза — всё это в гангрене. Ничто не двигается с места. Всё съела советская канцелярская, адова пасть» (16; 74, курсив мой. — О.К.). Он, как ловушка, как чёрная дыра для света, стоит на пути вроде «крокодила», ожидая Симплициссимуса 21-го аркана. Против него есть противоядие (вернее, противоадие).
Но скажите мне...
— Мессир... — подсказал кто-то.
— Да, что будет со мною, мессир?
— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить — вы имели успех. Так вот, мне было велено...
— Разве вам можно велеть?
— О, да. Велено увести вас...» (7; 196, курсив мой. — О.К.).
Это, конечно, ода, Ода Планетарному Логосу — Иешуа и ода радости по поводу достижений Мастера (Поэта) на его дао-пути.
Ударил финальный гонг — время модификаций истекло. Каждый имеет столько, сколько успел. Если пытаешься суетиться по окончании (жизненного) пути, т. е. post dao, — значит ты опоздал. Что же касается всего остального, то...
Но скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?
— О, гость дорогой! — своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече14, — о, как приучили вас считаться со словами! Не всё ли равно — живой ли, мёртвый ли!
— Нет, всё же я не понимаю, — говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провёл по телу руками, расхохотался.
— О, я глупец! — воскликнул он, — я понимаю! Я выпил яд и перешёл в иной мир!» (7; 196).
Своего рода «игра в замри» только некоторых застаёт в ситуации полной готовности. Остальные причитают, что они, мол, «стояли лучше», что им не хватило «всего одного хода» и прочую чепуху. Воланду & Co — им виднее. Наказания ничтожным сим можно творить только с юмором и без злорадства. Хотя Абадонне, присутствующему на полях сражений и регулирующему как диспетчер массовые самоубийства целых народов, не до улыбок. Его лицо опалено «извержением Безумия» человеческого. Там — только успевай складировать трупы.
Главное — быстро и точно выполнять распоряжения Иешуа.
16. Что означает финальное превращение всех действующих лиц в рыцарей?
Это означает, что МиМ прежде всего и по преимуществу — рыцарский роман. Уже в Первой главе «иностранец» демонстрирует знаки высшего орденского достоинства, обнаруживающего в нём Главу Ордена: часы, портсигар, перстень, трость — всё говорит об этом. Вторая (Ершалаимская) глава начинается с появления на сцене повествования всадника (шевалье) Понтия Пилата, яркого представителя досредневекового рыцарства. Живущий в мире воинской ординарности, но с детства принадлежащий к потаённой орденской культуре, он мгновенно распознаёт в измызганном арестанте великого философа. Именно рыцарская реакция на Истину заставляет его яростно сражаться с жестоковыйным этноцентрическим сознанием Каиафы, доходя до неистовства:
«...Хлебнёшь ты у меня, Каиафа, хлебнёт народ Ершалаимский не малую чашу. Будешь ты пить и утром, и вечером, и ночью, только не воду Соломонову! Задавил ты Иешуа, как клопа. И понимаю, Каиафа, почему. Учуял ты, чего будет стоить этот человек... Но только помни, не забудь — выпустил ты мне Вар-Раввана, и вздую я тебе кадило на Капри и с варом, и со щитами» (7; 225).
В стиле «сна о Жилине» решалась в ранних вариантах Романа и сцена освобождения Пилата:
«Тут заговорил лиловый рыцарь голосом, который даже отдалённо не напоминал коровьевский, а был глуховат, безжизнен и неприязнен.
— Нет греха горшего, чем трусость. Этот человек был храбр и вот испугался кесаря один раз в жизни, за что и поплатился.
— О, как мне жаль его, о, как это жестоко! — заломив руки, простонала Маргарита.
Человек выпил ещё, отдуваясь, разорвал пошире ворот одеяния, видимо, почуял чьё-то присутствие, подозрительно покосился и опять забормотал, потирая руки.
— Всё умывается! Вот ведь скажите! — воскликнул кот.
— Мечтает только об одном — вернуться на балкон, увидеть пальмы, и чтобы к нему привели арестанта, и чтобы он мог увидеть Иуду Искариота. Но разрушился балкон, а Иуду я собственноручно зарезал в Гефсиманском саду, — прогнусил Азазелло.
— О пощадите его, — попросила Маргарита.
Воланд рассмеялся тихо.
— Милая Маргарита, не беспокойте себя. Об нём подумали те, кто не менее, чем мы, дальновидны.
Тут Воланд взмахнул рукой и прокричал на неизвестном Маргарите языке слово. Эхо грянуло в ответ Воланду, и ворон тревожно взлетел с плеча и повис в воздухе.
Человек, шатнувшись, встал, повернулся, не веря ещё, что слышит голос, но увидел Воланда, поверил, простёр к нему руки.
А Воланд, всё так же указывая рукой вдаль, где была луна, прокричал ещё несколько слов. Человек, шатаясь, схватился за голову руками, не веря ни словам, ни явлению Воланда, и Маргарита заплакала, видя, как лицо вставшего искажается гримасой и слёзы бегут неудержимо по жёлтым вздрагивающим щекам.
— Он радуется, — сказал кот.
Человек закричал голосом медным и пронзительным, как некогда привык командовать в бою, и тотчас скалы рассеклись, из ущелья выскочил, прыгая, гигантский пёс в ошейнике с тусклыми золотыми бляхами и радостно бросился на грудь к человеку, едва не сбив его с ног.
И человек обнял пса и жадно целовал его морду, восклицая сквозь слёзы: «Банга! О, Банга!»
— Это единственное существо в мире, которое любит его, — пояснил всезнающий кот.
Следом за собакой выбежал гигант в шлеме с гребнем, в мохнатых сапогах. Бульдожье лицо его было обезображено — нос перебит, глазки мрачны и встревожены.
Человек махнул ему рукой, что-то прокричал, и с топотом вылетел конный строй хищных всадников. В мгновение ока человек, забыв свои годы, легко вскочил на коня, в радостном сумасшедшем исступлении швырнул меч в луну и, пригнувшись к луке, поскакал. Пёс сорвался и карьером полетел за ним, не отставая ни на пядь; за ним, сдавив бока чудовищной лошади, взвился кентурион, а за ним полетели, беззвучно распластавшись, сирийские всадники.
Донёсся вопль человека, кричавшего прямо играющей луне:
— Ешуа Га-Ноцри! Га-Ноцри!
Конный строй закрыл луну, но потом она всплыла, а ускакавшие пропали...
— Прощён! — прокричал над скалами Воланд, — прощён!
Он повернулся к поэту и сказал, усмехаясь:
— Сейчас он будет там, где хочет быть — на балконе, и к нему приведут Ешуа Га-Ноцри. Он исправит свою ошибку. Уверяю вас, что нигде в мире сейчас нет создания более счастливого, чем этот всадник. Такова ночь, мой милый мастер!» (7; 194—195, курсив мой. — О.К.).
[Нащупывая топологическую спецификацию потустороннего пространства, Булгаков идёт по линии укрупнения масштабности места действия и мерности героев.
Восходя по иерархической лестнице измерений, он доходит до четвёртого, т. е. крупномасштабного циклического пространства-времени, символизируемого в духовной культуре образом змея, пожирающего свой хвост. Реально это означает, что в «большой» истории земной событийности существует определённая «раппортность», цикл, по прохождении которого рисунок происшествий повторяется, «наматываясь» вокруг оси, в свою очередь образующей более крупномасштабную спираль.
В четвёртом измерении, где прошлое встречается с будущим, можно «высидеть» поворот колеса и дождаться почти полного повтора событий, дабы что-то в них изменить, «исправляя ошибку». На это рассчитывает покоящийся в поле эпохальной крупномасштабности Пилат, «доходя», как сорванный помидор на полатях. Однако чтобы переиграть всю Новозаветную историю заново нужно повторное воплощение на Земле и его, и «арестанта», что для Планетарного Логоса, приходящего во плоти в мир раз в 26 тысяч лет, невозможно. Поэтому учитывается аргумент решимости (т. е. «зрелости помидора»): Пилата освобождают не менее дальновидные, чем Воланд, деятели Ведомства Милосердия. Кармическая отработка (испитие чаши страдания) произведена Пилатом до конца. — Он чист, и это важно, прежде всего, для него самого. Но куда ему броситься: вперёд — навстречу прошлому или назад — навстречу будущему?
Коровьев иронизирует над этим беспомощным «маханием кулаками после драки», указывая, что «балкон уже разрушился» и намекая, что всё надо делать вовремя.
Что в таком случае означает фраза Воланда: «Сейчас он будет там, где хочет быть — на балконе, и к нему приведут Ешуа Га-Ноцри. Он исправит ошибку.»? Это означает: ход мировой истории, какой был предопределён ошибкой Пилата, останется (там, далеко, на земле) тем же, зато камень с души Пилата будет окончательно снят тонкоматериальным (как бы во сне, но не фиктивно) переигрыванием событий со снисходительным разрешением «переходить» в том ответственном месте.
И становится понятен крик «Прощён!» и присутствие в сцене Марка Крысобоя со своей кентурией.
Подытожим. Достигнутый Булгаковым уровень позволяет простить, переиграть события личной судьбы, но не изменить ход мировой истории, как того требовали реальные обстоятельства.
И автор МиМ продолжает работу.
Только перед самой смертью удалось прорвать этот «заколдованный круг» («дьявол какой-то меня заколдовал»); для этого понадобилось особое откровение.]
17. Текст МиМ выглядит как сумма Эзотерического Учения, Дхарма XX века; так ли это, предусматривал ли это автор?
В качестве исходного материала в тигль алхимического атанора заложены высшие достижения герметической философии (Гупта-видьи); ученическая внимательность стала главным достоинством писавшего Роман как сотрудника мировой духовной элиты. Изначальная категорическая ориентация на Истину (т. е. Планетарного Логоса) являлась формообразующим принципом при отборе вариантов-ходов в развитии всех линий сюжета. Постепенно, по ходу дела разрешились как некоторые важнейшие вопросы бытия, так и проявления в нём трансцендентного.
Например, действия Ведомства Милосердия, которые дотоле описывались или моделировались как монотонное и примитивное «прощение», «забвение зла», «извинение по первому требованию», «безостановочная раздача милостыни» и «примирение жертвы и палача до дружеских объятий и поцелуев взасос», представлены абсолютно по-новому за счёт двуединой системы Ведомств, когда акт милосердия выглядит не спонтанным капризом и прихотью самодержца, а разрешающим результатом сложнейшей процедуры, начинающейся в недрах «альтернативного» Ведомства.
Поэтому ничего не может добиться настойчивый и приставучий хам; не происходит ни малейшего нарушения существующего земного законодательства, установленного самим Планетарным Логосом; снимается ложное описание мира как лежащего во зле, заменяется лежащим возле; отвергается навсегда идея «двоевластия» над миром сим, из-за чего жизнь на земле описывалась то как категорическая юдоль, то допускалось даже построение «Царства Божьего на земле».
Неупорядоченная идеологическая текстура, исключающая вероятность адекватного прочтения панорамы бытия, приводила человечество последние тысячелетия к броунову движению противоречивых поступков, к рецидивам дикости и взрывам самых невероятных видов суеверия. Взаимная ненависть представителей разных видов поклонения одному и тому же Божеству свидетельствует о том, что только понимание Бога приводит людей и к взаимопониманию, другого пути к гармонии мира — нет. МиМ есть кардинальное усилие на пути понимания Высших Сил, разумеется, сразу обоих Ведомств. [Гармонизирующее душу дыхание ясности, непротиворечивость созданной панорамы сего и иного миров, благая весть об отсутствии ненависти и вражды «в вышних» притягивает к творению Булгакова сердца миллионов. Не всегда понимая (как Мастер), но почти всегда чувствуя (как Маргарита) пороговость темы и правильность изложения, люди тянутся к явившейся на земле зоне правды, согреваясь около неё и укрепляя дух. Несомненно то, что МиМ — великое откровение, осуществлённое обречённым на самопожертвование человеком, и то, что это — не личный артефакт, а часть огромного нового Откровения Небес о Земле и Откровения Земли о Небе.
Такого яркого и неявного явления Дхармы ещё никогда не бывало. Пушкин только хотел писать об Иисусе — и не написал. Достоевский тоже хотел, но впрямую тоже не сделал.
Это сделал Булгаков.]
18. Писатель мечтал о славе, человек стремился к свободе — ни того, ни другого автор Романа не получил; что же взамен?
Пребывание «на устах у всех» это не слава, а суеславие. Подлинная слава от мнения толпы, изменчивой и непостоянной, не зависит; она даруется Высшими Силами тому, кто славен по сути, у кого это — внутреннее качество, а не карнавальный наряд на ярмарке мира. Слава — 8-ая сефира Кабалистического древа Ход, неуловимый в картине мира Меркурий, невычитаемый в структуре Небес бог Тот, он же — греческий Гермес, или Гермес Трисмегист эллинизированного Египта.
[Отсюда проистекает герметичность Булгаковского «внутри-ретортового сидения» с ограничением передвижения пределами страны. Для полётов ему были оставлены Небеса. И кто был свободнее: братья, которым достался весь мир, или он, тюрьмой которого была одна шестая суши? Неизвестно, кому повезло: Замятину, так и не закончившему роман «Дубы», или ему, «Мастером» отстрелявшемуся в десятку? Свобода — прерогатива Христа; Он — Свобода, Равенство и Братство; быть с Христом и быть несвободным — «две вещи несовместные».
Профаны говорят: «Слава — солнце мёртвых». — Неверно! Слава — солнце бессмертных; слава — это их собственный ауральный свет, а свобода — это внутренний небосвод их души. Великодушие всегда свободно; малодушие сковано даже в пустыне.
Проницательнейший Замятин назвал Булгакова, чрезвычайно щепетильного к фамильярности, в одном из писем «старичком»15 — любовь и мистическая унисонность давали ему такое право. Он попал в яблочко: старец (от англ. star) значит звёздный — мальчик, юноша, муж. Конечно, это об авторе Ми М.
Было и другое нежное прозвище: МАБ16 — с одной стороны, монограмма, с другой — одна из самых известных фей. Булгаков-мистик веял по-над землёй (в немецком прочтении феял; отсюда и первое имя Азазелло — Фиелло). Когда он делал слишком резкие движения, например, развёлся с первой и тут же женился на следующей (о чём в письме было доложено любимому другу), старший, обострённо реагирующий на этот глагол Женя, делает «Мольеру Афанасьевичу» внушение: «Ах, молодёжь, молодёжь! Ах, ветрогоны!»17
Замятин не был задействован по линии вечности — Замятин мог отдохнуть. В эти же годы больной, полузамученный человек поступью командора вошёл в бессмертие.]
Без сознательного и обязательного (само)ограничения свободы сосредоточенности не добиться, а без сосредоточенности невозможно и свершение.
Прижизненный успех — неплохо, конечно, «впрочем, Господи, не как я хочу, а как Ты». Это — высшее на земле.
19. Вариантов названия Романа было много, и в каждом из них был свой резон; почему же всё-таки «Мастер и Маргарита»?
Сначала помимо резона подыскивалась и наибольшая сила резонанса (т. е. целого ансамбля резонов), потом, когда возможность публикации стала чисто умозрительной, в ход пошли сугубо мистические доводы. Часть из них уже прозвучала, некоторые конкретные вещи ещё последуют. А вот каковы принципиальные соображения.
«Мастер» — абсолютно невыспреннее качественное описание личности; оно приобретается при прохождении соответствующих посвятительных процедур и достижении человеком более высокого уровня гностического и нравственного состояния. Это на фоне моря массовых единственный индивидуальный определитель человека, в силу его ответственных характеристик — и при получении, и при ношении — заменяющий паспортную полноту данных. Когда Мастер говорит Ивану, о своей безымянности, это не значит, что он выбросил все документы (включая метрики), но лишь перестал записанными в них сигналами себя определять. Звание мастера достигается путём наистрожайшего отбора из огромного количества претендентов; их, мастеров, в принципе не может быть неопределённое множество. Из этого следует: мастер — это определённый артикль при имени человека. Но при рождении в звание мастера посвящаемый проходит процедуру священного переименования, получая новое — сакральное — имя. Поэтому изначальное реально отодвигается в глубину, не сопутствуя более человеку.
О символизме слова Маргарит(а) — сокровищница, жемчужина, перл — уже говорилось. Так назывались сборники притч, афоризмов, прозаических басен и философских анекдотов. Русское сокровищница обладает важным смысловым оттенком «потаённый, сокрытый»; это галактически далеко от мещанской Гётевской Гретхен, с кем перекликается имя героини Романа. Родовая связь на самом деле осталась только в возможности контакта с «нечистой силой» и потентности к ведьмовским модификациям. Поиск хозяйки бала ведётся в Москве среди одних Маргарит, и это существенно. Значит, дело не в оккультно-шаманском словоблудии, а в соответствии смысловой наполненности имени его носительницы. Только постфактум Маргарите Николаевне становится понятно, почему, собственно, выбор пал на неё. Главным, вроде бы, является вопрос крови, вокруг которого вьётся разговор, приближаясь к финалу. И извлечение возлюбленного как бы её прихоть, исполнение чего носит чисто «протокольный» характер. И вдруг!.. Роман, Пилат, Иешуа, Ведомства, Вечный Приют — ничего подобного ей, исходя из подряда, не полагалось. Правда, верная любовь (с её стороны) и роман (с его стороны) являются двумя равно отмеченными Воландом сюрпризами его московских гастролей. Но... об этом — в своё время.
Пока отметим, что Мастер (М) и Маргарита (М) выступают на равных, как чаши весов на концах соединительного союза «и». И более — как гармонически связанные в пару два тысячелетия нашей эры.
Sic! На сцене вдруг появляется новое действующее лицо — некий актёр — мим, незримо присутствовавший в названии и ставший видимым только в момент его компактизации в аббревиатуру.
«Монахи, служители Будды, показывают замечательный мимический номер — «Танец шестнадцати настроений». Никто не считал, сколько и какие настроения может сценически выразить Булгаков, но, прирождённый мим, свои комедийные личины он меняет с необычайной лёгкостью...» (8; 132, курсив мой. — О.К.).
Маргарита впервые появляется пред Мастером, держа в руках «тревожные жёлтые цветы». Булгаков не называет их, они манифестируются своим мартовским кипением, и мы догадываемся, что это МиМ-оза — для чего и нужно было утаивать слишком обнажённое на визуальную подсказку слово.
Мастер отвечает ей «в тон». «Я розы люблю,» — намекает человек, пишущий о кресте, а всё вместе — RC или розенкрейцер.
Солнечные блики смыслов вспыхивают в МиМ то тут, то там постоянно. Мы ещё столкнёмся с этим не раз.
И — главное. Название Романа, изображённое астральными знаками: Мастера — Ма + острие = знак Скорпиона (Орла); и (&) = знак Весов; Маргариты — Ма + Р (т. е. матерь) = знак Девы (Мать Мира).
Созвездие Скорпиона (Орла) символизируется Змеем-Уреем, знаком мудрости, достижение которой возможно только при победе над звериным в человеке; в результате безудержная борьба «за место под солнцем», «за выживание» сменяется восхождением к Христову «положить душу за други своя». После этой кардинальной победы в человеке возникает равновесное, паритетное спокойствие. Он впервые задумывается о смысле жизни, что идеографически изображено на Дендерском зодиаке в картинке-иероглифе Весов. На знак Весов приходится осеннее равноденствие. «Созвездие Весов было помещено в Зодиак для символизации силы выбора, посредством которого человек может уравновесить одну проблему другой» (56, II; 174).
Экзаменация — всегда выбор. Животное, даже хищник, безгрешно; оно пассивная фишка в руках Высших Сил. Человек Разумный наделён самосознанием, ведущим к самопознанию, а затем и к самостоянию. Путь в горнее начинается с категорического отрыва от мира животных и движения «в сторону ангела». Постепенное преображение осуществляется переориентированием с пищи животной на пищу растительную, а этически — с убийства других живых существ на мирное сосуществование и братское сотрудничество с ними. В истории человечества такому перелому соответствует возникновение земледелия; его освоили женщины в то время как мужчины охотились; затем процедура преодоления в себе хищничества сделалась революционной. В силу этого созвездие Девы изображается фигурой богини (Мать Мира древних — Изида, Деметра), держащей в руках колос (Спика «звёздной книги небес»). Колос-Спика является квинтэссенцией мировой мудрости: помимо манифестации нового для человека миролюбивого вида питания, это ещё и модель «философского прирастания», когда одно зерно «даёт плода многажды», «сторицей», правда, для этого проходя путь самопожертвования вплоть до умирания, но с дальним прицелом на такой невероятный прирост.
Мёд идеи преображения и складирован в сокровищницах-сборниках, одноимённых героине Романа. В книге западноевропейского мистика Шотуса «Философская Маргарита» приводится выработанная во времена средневековья схема соответствия символической семантики зодиакальных созвездий основным органам человека.
[Занимающие столь важное место в древней дохристовой идеологии человечества органы размножения ещё во времена средневековья и Возрождения были культово почитаемы, правда, уже с раблезианским оттенком. Булгаков не прошёл мимо этого важного в истории европейского мировоззрения обстоятельства.
В конце концов, тихая мелодика Иешуа постепенно вытеснила из Романа языческое буйство красок, хотя оно не исчезло бесследно, а перешло из текста в подтекст. Оттого-то в истории Га-Ноцри нет ни грана занудной риторики или пошлой дидактики. Возможно, Маргарите в атмосфере происходящего стало менее весело, но уж никак не менее интересно.]
«Посвящение в Великие Мистерии проводилось только в такое время, когда на небе было созвездие Скорпиона. В папирусе Ани («Книга мёртвых») больной сравнивает себя, свою душу со скорпионом, говоря: «Я ласточка, я скорпион, дочь Ра!»» (56, I; 306).
[Теперь ясно, откуда Булгаковские ласточки!]
20. В аспекте значительности сотворённого неслучайной представляется и фамилия автора; какова его мистическая самоидентификация?
Лучше всего об этом говорят его литературные имена, сокращения и псевдонимы, среди них доминирует Булл (Бул) — Бык, Телец Зодиакального круга с досконально известным автору МиМ символизмом. В тельцовом наборе он был не одинок, подобралась достойная компания: Макс Вол-ошин — учитель, друг и наставник, чьи «бычачьи» характеристики были столь велики (объёмность, грузность, сила, добродушие), что однажды, весело демонстрируя их, он лбом передвинул кресло с сидящим в нём Бальмонтом из одной комнаты в другую; менее самоочевидна была тельцовая сущность в Борисе Бугаеве (Андрее Белом), прикрытая штукатуркой двойного псевдонима, ставшего новым именем и фамилией, но его категорическая травоядность и доминация над прочим «головизны», не говоря о возлюбленной Асе Тур-геневой, свидетельствуют в пользу объединения. Так что Коровьев — их представитель в Воландовской свите.
Телец — созвездие праотцов и патриархов (4320—2160 гг. до н. э.) [не отсюда ли булгаковский консерватизм?], и культ его во времена расцвета древних цивилизаций (Египет, Шумер-Аккад, Персия и Урарту) был чрезвычаен: «В пещере инициации Зороастра Солнце и планеты были представлены драгоценными камнями и золотом, как и знаки Зодиака. Солнце появлялось, возникая из-за спины Тельца. В созвездии Тельца можно найти «Семь сестёр» — священные Плеяды — известные у масонов как Семь Звёзд в верхней части Священной Лестницы.
В Древнем Египте именно этот период, когда весеннее равноденствие было в созвездии Тельца, бык Апис посвящался Богу-Солнцу, ему поклонялись как животному эквиваленту небесного знака. Именно это имели в виду древние, говоря, что небесный Бык расколол яйцо года своими рогами.
...Медленное, постепенное исчезновение Тельца удачно запечатлено в исчезновении ряда букв, столь выразительно утверждающих этот примечательный астрономический факт. Потому что АБРАКАДАБРА есть Бык, и только Бык. Древнее предложение расщепляется на составляющие части таким образом: Ab'r — achad — ab'ra, то есть Ab'r — Бык; achad — единственный (Achad есть одно из имён Солнца, данное ему как Сияющему Единственному, поскольку оно является единственной звездой, которую можно видеть, когда она на небе); остающееся ab'ra — снова Бык завершает целое, читающееся как: Бык, Единственный Бык. Повторение имени с опусканием букв, до тех пор, пока они не исчезнут совсем, есть наиболее простой, но в то же время наиболее успешный способ сохранения в памяти факта. И имя Усир-Аписа, или Сераписа, данное Быку в описанных выше церемониях исчезает в одиннадцати последовательных стадиях — этапах соответственно магическому слову» (56, I; 172—173, редакция моя. — ОК).
[Удивительным образом по «тельцовой» линии Булгаков получил поддержку со стороны американского посла в Москве У. Буллита (1933—1936). Накануне приезда в СССР сотрудник характеризовал его так: «Буллит настоящий озорник; он любит ставить сцены, в которых выражает негодование, равное которому я редко видел, и выходит из них, заливаясь хохотом... Его совершенно не беспокоит успех конференций; его вообще не беспокоит ничто экономическое. Он один из тех забавных людей, которых драма интересует больше, чем результат». Другой добавляет: «Он имел огромный запас разных анекдотических историй... о его контактах с многими знаменитыми людьми за границей». Первый обобщает портрет: «Это был maverick во всех смыслах слова». По-русски это «чудик», «обалдуй» и «распустяй» одновременно.
Булгаков и Буллит познакомились 6 сентября 1934 года во МХАТе на спектакле «Дни Турбиных». Подойдя к автору и представившись, Буллит сказал, что «смотрит пьесу в пятый раз, всячески хвалил её. Он смотрит, имея в руках английский экземпляр пьесы, говорит, что первые спектакли часто смотрел в него, теперь редко» (4; 67—68, коллаж мой. — ОК). С тех пор общение сделалось беспрерывным и максимально интенсивным. 23 апреля 1935 года Билл Булл устроил в Спасо-Хаузе18 грандиозный приём, ставший «натурой», с которой «щедрой рукой великого фламандца» автором МиМ был написан бал у Сатаны. Булгаков присутствовал на приёме-феерии на правах диссидента, опекаемого «противной стороной», и — мистически — феи Маб; здесь ей было самое место. И хотя советская протокольная номенклатура поглядывала на «незаконного» в их элитарной тусовке раздражённо, но быть ближе к краю пропасти было нельзя, а столкнуть Булгакова в неё мог только сам «хозяин». «Незаконная комета в кругу расчисленном светил» — это ощущение пригодилось для рисунка состояния Маргариты среди фантомных персонажей бала у Сатаны. Любопытно, такое же фантомное состояние приобрели через несколько лет (в результате сталинских чисток) и многие посетители приёма в Американском посольстве.
«Весенний фестиваль-буфф» имел пикантную для атеистической страны ярко выраженную пасхальную подоплёку (вроде местных куличей, стыдливо именуемых «кексом весенним»), что сделало присутствие на нём писателя, работавшего над «романом о Боге и дьяволе» особенно знаменательным.
Через неделю произошла встреча с Экзюпери, столь же мистически предопределённая.
Секретарь американского посольства Ч. Боолен, активно общавшийся с Булгаковым в этот период, бывал почти на всех «криминальных» встречах, и не раз у писателя в гостях19. Интересны его поздние воспоминания о пребывании в Москве: «Одним из русских, с которым я познакомился и в определённой степени подружился, был Михаил Булгаков, в то время — выдающийся драматург России. У него было круглое украинское лицо, красноватый вздёрнутый нос и общительный характер. Привлекали ясные, полные мысли глаза. Он без колебания высказывался по поводу советской системы. Его карьера в советском театре была необычайно успешной, но противоречивой, а пьесы сохраняли стойкую популярность, хотя он непрерывно конфликтовал с советской цензурой. Он однажды сказал мне, что никогда не выведет коммуниста ни в одной из своих пьес, потому что они для него всего лишь некие плоские фигуры.
Coup de grâce был нанесён Булгакову после того, как он написал рассказ «Роковые яйца»... (Следует пересказ содержания. — ОК) ...Небольшой литературный журнал «Недра» напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленным только вмешательством Господа.
Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания».
Кратко пересказав травлю, разговор со Сталиным и работу во МХАТе, откуда писатель вынужден был уйти, Боолен подытоживает картину таким замечанием: «В более свободном обществе Булгаков, несомненно, был бы признан великим драматургом» (цит. по 28; 300—301).
Это — сквозь «дымку времени». А тогда...
«25 апреля.
М.А. по приглашению Союза советских писателей пошёл на встречу с Гордоном Крэгом. <...>
28 апреля.
М.А. играл за Курочкина в «Пиквике».
29 апреля.
У нас вечером — жена советника Уайли, Боолен, Тейер, Дюброу и ещё один американец, приятель Боолена из Риги. Боолен просил разрешения привезти его. <...>
Уайли привезла мне красные розы, а Боолен — М.А. — виски и польскую зубровку.
М.А. читал первый акт «Зойкиной квартиры» — по просьбе Боолена.
Боолен ещё раз попросил дать им «Зойкину» для перевода на английский. <...>
Разошлись около трёх часов.
30 апреля.
Вчера Боолен пригласил нас на просмотр фильма в посольство, в половину пятого.
Из русских были ещё только Немирович с женой.
После просмотра очень интересного фильма — шампанское, всякие вкусности.
Буллит подводил к нам многих знакомиться, в том числе французского посла с женой и очень весёлого толстяка — турецкого посла. М-с Уайли пригласила нас завтра к себе в 10.30. Боолен сказал, что заедет за нами.
3 мая.
Первого мы днём выспались, а вечером, когда приехал Боолен, поехали кругом через набережную и центр (смотрели иллюминацию).
У Уайли...» (4; 96—97).
Между «Балом» и явлением «иностранца-мага» всё не менее фантастично и феерично.
Если это «несвобода», то что же «свобода»?
Коттедж... слуги... разносолы... музыка Шуберта... — Как растерянно заметил один простодушный исследователь: «Если таков Покой, то каким же должен быть Свет? И чем там занимаются?»20
«21 февраля 1936 года.
Общественный просмотр «Мольера». Был Буллит... За чаем в антракте (Буллит, Хенниссен — муж и жена. Дюброу и я) Буллит необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М.А. вообще, называл его мастером» (4; 114).
После восьми представлений «Мольера» снимают.
«14 марта.
В 4 часа 30 мин. были опять званы к Буллиту. Решили не идти, не хочется выслушивать сочувствий, расспросов».
Заботливый Буллит не унимался.
«25 марта.
Были в 4.30 у Буллита. Американцы — и он тоже в том числе — были ещё милее, чем всегда.
12 апреля.
Вчера были на концерте у американского посла. Все мужчины во фраках. М.А. — в чёрном пиджаке. <...>
Прокофьев играл двенадцать детских пьес, прелестных.
Ужинали à la fourchette, столы были накрыты в трёх местах. Буллит уговаривал не уезжать, остаться слушать ещё Прокофьева, но мы уехали в третьем часу на машине, которую нам предложил Коннан» (4; 117—119).
Позднее, подытоживая свою деятельность в Москве, Буллит писал: «I deviled Russians. I did all I could to make things unpleasant»21. Чем же это? Уж не феерическим ли приёмом в Спасо-Хаузе и ласковым привечанием опального драматурга?
Завершая тельцовую тему, отметим присутствие в жизни М. Булла в качестве верного друга, весёлого и остроумного собеседника и добродушного хлопотуна толстяка и гиганта Якова Леонтьева — театрального работника, булгаковской опоры в перипетиях службы во МХАТе и Большом Театре, где рядом с Булгаковым работал и Лк.
И ещё одна сторона мистики имени и фамилии автора.
В 1931 году Булгаков писал в письме Вересаеву: «Я с детства ненавижу эти слова «кто поверит?». Там, где это «кто поверит?» — я не живу, меня нет» (2; 206).
Действительно, дьявол на улицах Москвы конца 20-х годов? — Не может быть! (Кто поверит?) Не может быть!
Нет, господа товарищи — М.Б.]
21. Значительное место в Романе занимает тема слепоты; какова мистическая развёртка этого понятия?
Доверие к человеческому богоподобию привело — при исследовании недостатков мира — к восприятию недостоинства в поведении и чувствах людей как следствия их слепоты; возникнув по разным причинам, она мешает человеческой душе увидеть правильный рисунок поведения, наполняющий мир со времени пришествия на землю Планетарного Логоса. Резон простой: кто не понимает, что «все люди — добрые», тот попросту слеп. Ведь постулат этот — самоочевиден, правда, при наличии идеального зрения. Тривиальное, вроде бы, для понимания становится далеко не тривиальным, переходя в план руководства к действию. Тогда выясняется: нужно быть героем, чтобы выдержать идеализм до конца. Что Христос не может быть «оригинальным», ибо Он и есть само Origin, Начало, в котором было Слово. Когда человек встал с четверенек и тем самым стал Homo Errectus (Человеком Прямоходящим), он реализовал в себе божественную вертикаль Отца. Когда он в лице Иешуа Га-Ноцри раскинул руки навстречу другим, он реализовал широту, свободу — равенство — братство, т. е. принцип Сына22. Содержательная неисчерпаемость, глубина — это параметр Духа Святого, Матери Мира, Параклета-Утешителя, кого Христос, уходя, оставил вместо Себя. Кто не приобщён к этому источнику откровения, любви и богопознания — тот воистину безутешен.
Но опять-таки автору Романа кажется, что это только дефекты зрения или отсутствия его (смотреть — не значит видеть).
«Слепой и неуверенной походкой он подошёл к ложу.
— Узнаёшь меня, Иванушка? — спросил сидящий.
Иванушка Бездомный повернул слепую голову на голос.
— Узнаю, — слабо ответил он и поник головой.
— И веришь ли, что я говорил с Понтием Пилатом?
— Верую.
— Что же хочешь ты, Иванушка? — спросил сидящий.
— Хочу увидеть Иешуа Га-Ноцри, — ответил мёртвый, — ты открой мне глаза.
— В иных землях, в иных царствах будешь ходить по полям слепым и прислушиваться. Тысячу раз услышишь, как молчание сменяется шумом половодья, как весной кричат птицы, и воспоёшь их, слепенький, в стихах, а на тысячу первый раз, в субботнюю ночь, я открою тебе глаза. Тогда увидишь его. Уйди в свои поля.
И слепой стал прозрачен, потом и вовсе исчез.
Маргарита, прижавшись щекой к холодному колену, не отрываясь, смотрела» (7; 152—153).
Этот эпизод, восходящий до эпического размаха, включает несколько важных понятийных сгустков. «Открыть на что-то глаза» — растолковать, дать понять, научить увидеть предметные очертания в путанице линий, схватить голограмму в современных «магических картинках». Слепота приводит к обострению слуха, внимательности, сосредоточенности; именно этих качеств не хватало у прежнего, «ветхого» Ивана, нагловатого и трусоватого хулигана и невежды.
Во время погони Иван несколько раз слепнет от ярости, затем, слепо повинуясь идее фикс, решительно направляется в Кремль, в следующих вариантах — в Грибоедов, и в конце концов попадает в клинику для душевнобольных, где, беседуя с пациентом, доктор Стравинский выступает прежде всего как «окулист», открывая Ивану глаза на нелепость его поведения. Слепота невежества приводит к слепоте фанатизма, к слепому повиновению «тем, кому видней». А бывают ли те на высоте (вроде «вперёдсмотрящих»)?
«Тот, кто правил землёй, ...к умирающему Мольеру не пришёл бы. И он действительно не пришёл, как не пришёл и никакой принц. Тот, кто правил землёй, считал бессмертным себя, но в этом, я полагаю, ошибался. Он был смертен, как и все, а следовательно — слеп. Не будь он слепым, он, может быть, и пришёл бы к умирающему, потому что в будущем увидел бы интересные вещи и, возможно, пожелал бы приобщиться к действительному бессмертию».
Но и сам Мольер не отличался особой прозорливостью.
«Почему же это? Трагик в трагическом провалился, а в комическом имел успех? Объяснение может быть только одно и очень простое. Не мир ослеп, как полагал считающий себя зрячим Мольер, а было как раз наоборот: мир великолепно видел, а слеп был один господин Мольер. И, как это ни странно, в течение очень большого периода времени» (50; 9, 47).
В пьесе, «подслеповатый» и мечущийся перед лицом обстоятельств и под ударами «слепой судьбы», он капитулирует:
«Мольер. Да, да, верно. Я лгу. Он велик, именно такая сила и нужна во главе государства. Слепой идол, который всё сокрушит... а писателю нет места...»
[Тема эта проходит через всю булгаковскую жизнь и через всё его творчество. Начиная с пророческого эссе «Грядущие перспективы» (1919), где переживается слепота невежества русского народа и его ослепление демагогическими посулами и призывами презирающих его «революцьонэров» пружинеро-швондерского типа23, почти непрерывно писатель исследует это непростое, а часто и парадоксальное состояние. Хорошее и плохое видение упирается в ситуацию освещённости, а как известно, яркий свет отпугивает души мистиков и мечтателей: солнце выедает глаза, мучает совесть, обнажая картину сотворённых гнусностей, и хочется бежать в тень, сумрак, ночь. Стать подслеповатым, как ночные животные, перейти на ультразвук и перепончатые крылья — другая крайность: от мудрой совы до вурдалака Варенухи — один только шаг. Геката-луна — покровительница не только лунатиков и поэтов, но разбойников и убийц. Можно вообще отказаться от глаз и зарыться в землю как крот, едва ли в этом случае есть шанс сохранить звание человека. Аскетический мазохизм отшельников из пещер легко оборачивается садизмом религиозных фанатиков. И Булгаков трактует это в духовном смысле как этическое нарушение системы зрительного восприятия и мистической оптики в целом. Сон, задумчивость (глубокая), отсутствующий взгляд — варианты временной слепоты, которая истолковывается Булгаковым как свидетельство нахождения в процедуре преображения (слепота хризалиды) или, в крайнем случае, болезни. Таковы всадник «с незрячими глазами» из «Красной короны», «слепой убийца» Хлудов из «Бега», слепая сердцем и близорукая глазами Натали — «ночная бабочка», вышедшая, не оглядевшись, замуж за дневного муж-жука («ты, солнце святое, гори!..»)...
У всех персонажей МиМ есть свои окулистские характеристики: оригинальное строение и разный цвет глаз Воланда, пенсне с треснувшим стеклом Коровьева, театральный бинокль Бегемота, бельмо на глазу Азазелло, тёмные пятна вместо глаз за непроницаемо чёрными очками Абадонны — это далеко не всё даже в описании только Мессира и его свиты. Рассмотрим характеристики Пилата в аспекте «оккультной окулистики» ранних вариантов Романа:
«Пилат задрал голову и уткнул своё лицо прямо в солнце, и оно его мгновенно ослепило. Он ничего не видел, он чувствовал только, что солнце выжигает ему глаза, а мозг его горит зелёным огнём. <...>
— Tiberio imperante! — запел слепой Пилат, и... в ответ спели голоса взводных и пискливые трубы» (7; 226—227).
Рифмуя спел и слеп, Тиберии и трубы, Булгаков достигает объёмности в оптике восприятия переклички солнца и бликов его в оркестровой меди. Он, конечно, помнит Роллановскую характеристику «Автопортрета» Леонардо: «Глаза орла, уставшего смотреть на солнце». Появляющиеся в сцене «римские орлы» делают цитату особенно прозрачной. В отличие от Леонардо Пилат надрывается и слепнет: «Сидящий был или глух, или слишком погружён в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней. И всадники подошли совсем близко.
Теперь Маргарита видела, что сидящий потирает руки, глядит незрячими глазами на диск луны» (6; 284).
Исключительная дальновидность представителей обоих Ведомств («Воланд рассмеялся тихо. — Милая Маргарита, не беспокойте себя. О нём подумали те, кто не менее, чем мы, дальновидны».) противопоставлена ограниченным возможностям человеческого мировидения: «Я — мастер, — ответил тот, и вынув из кармана чёрную шёлковую шапочку, надел её на голову, отчего его нос стал ещё острей, а глаза близорукими» (7; 297). О подруге уж и говорить не приходится: «Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?
Маргарита испугалась и заговорила горячо:
— Я всё сделала так, как хочет он... Я шепнула ему всё самое соблазнительное... и он отказался...
— Слепая женщина! — сурово сказал Воланд, — я прекрасно знаю то, о чём вы шептали ему. Но это не самое соблазнительное. Ну, во всяком случае, что сделано, то сделано» (7; 414).
В качестве диаметральных точек на эмоциональном векторе образа слепоты Булгаков даёт трагифарсовую фигуру слепца Графа Строганова в романтическом амплуа «слепой судьбы» (он решает участь пушкинской дуэли) и мистико-карнавальную — Азазелло с его сверхъестественной меткостью. Попадание, не вынимая руки из кармана, не глядя, сквозь подушку — даже не в сердце, а «в любой из желудочков», что является фарсово-иносказательным описанием всемогущества, т. е. рока или судьбы («и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет.»). Что значит: «слепая судьба» обладает абсолютной зоркостью.
Булгаков почувствовал это, как говорится, на своей шкуре. «Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу. <...> Потом наступило просветление. ...сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя» (16; 264).
Трагически переживая арестантскую участь «невыездного» и решая автопортретно Мастера в одной из ранних редакций, Булгаков вкладывает ему в уста своё личное, наболевшее: «Я никогда ничего не видел. Я провёл свою жизнь заключённый. Я слеп и нищ»24.
В связи с разбираемой темой в голову приходит незабвенный с детских лет Гоголевский «Вий».
Продолжая в уже цитированном письме Вересаеву от 22.VII.31 г. варьировать тоскливое «кто поверит?», Булгаков риторически восклицает: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь?»
Хотите верьте, хотите нет, женский вариант Гоголевского Вия работал с Булгаковым в качестве сотрудника. Дело в том, что сестра Елены Сергеевны Ольга Бокшанская «страдала птозом — параличом век. Её глаза были всегда как бы полузакрыты, что не мешало ей видеть всё происходящее...» (52; 365). Именно она перепечатывала Роман в 1938 году, оказавшись в нужный момент незаменимым помощником. Возникает вопрос, что ж в ней такого инфернального? Приглядимся. Она была замужем за актёром МХАТа Евгением Калужским, который считается (не без оснований) одним из главных осведомителей ГПУ (см. 28; 333). Вольно или невольно Бокшанская поставляла ему информацию из самого «эпицентра событий», хотя «свояк» и сам был вхож в булгаковский дом. «Разъяснить» его до сих пор до конца не удаётся. И вот почему. «Среди искренних друзей в ближайшем булгаковском окружении находились и люди, подобные незабвенному Алоизию Могарычу. Это подтверждают и недавно опубликованные материалы агентурного наблюдения за писателем, извлечённые из архивов госбезопасности. Однако офицеры секретной службы, предоставляющие их для публикации, ...подобрали их таким образом, чтобы информаторы навсегда остались безымянны, поскольку взяты только те дни и события, о которых не сохранилось данных в дневнике Елены Сергеевны и в булгаковской переписке» (28; 384). Не исключено, что огромный и тяжёлый труд по перепечатке Романа, который бель сёр Оля, вроде, исполняла по-родственному и бескорыстно, на самом деле был вменён в обязанность «с той стороны» — поразительно, её «освободили» на это время от всех дел и поручений во МХАТе (Бокшанская была секретарём Немировича-Данченко). Даже Калужский не смел досаждать в период машинописного «священнодейства».
Кстати, о булгаковском окружении. Вокруг были следующие Жени: во-первых, Калужский, с ним в аспекте зачина фамилии всё ясно; во-вторых, старший Шиловский, угрожавший Булгакову пистолетом и чуть его не пристреливший; наконец, Шиловский-младший, о ком уже было сказано; одно маленькое дополнение: сестра Булгакова, Надежда Афанасьевна, сделала после похорон брата такую протокольную запись об этом событии: «Похороны. Поведение Жени (Шиловского). Нежить вокруг. Поведение писателей» (54; 73).
Теперь о происхождении прозвища Потап: это «знаменитый артист Потап Петрович Прюнин», кто «со свойственным ему мастерством прочитал «Скупого рыцаря» Пушкина» гражданам, собранным для принудительной сдачи валюты (см. 7; 314—315). Вероятно, навет Любы Белозерской насчёт «булгаковской скупости» был сладострастно зафиксирован таким по-детски жестоким способом. Отсюда и злорадство на похоронах по поводу смерти ненавистного Потапа.
Лепота-с, в общем, лепота-с.
Что же Булгаковым противопоставлено этому органическому человеческому пороку?
Он бывал в Третьяковке, видел изумительную беломраморную «Слепую» Антокольского, и мысль не о физическом недостатке, а о душевном достоинстве посещала его каждый раз. Казалось в эти моменты общения с величайшей сосредоточенностью и внутренним благородством, что «быть зрячим — значит терять время зря», потому что в двух шагах, в белизне, тишине и такой же сосредоточенности Тот, кто стал главным героем его главного произведения25. Шекспировское «глаза, повёрнутые зрачками внутрь», в совесть — выражено в обеих скульптурах с необыкновенной силой. Отрешённое спокойствие отлетающего Фиолетового рыцаря сродни этим двум молчаливым шедеврам. Зрачки, вынужденные напряжённо следить за окружающим с целью не пропустить внезапно возникшую опасность — такая зрячесть призрачна и зряшна. Имеет смысл напрягать зрение, только если есть шанс лицезреть самого Иешуа Га-Ноцри. Дурак-дурак, а Иванушка-то был прав. — Знал, что просить у того, кто всё может. И что же? — Устраивать «второе пришествие» перед их заплывшими жиром и налитыми водкой зенками? — Нет, прочистите прежде окуляры, господа, тогда и «привод» не понадобится.
...Тучи на горизонте сгущались. — «Глаза б мои не видели!..» — Он ослеп. Но Фадеева, пришедшего навестить по заданию «отца народов», назидал дружески: «Вы с N. встречаетесь чуть ли не каждый день, а я в глаза его не видел, но знаю его насквозь. А вы не знаете! В том-то и штука, что не знаете. Эх, эх, сидя в кабинете, можно и ослепнуть. Не отличишь, кто друг, а кто только и ждёт, чтобы подставить подножку...» (9; 109).
Он — ослеп?! Нет, он не ослеп. Просто он уже был после. Как говорил его любимый Дон-Кихот: «Я не сомневаюсь в том, что вернусь на крыльях победы».]
22. Сквозь весь Роман проходит образ зеркала; с чем это связано?
Зеркала — целая глава в области эзотерики, включающая и специальный раздел «магические зеркала». Тексты, обслуживающие эту тему, неисчислимы; хрестоматийным примером является мачехино «зеркальце» из Пушкинской «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Копьё, перевязь и магическое зерцало — устойчивый набор необходимых атрибутов при изображении ангелов. Материальная агрегатность — даже гораздо более тонкая, чем земная, — обладает возможностями видения, ограниченного размерами фокусного пятна; поэтому для широты ведения применяются «ретрансляторы», экранами которых и являются «магические зерцала», или пантакли.
Больное воображение невежественных первохристиан превратило спокойное и прозрачное греческое даймон (δαίμων) в «истериософское» суеверное демон, а единое греческое ангел (ἄγγελος) в двойную систему: «хороших» ангелов и «плохих» аггелов. [Пытавшийся быть в какой-то степени хроникёром-бытописателем Булгаков пользуется в «Белой гвардии» этим последним, ничего реально не обозначающим, но выразительным пугалом-словом. Повышение гностической оснащённости автора МиМ проходило одновременно с творчеством и такими темпами, что ко времени окончания очередного варианта Романа надо было уже начинать новый. Особенно резко и капитально менялся уровень видения и понимания трансцендентного — знания на эту тему приходилось добывать из редкостных и труднодоступных источников, тут же верифицировать, отсеивая оккультный мусор и устаревшие данные, исследовать и перелопачивать всю мировую духовную культуру, ибо в месседж не должно было войти ничего недостоверного или тривиального. Столь ответственная позиция и роль не позволяли разводить руками, мол, «за что купил, за то и продаю», или строить на лице артистическую мину, перегруппировав «пророческие» мускулы: «такова моя самодержавная фантазия, прихоть, каприз; вы что, забыли, что я художник?» — Автор МиМ не мог «заминировать» свой выстраданный текст, потому как в слишком большие высоты забрался, чтобы говорить производное от слова худо. И он вгрызался в смысловые глубины, держа под прицелом каждый эпизод, каждый словесный пассаж, каждую цифру, число, запятую.]
В конце концов Воланд и его свита оказываются группой рыцарей с трансцендирующей мерностью и атрибутикой — а значит, вооружёнными ангелами. И если копья-стружия в руках ангелов на Рублёвской «Троице» способны колоть и даже поражать насмерть, то трое юношей у дуба мамврийского ничем не отличаются от рыцарей Воланда, ведь их троичная аллегоричность сугубо умозрительна, а иудаизм её просто не знает. Логика мифа — это не просто соблюдение условных «правил игры» при фантазировании (а именно так выглядят «вселенские соборы» и их «решения» по богословским вопросам). Миф — это образная одежда, в которую облачается информация о сущностях трансцендентных, но при том абсолютно реальных (посему возможен и наш контакт с ними, и их контакт с нами). Следует выявлять и прояснять своеобразие этой логики (т. е. гностической ауральности Планетарного Логоса и видения всего остального за пределами земного бытия в этом божественном свете), а не превращать всё за пределами здравого смысла в хаос абсурда и затем заглатывать его с фанатически вылупленными глазами: «Верую, ибо...»
Все отклонения автора МиМ от Канона произведены в сторону приближения к стройности логики мифа. По понятной причине евангелисты стремились «притянуть» Новозаветные события к «предсказаниям» Ветхого Завета, в каком-то смысле они подгоняли скрипку под давно изготовленный футляр — дикая и нелепая процедура, если разбирать её вне чисто политических нужд. Если иудаистское сознание населения Палестины того времени надо было переводить на Христов уровень путём сложной «шлюзовой» системы библейских цитат, то почему эти строительные леса следует признавать частью архитектуры только на том основании, что к ним все привыкли? При переломах с костылями ходят недолго, цель — хождение без подпорок, на «своих двоих». (Кстати, вспомните, что Христос-Рыбы — это символические ступни человека-микрокосма на приведённой ранее схеме). Суетливая апелляция к тому, что Иисус из Назарета тот самый, предсказанный Мессия, должна уступить место простому спокойному вглядыванию в Его живые черты, более полные смысла, красоты и значительности, чем было напророчено в узкоэтническом, национально-лимитированном ветхозаветном образце.
[Что Булгаков и сделал. Вслед за духовными мастерами последнего столетия, ставшими его учителями.]
Зеркало, как уже было сказано, удваивает картину мира. Поставленное в тупиковой стене лабиринта, оно даёт возможность продолжать поступательную непрерывность движения, т. е. возвращает в ограниченный биосферой мир его космическую континуальность. Это значит: совершать поступки, а не ракоходно «брать свои слова назад».
Категорически посюстороннее сознание признаёт за реальность только то, что отражается в зеркале, и не ставит ни во что само отражение. Оно не понимает, зачем завешиваются чёрным зеркала в доме покойника, почитая это за простое суеверие. Объяснить ему, что такое полтергейст — невозможно, поскольку за экстраординарным «полтер» лежит абсолютно для него непостижимое «гейст». Иван кое-как понял, кто сидел рядом с ним на Патриарших; Берлиозу — без отделения тела от головы растолковать это оказалось не под силу.
Между тем, как всё просто!
Что отражается в зеркале, когда перед ним ничего не находится? (Легче всего этот эффект получается в системе двух, стоящих напротив друг друга зеркал.) Ведь даже «ничего», отражаясь в зеркале, будет переворачиваться слева направо и терять в светимости. Ничто перед зеркалом умножаясь на ничто в зеркале, обязательно должно дать в результате нечто. (Как минус умноженный на минус даёт плюс). Отсюда проистекает, что «Зазеркалье» потентно (что ныне доказано опытным путём26). Тут уже не просто мистика; тут ещё и физика запороговых пространств и пороговых состояний. Поэтому зеркала — не метафорические, но абсолютно реальные окна в иной мир, люки в иную мерность.
Зеркало — предмет, но зеркальность есть принцип.
Любой предмет с идеально выровненной поверхностью начинает отражать (т. е. быть зеркалом).
Идеальное земное зеркало — зеркало вод. Земля — огромное сферическое зеркало, поскольку большую часть поверхности Земли занимает мировой океан. Вода — транспарантный отражатель: она не только воспроизводит, но и «впитывает» картинку. Вероятно, такое свойство — самый идеальный вид зеркальности. Точно так же устроена и человеческая душа: центробежные (отражающие) силы в ней уравновешены центростремительными (впитывающими). Мы должны вернуть Богу неискажённым Его облик, отражаемый в нас, и одновременно впитать этос — божественный закон. Значит, мы душой и телом (состоящим на три четверти из воды) принадлежим водной стихии.
Вспомним, с чего начинается Роман. — С требования воды у будки с надписью: «Всевозможные прохладительные напитки». «Двое граждан» садятся у огромного зеркала Патриарших, и экспозиция для мистических происшествий полностью готова. И события не заставили себя ждать.
23. Рассматривается ли в Романе ложь как этическая, философская и нравственная проблема?
Каждый постулат Га-Ноцри обеспечивается в Московских главах экспериментально-испытательным материалом не столько из назидательно-дидактических соображений, сколько из демонстрации идеалистической проповеди в реальных бытовых обстоятельствах (т. е. демон старается показать, что происходит со светлым словом Христа в мрачной среде монстров, разрушая, т. е. де-монстрируя её).
Итак: «Говорить правду легко и приятно». — Потому что Высшие Силы, для которых мы абсолютно проницаемы, следят за каждым шагом, каждым словом тех, кто оценивается персонально (напомню, что «человек массовый» определяется поведением семьи, рода, этнической группы и даже целого этноса, например, «чукча» анекдотов). Кажущееся «невмешательство» Их в «дела человечьи», на основании чего профаны заключают, что Их вообще не существует, является иллюзорным, неотслеженным, мнимым. Отсутствие быстрой и непосредственной реакции, создавая впечатление отсутствия её вообще, даёт возможность человеку какое-то время порезвиться по совершении «преступления», а отложенное возмездие постфактум считать случайностью. Но... «кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится». Неумение соотносить разнесённые во времени и пространстве причину и следствие, действия и реакцию на них, «доводы» и «контрдоводы» отличает «смертных, то есть слепых», от бессмертных и зрячих. Самоуверенность, необходимая человеку для самостояния и возможности выбора (т. е. свободной воли), не подкреплённая подлинным знанием в духовной сфере (оно возможно только при подсоединении к Планетарному Логосу — Резервуару Знания Земли о Небе и Неба о Земле), оборачивается наглостью и заносчивостью перед лицом невежд и профанов. Когда кончаются доводы, но не иссякает внимание толпы, искушение начать «лепить горбатого»27 или, проще говоря, врать бывает непреодолимым. Тогда и следует расплата:
«А он попросту соврал (а может быть: сов. враль? — ОК)! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обращаясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»
И санкции не заставили себя ждать.
Азазелло выговаривает Варенухе:
«Хамить не надо по телефону, ябедничать не надо, ...лгать не надо» (7; 413).
Естественно, «умному мальчику» Мастеру и «умной девочке» Маргарите и в голову не может прийти обманывать всеведущих, хотя жизнь и принуждает иногда быть непрозрачными одних людей для других. К своему вящему удовольствию (Маргарита даже не хочет прикрывать наготу в их присутствии), наши герои вовремя сориентировались.
«— Позвольте спросить, вы, надо полагать, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?
— Нет! — с силой ответила Маргарита. — И, так как я всё-таки не настолько глупа, чтобы, разговаривая с вами, прибегать ко лжи. скажу вам со всею откровенностью: я прошу у вас об этом потому, что если Фриду не простят, я не буду иметь покоя всю жизнь. Я понимаю, что всех спасти нельзя, но я подала ей твёрдую надежду. Так уж вышло. И я стану обманщицей.
— Ага, — сказал Воланд, — понимаю» (7; 404).
[И это говорит «отец лжи»!]
К сожалению, «условия человеческого существования» не так часто как хотелось бы предоставляют приятную возможность людям говорить друг другу правду. Есть узаконенные правилами общежития формы обмана: врачебный обман, обман пассажиров командой во время катастроф, мимикрия разведчика, военная хитрость. дезинформация противной стороны, реклама, всегда неадекватная при обилии альтернативных предложений и т. д. и т. п. Короче, «правда, кричащая не на месте — дура!» Так был резюмирован под сводами дворца Ирода Великого разговор Иешуа с Иудой. — Какая уж там «приятность», — это было сказано с горечью. Да, конечно, «все люди добрые»; но добраться до этой о-очень глубоко задвинутой доброты можно, только сняв с человека оболочку жизни. Так произошло с Берлиозом. Душа-золушка была загнана в такой дальний и тёмный угол, что предсмертный крик «Боже!», казалось, произнесли чьи-то чужие уста. — Может быть, Коровьев «озвучил»? Ему не занимать: «Коровьев тут же воскликнул: «Об чём разговор, Господи!» — поразив Босого...» (7; 65).
[Мелкая пустозвонная бытовая ложь рассматривается Булгаковым на уровне насекомых, что особенно отчётливо заявлено в «Беге», где эта тема противопоставлена птичьей мелодике главных героев. Подхватывая убийственную иронию мефистофелевой «Песни о блохе», Булгаков разворачивает целую ярмарку инсектов (его ещё подзадоривал Замятин со своей «Блохой»). Тут и вши тифозные, и блохи, и клопы; но тараканы, особенно знаменитый Янычар, поставлены в число главных действующих лиц. Выразительно лирическое соло Хлудова о тараканах: «Да в детстве это было. В кухню раз вошёл в сумерки — тараканы на плите. Я зажёг спичку — чирк!.. а они побежали. А спичка возьми да погасни. Слышу, лапками они шуршат, бегут — шур-шур, мур-мур. И у нас тоже — мгла и шуршание. Смотрю и думаю: куда бегут? Как в ведро... С кухонного стола, бух!» (49; 490)28.
В сцене тараканьих бегов (Сон пятый) звучит в тон «каватина» Чарноты:
«Чарнота. Что же я, жучок или фармазон константинопольский, неизвестный вам? Можно бы, кажется, поверить генералу!..
<...>
Личико. Клоп по вас ползёт, Григорий Лукьянович, снимите! <...>
Чарнота. Господи ж! <...> Солнце начинает греть, пулемётные стволы раскалённые... и вши! Вошь — это насекомое!
Личико. Фу, гадость говорите, Григорий Лукьянович!
Чарнота. Гадость? Разбираться всё-таки нужно в насекомых! Вошь — животное боевое, военное, а клоп — паразит! Вошь ходит эскадроном в конном строю. Вошь кроет лавой, значит, будут громаднейшие бои... (Тоскует.) Артур!
Артур (выглянул во фраке). Чего вы так кричите?!
Чарнота. Смотрю я на тебя и восхищаюсь, Артур. Вот уж ты и во фраке. Не человек ты, а игра природы: тараканий царь! Везёт тебе. Впрочем, ваша нация вообще везучая!
Артур. Если вы опять начнёте разводить антисемитизм, я с вами не стану беседовать! <...>
Чарнота. Ты, стало быть, и далее намерен кровопийствовать?»
Затем Булгаковская ироническая энтомология приобретает симфонический размах. Артур представляет свою конюшню:
«Артур. Первый заезд! Бегут: первым номером — Чёрная Жемчужина! Номер второй! Фаворит — Янычар!.. Третий — Баба Яга! Четвёртый — «Не плачь, дитя»! Серый в яблоках таракан! Пятый — Букашка! Шестой — Хулиган! Седьмая — Пуговица!»
Начинаются забеги. После первого же разражается скандал.
«Проститутка-красавица (вскочив на стол в ресторане, кричит). Боцмана с «Вицекороля Индии» подкупили Артура, чтобы Пуговицу играть! Фаворит трясёт лапками, пьяный, как зюзя; где видано, чтобы Янычар сбоил!..
Артур (отчаянно). Я вас спрашиваю, где вы видели когда-либо пьяного таракана?
Проститутка-красавица. Mensonge!29» (49; 497—502).
Всё и сошлось к одному ключевому слову.
Ну а как себя ведут благородные крылатые герои?
В Шестом сне, где Люська устраивает разнос проигравшемуся на тараканьих бегах Чарноте, намекая, что продаёт себя, чтобы прокормить его, себя и Серафиму; та вспыхивает, мол, ничего не знала.
«Люська. Что ты лукавишь, Серафима? Что ты, слепая или не взрослая? (Кстати, это ещё эпизод к теме о слепоте. — ОК)
Серафима. Не смей так говорить! Я никогда не лгу!»
Звучит красиво. Но достаточно вспомнить прозвучавшее в Сне втором, чтобы опровергнуть благородную категоричность этих слов.
«Корзухин (поворачивается, смотрит Хлудову в глаза, учуял). Никакой Серафимы Владимировны не знаю. Эту женщину вижу впервые в жизни. Никого из Петербурга не жду! Это шантаж!
Серафима (поглядев на него мутно). Да, в первый раз вижу эту гадину!» (49; 505, 478).
Что касается Голубкова, то прояснению его правдивости посвящена целая сцена в контрразведке (Сон третий) с эпиграфом-подзаголовком «...Игла освещает путь Голубкова». — Та самая игла, на которую накалываются показательные экземпляры энтомологических коллекций. Да и никакой он не «Голубков», а так, гусеница, как называет его лихой гусар де Бризар.
Невозможно жить по законам «предельных обстоятельств». — С таким «выжатым до упора рубильником» можно только идти на смерть. Чтобы длить, надо лавировать и топтаться, падать и подниматься вновь.
«Люська (потрясая кулаками). У... гнусный город! У... клопы! У... Босфор!.» (49; 506).
Высшие Силы и не ловят за язык. Они оставляют пространство для манёвра; важно только, чтобы душа, как компас, была сориентирована на правду, чтобы сокрушение сердечное не позволяло недостоинству стать привычкой.
Кто осудит Булгакова за то, что он скрывал, что служил в белой армии? Всё, что было им создано, было написано «при свете раскалённой иглы». 20.X.1955 г. Елена Сергеевна записала: «На улице встретила Вл. Авг. Степуна30. Был в ссылке 16 лет. На допросах били и заставляли подписать чёрт знает что. В частности, что в 37 г. М.А. жил у него на даче и занимался контрреволюционной деятельностью, пропагандой. Донос написали 2 женщины, жившие там» (4; 374).
Все эти годы Булгаков был на волосок от гибели. Да, да — на тот самый волосок.]
24. Как соотносятся представители Ведомства Справедливости с реальными носителями зла, с которыми так или иначе должны разбираться?
Команда Воланда судит не действия, она судит подоплёки. Корзухин, не делающий никому особого вреда, награждается со стороны жены, которая не сослепу вышла за него замуж и с удовольствием пользовалась его богатством, следующими эпитетами: гадина, гнусь, подонок, сволочь. И это звучит как вердикт. «Слепой же убийца» Хлудов, изничтоживший вестового Крапилина, выскабливая грех из своей совести, в конце концов примиряется с ним, уже тенью.
Творящий всегда правый суд Воланд по приговорам, вынесенным совсем в другом Ведомстве, и виртуозно выполняющий экзекуции Азазелло вызывают своими действиями восторг всех, с этим соприкасающихся: «Внутри Маргариты оборвалось что-то, но ужаса она не испытала, а скорее чувство жутковатого веселья. Впервые при ней с таким искусством и хладнокровием зарезали человека» (7; 156).
Есть вариант без рукоприкладства: «У турникета, выходящего на Бронную, внезапно осветилась тревожным светом таблица и на ней выскочили слова «Берегись трамвая!».
— Вздор! — сказал Воланд, — ненужное приспособление, Иван Николаевич, — случая ещё не было, чтобы уберёгся от трамвая тот, кому под трамвай необходимо попасть!» (7; 241).
Вот с рукоприкладством, но без членовредительства: «Через минуту подкова была запрятана под засаленным лифчиком, а Аннушка, вылупив глаз и думая об ювелирах и торгсинах, и племянниках, спускалась по лестнице. Но выйти ей не пришлось. У самых выходных дверей встретился ей преждевременно вернувшийся тот самый в бубенчиках, в каких-то странных полосатых нездешних, а очевидно, иностранных штанах в обтяжку. Рыжий.
Аннушка искусно сделала вид, что она сама по себе, состоит при своём бидоне и что разговаривать ей некогда, но рыжий её остановил словами:
— Отдавай подкову.
— Какую такую подкову? Никакой я подковы не знаю, — искусно ответила Аннушка и хотела отстранить рыжего.
Тот размахнулся и ударил Аннушку по уху с той стороны, что приходилась у здорового глаза. Аннушка широко открыла рот, чтобы испустить вопль, но рыжий рукой, холодной, как поручень автобуса зимой, и такой же твёрдой, сжал Аннушкино горло так, что прекратился доступ воздуха, и так подержал несколько секунд, а затем отпустил.
Набрав воздуху, Аннушка сказала, улыбнувшись:
— Подковочку? Сию минуту. Ваша подковочка? Я её на лестнице нашла. Смотрю, лежит. Гвоздик, видно, выскочил. Я думала не ваша, а она ваша...
Получив подкову, иностранец пожал руку Аннушке и поблагодарил, выговаривая слова с иностранным акцентом:
— Я вам очень благодарен, мадам. Мне дорога эта подкова как память... Позвольте вам подарить на двести рублей бонов в Торгсин.
Отчаянно улыбаясь, Аннушка вскрикнула:
— Покорнейше благодарю! Мерси!
А иностранец в один мах взлетел на один марш, но, прежде чем окончательно смыться, крикнул Аннушке с площадки, но уже без акцента:
— Ты, старая ведьма, если ещё найдёшь когда-нибудь чужую вещь, сдавай в милицию, а за пазуху не прячь.
Тут и исчез» (7; 162—163).
Теперь без того и без другого (Воланд даже специально предупреждает: «без членовредительства»)31:
Вам посвящается, — сказал галантный Фагот и предпринял некоторые приготовления. Вытянулся, как резинка, и устроил из пальцев замысловатую фигуру. Я глянул на лица милиционеров, и мне показалось, что им хочется прекратить это дело и уехать.
Затем Фагот вложил фигуру в рот. Должен заметить, что свиста я не услыхал, но я его увидал. Весь кустарник вывернуло с корнем и унесло. В роще не осталось ни одного листика. Лопнули обе шины в мотоциклетке и треснул бак. Когда я очнулся, я видел, как сползает берег в реку, а в мутной пене плывут эскадронные лошади. Всадники же сидят на растрескавшейся земле группами.
— Нет, не то, — со вздохом сказал Фагот, осматривая пальцы, — не в голосе я сегодня.
— А вот это уже и лишнее, — сказал Воланд, указывая на землю, и тут я разглядел, что человек с портфелем лежит раскинувшись и из головы течёт кровь.
— Виноват, мастер, я здесь ни при чём. Это он головой стукнулся о мотоциклетку.
— Ах, ах, бедняжка, ах, — явно лицемерно заговорил весельчак Бегемот, наклоняясь к павшему, — уж не осталась бы супруга вдовою из-за твоего свиста».
И опять — полный восторг присутствующей при сём: «Нет, нет, — счастливо вскричала Маргарита, — пусть свистнет! Прошу вас! Я так давно не веселилась!» (7; 263—264).
Почему же действия Ведомства Справедливости рождают такой спонтанный и абсолютно положительный отклик в человеческой душе?
Цивилизуясь и окультуриваясь, человек всё более и более удаляется от зверя, теряя агрессивный статус хищника и становясь нежнее, деликатнее и обходительнее. Следовательно, более безоружным перед проявлением грубой физической силы, принуждения, хамства. А поскольку человечество обрабатывается неравномерно, очаги культуры оказываются в окружении варваров, которые, завидуя материальным результатам гармонического общежития, время от времени подвергают эти оазисы разграблению, завоеванию и разрушению.
Наследуя заветам Христа, Европа особенно остро переживала такое чудовищное положение вещей — потому-то, в конце концов, здесь возник институт рыцарства, т. е. созданный из среды цивилизованного человечества своего рода «отряд самообороны», взявший на себя нелёгкую миссию воинским трудом и подвигом защищать остальных. Систематический грабёж и убийство паломников, идущих в Святую Землю привёл к организации Ордена тамплиеров, охранявших пилигримов на всём пути их следования. Не имея возможности сравняться с дикарями в физической силе, хомо сапиенсы стали совершенствовать вооружение, ловкость, сноровку и воинскую хитрость, обладая очевидным преимуществом в разуме, владении знаниями, а значит, и технологиями.
Однако варвары, плодившиеся как насекомые, брали низкой ценой каждой отдельно взятой жизни, количеством и свирепостью. В результате они побеждали и первое, что делали победив, усваивали и перенимали новые виды вооружения. Завоёвывая и поглощая очаги культуры, варвары постепенно цивилизовались. Смешанные браки нивелировали разницу между одними и другими. Сами оазисы резко «понижали планку» внутреннего распорядка бытия как в индивидуальном, так и общественном смысле.
К XV веку рыцарство закончилось, а Европа стала представлять собой более или менее равномерный по цивилизованности конгломерат народов (с некоторым перепадом между романоязычными и славянскими регионами). XVI век ушёл на машинную революцию, сопровождавшуюся Реформацией, XVII — на упорядочение новых реалий на социально-политической карте, а в XVIII рыцарство возрождается, но уже в чисто духовной сфере. Упомянутое «понижение планки» европейским человечеством за счёт обильных варварских вливаний в менталитет континента, узаконив элементы восточных тираний в области государственного устройства, привнесло их и в духовную сферу. — Извратив тем самым заповеди Христа и приноровив Его учение под абсолютно секулярным и даже пародийным названием «христианство» к уровню большинства (тогда как группы ранних последователей Иисуса сознавали себя только как прогрессивное меньшинство). Духовное рыцарство возникает как реставрация («возврат к истокам») этого правильного понятия — знаменитого Христова «мало избранных».
Со времени Великой французской революции политики всех стран, сметая все остальные формы существования общества, стали бороться за «большинство» под благовидным предлогом «единоверия», понимая под этим словом политическую ориентацию масс. Обставлялось это псевдорелигиозной демагогией, цинически не допускавшей ни малейшей духовной свободы личности, её этической автономии перед «властями земными». Абсолютно не считаясь с развитием знания и культуры, власти (в том числе и в сутанах) громыхали такими суеверно-атавистическими понятиями, как «помазание», «рукоположение», «соборование», «исповедание и отпущение грехов» и т. д. Прожжённое в своей ангажированности жречество превратилось в подпевал и холуёв режима (того или другого), нагло обставляя своё социальное угодничество савловой фразеологией («нет власти не от Бога»).
В этой атмосфере, находясь под официальным запретом большую часть XIX века, тайные общества стали объединениями хранителей знания, неискажённой проповеди Христа, гностических накоплений поколений. Они и сохранили «человека прямоходящего» таковым в окружении толп, ползающих на коленях. Между тем политиканы в рясах создали удобную мифологему «чёрта» (жупельную персонификацию «противной стороны»), под чью власть можно было списать всех инакомыслящих и объявить «облаву» на них.
Вспомним фрагменты заседания «Кабалы святош»:
«Верность. Король покровительствует наукам и искусствам...
Сила. Псу под хвост эти искусст... прости Господи!
Верность. И как всё-таки без книг, брат Сила?
Сила (указав на стол пальцем). Вот книга — священное писание. Брат Верность, вы, может быть, берётесь написать книгу лучше этой?
Верность. Что вы, что вы, брат Сила! Зачем же так ставить вопрос? Боговдохновенная книга!
Сила. Стало быть, не для чего сочинять чёртовдохновенные книги.
Верность. Помилуйте, брат Сила, я с вами совершенно согласен!» (6; 444).
Из фарисейского «нежелания проливать кровь» они сжигали людей на кострах инквизиции, анафемствовали величайшим деятелям культуры. Среди них — Данте и Толстой.
Масон Гёте в начале XIX века первым восстал против мракобесного изобретения. Именно его motto взято эпиграфом к Роману: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Напротив этой — благой — силы стоит иная, земная: мрачная кабала рясофоров, иезуитски сулящих благо, а на самом деле творящих на земле зло. Конечно, есть и другие: цепные псы режима, уголовники, завистники, стукачи. Рясофоры только «часть этой силы», но, воистину, самая свирепая.
[Бедный «Мольер Афанасьевич»!
Подлинные носители зла в текстах Булгакова получают ту самую атрибутику оперно-карнавального «творителя зла» (согласно «штатному расписанию»), которая усилиями Гёте-Гуно-Шаляпина стала общеизвестной.
Таков (тараканий) король Артур из «Бега»:
«Чарнота. Я, Люси, задумал продавать их (газыри. — ОК) и, видишь ли, положил в ящик, на минуту снял ящик на Гран-Базаре, и...
Люська. Украли?
Чарнота. Угу.
Люська. Человек с чёрной бородой? Не правда ли?
Чарнота (слабея). При чём тут человек с чёрной бородой?
Люська (огненно). А он всегда крадёт у мерзавцев на Гран-Базаре» (49; 504, курсив мой. — О.К.).
От него по выразительности не отстаёт Рудольфи из «Театрального романа» — «злой дух, принявший личину редактора»:
«Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и размётанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит остриё чёрной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было.
Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель» (45; 284—285, курсив мой. — О.К.).
В первых вариантах Романа, пока он ещё лежит полностью в Гётевской традиции, костюм и грим «консультанта» взяты из того же «гардероба»:
«...Рассказ о коте в трамвае положительно потряс слушателя. Он заставил Ивана подробнейшим образом описывать неизвестного консультанта и в особенности добивался узнать, какая у него борода. И когда узнал, что острая, торчащая из-под подбородка, воскликнул:
— Ну, если это только так, то это потрясающе!» (7; 296, курсив мой. — О.К.).
В первой редакции Романа, появляясь в Шалаше Грибоедова, Бездомный с истовостью боярыни Морозовой: «Кайтесь, православные! — возопил Иванушка, — кайтесь!.. он в Москве! С... учениями ложными... с бородкой дьявольской...» (22; 397, курсив мой. — О.К.).
Так же, как Мефистофелева бородка, знаково зафиксированная в одноимённой скульптуре Антокольского, отличительным признаком антихриста, вытеснив навсегда Петровские кошачьи усы, стали ненавистные Онегинские баки. В этой атрибутике Булгаков стал забойщиком и первооткрывателем. Всё перечисленное не более чем ролевые гримы «комедии дель арте»: вроде полумаски и домино Арклекина и спущенных рукавов Пьеро. Понятийной драматургии это нисколько не мешает. До той поры, пока текст не становится откровением. И тогда появляется из воздуха «дважды фантомный» (похлеще тыняновского «Киже») инженер Наве32, который нагло начинает разгуливать по Москве «с опасностью для красной столицы».
«Он — профессор, ну, может быть, и не профессор, ну словом, он стоял шагах в двадцати и рисовался очень чётко в профиль. Теперь Иван разглядел, что он росту, действительно, громадного, берет заломлен, трость взята под мышку». Потом «великан стал уходить по аллее... Ещё более сгустились сумерки, Ивану показалось, что тот, уходящий, несёт длинную шпагу» (7; 39—40, курсив мой. — О.К.).
Зачем Сатане и Планетарному Логосу вывешивать знакомые невеждам «опознавательные знаки»? — Постепенное Их узнавание и есть процедура роста испытуемых, а для Мастера, поскольку он единственный из всех готов, это не представляет труда с самого начала. Подлинные земные негодяи, чьи характерные черты пошли на производство фантазийного монстра, прибегают к коварной мимикрии (типа «волк в овечьей шкуре»); появление почти «при полном параде» возможно только в атеистическом государстве в «химически дружественной» среде. Опознаёт их по линии демонизма один Булгаковский просвещённый взгляд, и использует в тексте Романа от редакции к редакции всё более скупо, всё менее педалируя, лишь как необходимые элементы мифологического языка. Профанный натуралистический глаз, не умеющий читать в книге символов, дуреет от «неестественного» вида персонажей и реалий мировой мифологии, считая это плодом суеверно-сказочного атавизма культуры. МиМ, помимо всего прочего, является образцом пользования этим языком.
Стало быть, «санитарная» команда Воланда, позаимствовав костюмы прямо «из улицы», взрывает, взрезает, по-пастеровски провоцирует устоявшееся совейское бытиё, не заботясь о своей актёрской узнаваемости и не боясь потерять «свою долю аплодисментов». У них в Москве важная и серьёзная цель, оправдывающая те средства, коими они пользуются. Даже Воланд теряет свою ролевую спецификацию к концу работы над Романом (это при том, что начат текст был как «роман о Сатане»!). «Прочитав первые три главы, он вдруг задал нам вопрос: «А кто такой Воланд, как по-вашему?» Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным.
Елена Сергеевна на другой день записала в своём дневнике: «Вчера у нас Файко — оба, Марков и Виленкин. Миша читал «Мастера и Маргариту» — с начала. Впечатление громадное. Тут же настойчиво попросили назначить день продолжения. Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся. Сделали. Он написал: Сатана. Я — дьявол. После этого Файко захотел так же сыграть и написал на своей записке: я не знаю. Но я попалась на удочку и написала ему: Сатана».
А я ещё помню, как Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошёл ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове» (8; 298—299).
По когтям — льва. Булгаков любил эту латинскую поговорку.]
25. В связи с этим: как задействована в Романе лексема чёрт?
Слово чёрт семантически связано с чертой, чем в христианской (реально: народно-бытовой) ритуалистике люди очерчивали себя, выгораживая зону и «заряжая» её молитвами, «крестными знамениями», сплёвываниями через левое плечо, кукишами (по два на каждой руке), пением псалмов, глядением в землю, а не перед собой, т. е. тем, что делал в церкви, отпевая панночку, Хома Брут. После обезоруживающей Гоголевской иронии подобная этнически-суеверная суета воспринималась в «образованных слоях» русского общества как анекдот. Однако когда Достоевский в разговоре Ивана Карамазова с чёртом дал правильную психофизику существования этого феномена, понятия сатанологии без иронического контекста снова вернулись в русский (и европейский) оборот. Муки совести начали приписывать некоему внутреннему суровому судии, терзающему человека в объединённом внутренне-но невнешнем умозрительном пространстве. Причём «умозрительном» перестало пониматься как «условно воображаемом»; оно идентифицировалось с абсолютно конкретным пространством души, являющимся маленьким ответвлением-фьордом огромного надмирного. Образное выражение «угрызения» лепило-визуализировало это существо, пользуясь набором отрицательно окрашенных деталей: клыки, острые и обильные количеством рога, клешни, жала всех видов, ядовитые зубы и прочие «прелести» с полотна «Искушение святого Антония». И пока «гром не грянул» (16-й аркан) задиристо-бесстрашное отношение к этому вроде бы неактуальному существу (15-й аркан) почиталось доблестью, признаком индивидуальной независимости и свободомыслия.
Принадлежа к интеллигенции и выводя её в своих произведениях «как лучший слой в нашей стране», Булгаков невольно приобщился к её языковой культуре и речевой традиции, куда входило и бравое, обильное чертыхание. Пассивная, претерпевающая душа народа (известно, что он не «сам совершает», а с ним «случается») относится к чёрту с опаской, списывая на него все свои грехи и недостоинства, — мол, «бес попутал», т. е. «бес — плохой, а я — хороший». Именно это имел ввиду Булгаков, когда в письме Правительству, откуда взят нижеприведённый пассаж, писал, что одной из главных черт его творчества является «изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина» (16; 226, курсив мой. — О.К.). Этот четырежды (четвёртый эпизод опущен) выскакивающий из-под пера МИСТИЧЕСКОГО писателя чёрт представляет его в виде рыцаря, очертя (мечом в воздухе) голову бросающегося в бой.
Трусливое шкодничанье; желание обмануть и провести, «отличившись», не перед Богом, а перед самим собой; (в случае прихватывания за филей) вместо сокрушения сердечного — малодушное перекладывание вины не только на «лукавого», но и на самого Творца, который, видишь ли, не внял их усердным «отченашам» и не избавил, как они о том убедительно просили, — всё это со стороны народа заставляло интеллигенцию не считаться с опасливой ритуалистикой, зато и смело отвечать за свои поступки.
Булгаков с юности солидаризируется с подобной позицией, особенно за отсутствие в ней подлого, гласного или молчаливого, укора Планетарному Логосу: «Что ж не защитил?..» («Да нет, мы без претензиев, но с нас спрашивать неча».)
Чертыханиями наполнены все Булгаковские произведения — как высказывания персонажей, так и авторская речь. Мистический подход к материалу заставляет Булгакова постоянно ощущать в экспрессивных выражениях типа «чёрт возьми!» их прямое смысловое значение и гротесково-комедийные возможности реализации подобных пожеланий. Собственно присутствие дьявола (чёрта) в том или ином конкретном месте, участие в том или ином земном событии является своего рода «откликом» на настойчивые призывания, срабатывает как реакция на магические заклинания. Так возникает «Дьяволиада», построенная на персонификации множественного числа в слове «кальсоны» в двух братьях-близнецах Кальсонерах. Борода одного из них носит сугубо маркировочную, т. е. маскарадную функцию, не спасающую, однако, от обычной близнецовой путаницы. Но главный — «дьявольский» — эффект: одновременное нахождение в разных местах, одноликость при разноимённости намекает на убойные принципы этнического, группового и партийного лобби, и об это всё бесполезно биться лбом «недомерку» Короткову. Та же специфическая феноменология присуща неуловимому, явно инкогнитивному вездесущему Шполянскому: он одновременно погиб (Владимир Борисович), жив и занимается саботажем в войсках гетмана как «большевик», еле унёс ноги в Петербург от настоящих большевиков; бежал в Финляндию, прислав оттуда телеграмму «Всё хорошо, Пушкин» (Виктор Борисович); параллельно находился в эмиграции, непрерывно там писал и без проблем издавал написанное (Дионео); под псевдонимом Дон Аминадо подрабатывал в эстрадной литературе и здесь и за рубежом (Аминодав Шполянский); и... — но тут выясняется, что круг замкнулся.
Первыми с этим феноменом столкнулись чекисты, устроившие на него засаду. Пришли все другие — кроме него. А он?
Каверин, случайно оказавшийся среди этих «всех», вспоминает33:
«Для побега нужны были деньги и он на трамвае поехал в Госиздат на Невский 28, где все его знали, где изумились, увидев его, потому что он был отторжен и, следовательно, не имел права получить гонорар, который ему причитался. Но в административной инерции к тому времени ещё не установилась полная ясность. Бухгалтер испугался, увидев Ш., но выписал счёт, потому что между формулами существования Госиздата и Чека отсутствовала объединяющая связь.
Кассир тоже испугался, но заплатил — он тоже имел право не знать, что лицу, имеющему быть арестованным, не полагается выдавать государственные деньги. Впрочем, не только эти чиновники были ошеломлены смелостью Ш. Весь Госиздат окаменел бы, если бы у него хватило на это времени. Но времени не хватило. Ш. сразу же ушёл — на всякий случай через запасной выход: на Невском его могли ждать чекисты».
Это почище кота, входящего в трамвай.
Он весь был такой: писал везде, всегда и одновременно, причём всё печатал: превращал в свои текст, на что только ни падал взгляд; раздраконивал Достоевского в пух и прах как будетлянин (в устных выступлениях) и тут же зарабатывал деньги на книгах о нём; не менее прилежно «доил» и Льва Толстого... — Фантастика!
Однажды судьбы автора и «героя» схлестнулись: затравленный Булгаков пытался заработать переделкой для кино «Ревизора». Не тут-то было.
«Вечером на собрании жильцов Шкловский говорил М.А., что он написал и сдал сценарий «Ревизора» тому же «Украинфильму». Позвольте!..»
Через неделю: «А сегодня Катинов по телефону: «Они только надеются на М.А.» Обложил сценарий Шкловского, сказал, что ему уже давно было говорено в «Украинфильме», что его сценарий не подходит. Но что Шкловский теперь продвигает его по линии оргкомитета. Чтобы М.А. не обращал внимания».
И через полгода:
«В «Литературной газете», по словам Ермолинского, напечатано: режиссёр Коростин будет ставить «Ревизора» по сценарию Шкловского». — Ошибка? Описка? Сознательная дезинформация? Или проскопия?
Булгаков ещё немного порыпался... — на этом дело и кончилось.
Шкловский как лефовец поносил по-чёрному автора «Турбиных», назвал его ковёрным клоуном в «Гамбургском счёте». И естественно, попал в список лютых гонителей, составленный Булгаковым для памяти.
Поразительна развязка:
«31 мая 1967 года. Е.С. Булгакова записала в дневнике: «Вечером — письмо от Виктора Шкловского. Видимо, Страда34 ему передал моё резко отрицательное отношение к нему из-за Михаила Афанасьевича. Шкловский написал очень искренне, по-старчески трогательно, о своём преклонении перед Булгаковым»» (16; 229). — И был прощён!
Ай, класс! Причём беспрерывно атакующий.
«Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.
Турбин хватал её за горло, душил, шипел:
— Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Чёрные баки...
Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко — пальцы разжимаются.
— Это мой двою... троюродный брат.
— Где он?
— Уехал в Москву.
— Большевик?
— Нет, он инженер.
— Зачем в Москву поехал?
— Дела у него.
Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочитать в хрустале? Ничего нельзя. <...>
— Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю, гадину.
Юлия Марковна улыбалась» (49; 416, курсив мой. — О.К.).
С этим инженером шутки плохи.
«Безликое же лицо становится грозным и опасным. Опасен этот окаймлённый баками Онегин35, и чувствуется за ним грозная поддержка» (49; 443, курсив мой. — О.К.).
«Он молод. Но мерзости в нём, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, юношей на порок...» (49; 390).
«Не раз... нам приходилось говорить со Шкловским о «Белой гвардии». Он не отрицал связи своей биографии с фигурой Шполянского» (22; 342). «Биографические данные совпадают», — подтверждает В. Каверин36.
Так что за «дьявольским» не надо было лезть в пыльные романтические загашники. Булгаков то встречал «сатанинского вида дворника», то читал у классика о «дьявольской разнице», то сталкивался с «демоническим хохотом» (запись в дневнике Елены Сергеевны от 13.XII.1934: «...Доктор Джаншитов... клятвенно... заверил, что брак наш с Мишей продлится не больше года, и при этом демонически хохотал»). Ему «чертовски не везло» и «адски не фортило»...
Трансцендентное в этом случае было ни при чём. Только профанное воображение представляет гроссмейстера в виде игрока, расправляющегося с соперником и при этом сохраняющего на доске полный набор фигур в неприкосновенности. Динамическая структура бытия предусматривает потери «по ходу игры»: важна лишь финальная победа. Куркулёвое сознание осторожничающего «охранителя» высмеяно Булгаковым в образе «обложившегося псевдонимами» горе-литератора Пончика-Непобеды, чья покаянная молитва уже приводилась. Почти все страховавшиеся и «работавшие с лонжей» не сносили головы, включая булгаковских притеснителей и стукачей, в том числе и Пончик-Василевский. Булгаков же двадцать лет ходил по острию и не проиграл генерального сражения. Он понял в конце концов, где лежит подлинно демоническое, и с тех пор уже не надрывал душу суеверными химерами.
Он постиг и ещё одну тайну.
Близ поверхности земли располагается зона «нижних духов» — сгустков-идентификатов плотной земной материальности: бескрылые души недостойно проживших свои жизни людей, не смогшие подняться в небо; духи стихий; пересмешники-«паромщики» пограничья двух миров (Харон Данте и Шекспировские клоуны-могильщики, представляющие в хохмах ту же модель) и т. д. Это — божества зла, духи инерции, не могущие поспеть за человеком в его благом восхождении в горние и ревниво «хватающие за трусы», как отстающий по дистанции соперник-бегун. Они противодействуют, морочат; это Пушкинские бесы, от Достоевского срикошетившие в Булгаковские тексты. Это черти, живущие в болоте, голоса, видения, призраки и прочая оккультная шушера. Контактов с ней жаждали и ждали недалёкие мещане, которых Булгаков разыграл в своём «спиритическом сеансе». Одному из таких «контактёров» забрасывавшему его рассказами об «услышанном», он строго выговаривал, выступая как профессиональный мистик и духовный мастер: «В каких условиях Вы живёте? Звучат ли Ваши голоса? Гоните их к чертям упорно!» (55; 146). Вроде бы чисто экспрессивное «к чертям» ненавязчиво и шутливо даёт точную духовную рекомендацию.
Чертыханье вообще чрезвычайно часто у Булгакова. Этим способом он снижает свой пророческий тон и «заземляет» патетику. «Только гений может спасти патетику, и то не всегда. А что может быть несноснее заезженной патетики? Затыкаешь уши от стыда!..» (9; 71).
Чертыханье в высокоинтеллигентной среде, которая воспитывала Булгакова в ранний московский период и определила рисунок его поведения в дальнейшем, было формой «опрощения», а в 20-е годы и средством мимикрии в пролетарской атмосфере социального бытия. Оно производило впечатление религиозного свободомыслия и почти атеизма. Особенно этим отличался отец жены А. Габричевского, профессор А.Н. Севериев, чья квартира в Зоологическом музее стала пристанищем-клубом многих деятелей искусства и науки. Бывал у «Габричей» и Булгаков, и многое из повадок Северцева вошло в образ профессора Персикова из «Роковых яиц».
Н.А. Северцева писала об отце: «Я всегда любовалась, как он брал тонкие покровные стёклышки со стола, брал сразу за края, они не выпадали из рук, и клал их совершенно точно без поправок за редким исключением. Но наряду с этим постоянно стукался плечом, задевал карманами за ручки дверей, все предметы и стены, попадавшиеся на пути, задевал. Только и было слышно, что ударился или задел, и вечная реплика: «А, чёрт!» Чёрт сидел на его устах. «Чёрт побери», «А какого чёрта», «Чёрт с ним», «Ни черта не видно», «Чёртова кукла» — во всех случаях и интонациях чёрт» (22; 309). Нет смысла цитировать обильные чертыханья Персикова — они скопированы один к одному; Булгаков пересыпал ими свои тексты, как «персидским порошком» против моли сусальности — она легко могла завестись в недрах описываемого им интеллигентского рая.
И всё-таки слово — магично, и Высшим Силам сложно и хлопотно постоянно нейтрализовывать подобные «призывания всуе». Поэтому Северцев-Персиков, став грубовато-симпатичным Пилатом, получает справедливое замечание:
«— Чёрт возьми! — неожиданно крикнул Пилат своим страшным эскадронным голосом.
— А я бы тебе, игемон, посоветовал пореже употреблять слово «чёрт», — заметил арестант.
— Не буду, не буду, не буду, — расхохотавшись, ответил Пилат, — чёрт возьми, не буду» (7; 218).
И действительно, перед лицом Света и Истины глупо и неуместно говорить «о тенях». Даже Сатанаил присутствует в этот ответственный час тихо и прикровенно. Зачем же зря колебать эфир?
Русское чёрт, кроме того, входит палиндромно в понятие отречение от Бога, страшней которого — как деяния — трудно что-либо вообразить. Это и значит находиться у последней черты — Пилат схлопотал-таки это удовольствие.
26. Сохраняют ли традиционные ритуальные культовые «фигуры» действенность по отношению к Ведомству Милосердия?
Вопрос этот полностью проясняет рассказ вахмистра Жилина из «сна Алексея Турбина»:
«Тут, стало быть, апостол Пётр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю: так и так, второй эскадрон белградских гусар в рай подошёл благополучно, где прикажите стать?.. («А глаза вахмистра... — чисты, бездонны, освещены изнутри.») ...Докладывать-то докладываю, а сам, — вахмистр скромно кашлянул в кулак, — думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Пётр, а подите вы к чёртовой матери... Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями и... (вахмистр смущённо почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я апостолу, а сам мигаю взводу — мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пущай пока, до выяснения обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Пётр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами — зырк, и вижу я, что баб-то и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону...
«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» — и головой покачал.
«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».
«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»
А? Что прикажите делать? Добродушный старикан. <...>
— Ну те-с, сейчас это он и говорит — доложим. Отправился, вернулся и сообщает: Ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить. <...>
— С бабами? Так и впёрлись? — ахнул Турбин.
Вахмистр рассмеялся возбуждённо и радостно взмахнул руками.
— Господи Боже мой, господин доктор. Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По первому обозрению говоря, пять корпусов ещё можно поставить..., да что пять — десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звёзды красные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают... «А это, — говорит апостол Пётр, — для большевиков, с Перекопу которые».
— Какого Перекопу? — тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.
— А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее всё известно. В двадцатом году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приёму им приготовили.
— Большевиков? — смутилась душа Турбина. — Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.
— Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога...
— Бога? Ой, Жилин!
— Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.
— Какой же он такой?
Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.
— Убейте — объяснить не могу. Лик осиянный, а какой — не поймёшь... Бывает, взглянешь — и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймёт, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдёшь. Разнообразное лицо, ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость... И сейчас пройдёт, пройдёт свет голубой... Гм... да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Вёрст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.
«Ну, не верят?» — спрашивает.
«Истинный Бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако, любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:
«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, тоже самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку...»» (49; 207—209, курсив мой. — О.К.).
Информация — экстраординарная. Она устанавливает новые вехи и ориентиры в области «религиозных отправлений» и прочей пустопорожней, как выясняется, ритуалистике. Она резко меняет акцент с толпы представителей «бедного земного ума» в нимбах на Того, кто весь есть Нимб, кто вызывает одно желание — быть с Ним б. Всё остальное — условно-нормативное словоблудие, и ему — грош цена. В «Беге» тема развивается.
«Африкан (перед Георгием Победоносцем). Всемогущий Господь, за что новые испытания посылаешь чадам своим, Христову именитому воинству? С нами крестная сила, она низлагает врага благословенным оружием... <...>
Хлудов. Сиваш, Сиваш заморозил Господь Бог. Что же это делается, ваше высокопреосвященство? Вы ему в ноги бух, а он нас на Перекопе в пух! Фрунзе по Сивашу, как по паркету, прошёл! Видно, Бог от нас отступился. Георгий-то Победоносец смеётся!» (49; 475).
В Романе этот мотив достигает подлинно эпического размаха.
«...Переводчик Коровьев тут же сделал предложение почтенному председателю товарищества. Ввиду того, что иностранец привык жить хорошо, то не сдаст ли, в самом деле, ему правление всю квартиру... на неделю.
— А? ...Упёрся иностранец, как бык, не желает он жить в гостинице, а заставить его, Никанор Иванович, нельзя. Он, — интимно сипел Коровьев, — утверждает, что будто бы в вестибюле «Метро-поля», там, где продаётся церковное облачение, якобы видел клопа! И сбежал! <...>
Босой удалился... к себе на квартиру и немедленно позвонил в «Интурист», причём добросовестнейшим образом сообщил всё об упрямом иностранце, о клопе... и просил распоряжений.
К словам Босого в «Интуристе» отнеслись с полнейшим вниманием, и резолюция вышла такая: контракт заключить, предложить иностранцу платить 50 долларов в день, если упрётся, скинуть до сорока... <...> Босой вызвал к себе секретаря Бордасова и казначея Шпичкина, сообщил им о долларах и о клопе и заставил Бордасова... составить в трёх экземплярах контракт и с бумагами вернулся... с некоторой неуверенностью в душе — он боялся, что Коровьев воскликнет: «Однако, и аппетиты же у вас, товарищи драгоценные» — и вообще начнёт торговаться.
Но ничего этого не сбылось. Коровьев тут же воскликнул: «Об чём разговор, Господи!» — поразив Босого...» (7; 64—65, курсив мой. — О.К.).
Тут уж целая гностическая полифония: и бык с Коровьевым, и клоп «в трёх экземплярах», числа 50 и 40, отсылающие соответственно к 14-му и 13-му арканам Таро (о них — речь впереди), и даже взятка в «триста рублей советскими» прямо указывает на 21-й аркан — Дурак (Сумасшедший). «И тут, сам не понимая, как это случилось, Босой засунул три сотенных в карман». — Последствия не заставили себя ждать.
Ну а финальное восклицание гаера — высшая точка в высмеивании псевдозначимой культовой риторики, сиречь речевого благообразного мусора.
Ещё более чудовищна по «смыслу» сакрализация и поэтизация орудия казни — «честнаго и животворящаго» с тайным желанием оправдать распинавших, оравших и трусливо покинувших. Такой вид каннибалистского поклонения мог возникнуть только в структуре религии «Бога мёртвого», «Христа распятого». Это хитрое и коварное изобретение кровожадного Савла-Павла, которое закрепляет навсегда Христа, пригвождённым ко кресту. С тем же успехом можно было опоэтизировать русскую «кобылу» или покрывать благоговейными поцелуями «испанский сапожок». Общаться, любить, сосуществовать с Богом Живым толпа категорически не может; «крестное знамение» есть торопливо-трусливое вспоминание, что всё в порядке, Он зафиксирован, и неожиданностей вроде той, что свалилась на Великого инквизитора, можно не опасаться.
И появляется в Романе исполненная чрезвычайной значительности реакция на известное сучение ручонкой:
«И уже собирались тронуться, как произошёл инцидент. Из-за деревьев высунулась тёмная фигура, приседая от удивления, вышла на середину поляны и — в дрожащем освещении догорающего костра оказалась мужиком, который неизвестно как ночью залез на пустынную реку. Мужик остолбенел, увидевши автомобили с пассажирами. Занёс руку ко лбу.
— Только перекрестись, — каркнул грач. — Я тебе — перекрещусь!»
Ещё эпизод:
«Там они увидели сидящую на земле окаменевшую кухарку застройщика; рассыпавшийся картофель лежал возле неё и два пучка луку.
Трое коней храпели у сарая, вздрагивали.
Амазонка вскочила первая, за нею Азазелло, на третьего последнего — мастер.
Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло рявкнул с седла грозным голосом: — Отрежу руку! — свистнул, и кони, ломая ветви, взвились» (6; 428, 279).
Тёмные фигуры, — что с них взять? — Так, «два пучка луку».
Порываются креститься в моменты припадков «медвежьей болезни» и Аннушка с Босым, и вообще это какая-то странная по жесту реакция простонародья на физическое явление, называющееся «громом». [Конечно, ироническое око Булгакова не пропускает комизм этой бытовой ситуации. Пародийно пользуется им сам:
«8 января 1934 года.
— Вот поедете за границу, — возбуждённо стал говорить Жуховицкий. — Только без Елены Сергеевны!..
— Вот крест! — тут Миша истово перекрестился — почему-то католическим крестом, — что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне в руки паспорт вложат.
— Но почему?!
— Потому, что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложников за себя.
— Вы — несовременный человек, Михаил Афанасьевич» (4; 57).
«Тонко» подмечено. Теперь понятна точность в описании жеста почти трёхсотлетней давности:
«Арманда входит в исповедальню. Орган загудел.
Шаррон (возникает, страшен в рогатой тиаре. Крестит обратным дьявольским крестом Арманду). Скажи мне, кто был сейчас у меня?
Арманда (ужасается, вдруг всё понимает). Нет, нет! Она сестра моя! Сестра!
Шаррон. Ты дочь Мольера и Мадлены! Тебя я прощаю! Но сегодня же беги от него, беги!
Арманда, слабо вскрикнув, падает навзничь и остаётся лежать. Шаррон исчезает» (6; 314—315).
Грязная клевета37 приобретает статус церковного назидания, «санкционированного свыше».
Бессмысленная привычка, клишированное рукоблудие получает у Булгакова достойную эзотерическую отповедь.]
27. Какова персональная наполненность Ведомства Милосердия?
Хотя эта тема в Романе лишь приоткрывается, есть несколько драгоценных свидетельств.
С ходатайством за Мастера появляется посланец Света (кстати, Ведомство Милосердия и Свет употребляются поочерёдно как синонимы):
«Но не успели всадники тронуться с места, как пятая лошадь грузно обрушилась на холм и фиолетовый всадник соскочил со спины. Он подошёл к Воланду, и тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади.
Коровьев и Бегемот сняли картузики, Азазелло поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и тёмное, было неподвижно, шевелились только губы. Он шептал Воланду.
Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму.
— Очень хорошо, — говорил Воланд, — я с особенным удовольствием исполню волю пославшего. Исполню.
Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся.
Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода, двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез».
Это первая (на страницах Романа) встреча представителей двух Ведомств (сам этот термин пока не появился). На встрече Свет присутствует в лице некоего фиолетового всадника, который застаёт «актёров ещё в гриме». Несмотря на это он спешивается и разговаривает с Воландом в позе почтительного предстояния (тот говорит с ним не слезая с коня — т. е. он «на коне»). Из этого следует, что карнавальное «мороченье публики» (сеанс «чёрной и белой магии», например) является обычным для демонов делом, не вызывающим ни вопросов, ни удивления, ни укоризны. Уважительное общение «ангелов» с «силами зла» в традиционной литературе — вещь неслыханная; обычно они — без всяких разговоров — тычут в них, «змиев и драконов», своими пиками, мечами и прочим холодным оружием. Вторая особенность бросается в глаза: печальное, тёмное и неподвижное лицо говорящего. Отчего такой минор? От специфики Ведомства, от необходимости вестнику Света говорить с Князем Тьмы или от боязни посланца показаться радушнее, чем ему позволено хозяином? На эти вопросы пока нет ответа, надо ещё долго вглядываться, вслушиваться и вдумываться в происходящее. Фиолетовый — цвет смерти (Сатурн) и печали, возможно, указывает на то, что все собравшиеся — разного вида ангелы смерти, а в христианской идеографии их предводителем является архангел Михаил, устойчивым атрибутом его служит радуга-мост между двумя мирами. Поэтому сцена описана как совещание-собрание вестников-ангелов, и такие совещания носят регулярный характер.
Кстати, в одном из вариантов финала Мастер с Маргаритой посылаются в Свет (Рай — сфера бога Солнца Ра) на соединение с Иешуа вослед бросившемуся туда первым Пилату. То есть за души «умерших» (реально — перешедших грань жизни и смерти) никто не «борется», скандалисты-ангела никого за руку у «хвостатых» не выдирают, кроя их почём зря своим «благим матом». На «многоклеточном» топосе потустороннего мира решается одним Планетарным Логосом, в какую именно ячейку-клетку направить «новоприбывших». Но речь не идёт о застылой стационарности: просто по ту сторону бытия всё уже решают Высшие Силы (т. е. сумма Ведомств), в отличие от земли, где мы обладаем свободной волей. Между двумя областями (Света и Тьмы) существует свободное сообщение, например, весь оркестр на балу у Сатаны состоит из одних приглашённых, хотя перемещение происходит волей и взаимной договорённостью Глав Ведомств.
Значит, универсальной формой потустороннего существования является вестничество (ангелизм), независимо от ведомственной принадлежности посланца. Все они — рыцари, ибо служат, исполняя универсальные функции от служивого до слуги. Межведомственные отношения основаны на принципах уважения под эгидой взаимной любви Глав Ведомств. Поскольку Бог — благ, а оба Они исполняют Волю Божию, то не только все действия Иешуа, но и все действия Воланда исходят из этой великой направленности. Поэтому после выяснения готовности Мастера Воланд не скрывает радости от перемещения его в высшие сферы («я рад», «с удовольствием исполню» и т. д.). Отсюда же и почтительное, без подобострастия обнажение головы рыцарями Коровьевым и Бегемотом.
Общий характер картины был схвачен правильно, зато частности ещё следовало прояснять. Ведь почти сразу за этой сценой начинается завершающий надмирный полёт с окончательным преображением всадников, и Коровьев превращается в фиолетового рыцаря, в деталях перевторяя прилетавшего накануне посланца Света. Тавтологичность и дублетность двух рыцарей замечательна: она манифестирует родственную, не антагонистическую структуру двух Ведомств без сусально выкрашенных ангелов и страхолюдно вымазанных дьяволов. Любопытно, что у фиолетового всадника печальное и тёмное лицо, а у фиолетового рыцаря — печальное и белое; но шпоры, поводья — и там и там золотые (золото — цвет и металл Христа-Солнца), только у всадника вместо поводьев — цепи38.
В следующем варианте оба всадника контаминируют — остаётся только Коровьев-рыцарь, неудачно пошутивший (о чём шутка, не уточняется), но надеющийся на прощение. Главы Ведомств взаимно ходатайствуют друг перед другом: Воланд — за Фиолетового перед Иешуа, Иешуа — за Пилата перед Воландом39. Правда, Иешуа попросил давно — дважды двенадцать тысяч лун ждали, пока в голове людей закончится путаница по поводу личности и проповеди Иешуа. Каково же наказание рыцаря? — Он «осуждён был на то, что при посещениях земли шутит, хотя ему и не так уж хочется этого». Фиолетовый, как выясняется в конце концов, согрешил перед Люцифером-Воландом, а не перед Иешуа — и всё-таки не поощрён, а наказан Планетарным Логосом. И наоборот, Иешуа сразу простил Пилата, но исполнение было отложено по усмотрению Князя мира сего, стоящего на страже интересов Иисуса.
Вестника в этой редакции нет.
Затем Булгаков восстанавливает эпизод.
«Через некоторое время послышался шорох как бы летящих крыльев и на террасу высадился неизвестный вестник в тёмном и беззвучно подошёл к Воланду. Азазелло отступил. Вестник что-то сказал Воланду, на что тот ответил, улыбнувшись:
— Передай, что я с удовольствием исполню.
Вестник после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло и приказал ему:
— Лети к ним и всё устрой».
Здесь уже речь идёт об ангеле, хотя и названном по-русски «вестником». Наличие внятной ангеличности в облике посланца Света заставляет реалиста-Булгакова, сообразуясь с логикой, отменить коня, вместо него введя «шорох крыльев» (как бы), и хотя невозможно вообразить, что ангел «шпарит» на Пегасе, но он высаживается, т. е. если не слезает с колесницы, то уж точно спрыгивает с коня. Действительно, чудно: если он крылат, то зачем ему конь? Булгаков не мог не знать, что его духовный патрон — архангел Михаил — часто изображается скачущем на коне (это отражено на иконах), коне крылатом, но не Пегасе (к тому времени, когда возникает эта иконография, христиане, вероятно, уже забыли, кто такой Пегас). Крылатый архистратиг на крылатом же коне — некое четырёхкрылое кентаврообразное, как всякий всадник, существо. Крылья ангела — вертикаль, крылья коня — горизонталь, их сумма предусматривает большие возможности, чем наличие лишь одной из пар. Мир земных реалий мало что может подсказать в области мифа, но и полному произволу тоже случиться не даёт.
Кстати, Азазелло летит без всяких крыльев. Крылья ангела носят скорее репрезентативный характер «отличительного признака», а не биофункциональной детали. Да и шум крыльев играет, по-видимому, предупреждающе-ритуальную роль: исчезает вестник мгновенно и бесшумно.
Замечу по ходу дела: стать невидимой трансцендентная сущность может только для людей, но не для себе подобных, что сильно меняет положение вещей. В отношениях представителей Ведомств больше тактичной вежливости, чем реального незнания. Тем более во взаимодействии их с людьми.
Возможно, речь в этом случае идёт о компактности, скорости и фокусировке. Это — как в отношении людей к иерархически ниже положенным сущностям: «всеведение» человека ограничено, хотя и прогрессирует.
В последнем варианте Романа департамент Света представляет Левий Матвей, уже бескрылый, появляющийся и исчезающий, как остальные. Булгаков расширяет «население» этого Ведомства, давая понять, что Иешуа там не одинок. Пилат предусматривал общение с Левием, и несмотря на то, что свирепый фанатик отверг его предложение, в сфере надземного оно перестаёт быть невозможным. Вхождение Пилата в Свет знаменует обнаружение рядом с Иешуа большой команды Его друзей, учеников и помощников, на неё даже в Булгаковском прикровенном тексте сделан прозрачный намёк. Это «поклонники» Иешуа, о которых Пилат говорит Матвею, — «мужи благоговейные» Деяний; сведения о них, проигнорированные христианской историографией, остались в тайных анналах секретных обществ. Это Иосиф Аримафейский, Никодим, Авгарь, волхвы Каспар, Бальтазар и Мельхиор — и ещё... и ещё... Те, кто с самого начала, с первого взгляда («Боги, какая улыбка») приняли, поняли и полюбили бродячего проповедника из Гамалы. Даже «дура» Клавдия Прокула40 (святая коптской, греческой и эфиопской церквей) реагирует на Него безошибочно и мгновенно. Это не жалкие, малодушные «ученики», бросившие Учителя и трусливо разбежавшиеся «по щелям». От каждой из компаний Булгаков взял по одному носителю типологических признаков, столкнув эти типажи качественно, а не количественно. Собачья преданность фанатиков противопоставлена сознательному интеллектуальному выбору. Вердикт Воланда — «раб» ставит точку в самоочевидной картине. Ведь он произнесён тем, перед кем ходатайствует Иешуа; значит, «дух зла», «старый софист», «не хочу, чтобы ты здравствовал» и прочие дерзости не более чем гнусные злобствования хронического слепца41. Воистину, раб невежества и глупости, как справедливо заметил Князь мира. Так что царство Света наполнено радостным многоголосием любящих Христа под зубовный скрежет исходящего желваками ревности и ненависти к конкурентам одного мрачного цепного пса, которого не выгонишь по причине привязанности к хозяину. — Каждому своё.
28. Каковы личностные характеристики и авторские полномочия Мастера?
Дело в том, что лирический герой МиМ является остаточной фигурой произведения. Главный автор не хотел поначалу создавать свой дубликатный отголосок в самом тексте и слепил Поэта из «отходов производства» основных персонажей. Повторять ситуацию «Венедиктова...», только заменив чаяновского Булгакова булгаковским «Чаяновым» (?!), было бы уже пародией и анекдотом. И уйти от этой ситуации оказалось не так просто. Даже ещё не названный, герой уже получался узнанным — пусть как Нечаян(н)ов; любая фамилия как опознавательный знак стала ненужной. Персональные характеристики, «антропологическая» определённость, индивидуализирующая ясность сделались по отношению к нему мешающе-невозможными. Наоборот, размытость и смазанность черт, дребезжаще-двоящийся контур, «выскальзывание» из любого определения в туманную неопределённость с ретировкой в принципиальную неопределимость — таковы основные характеристики бесхарактерности лирического героя.
Именно поэтому его переход по ту сторону бытия осуществляется так легко и безболезненно. Нет имени? — Имя уже там. Нет любимого занятия? — Оно уже там, и даже перья очинены. Сгорели рукописи? — Все там, набитые на «дискеты» планетарной памяти; сделать принтинг можно в любое мгновение. Нет радости, счастья? И это в принципе там, а не здесь, в юдоли и поднадзорности. Можно ли возвратиться в подвал, который занимал до того некто Богохульский42? Только вот Маргарита...
«...Неожиданно вмешалась Маргарита.
— Поезжай, — сказала она — а я... — она подумала и сказала твёрдо: — А я останусь караулить твой подвал, если он, конечно, не сгорит. Я, — голос её дрогнул, — буду читать про то, как над Ершалаимом бушевала гроза и как лежал на балконе прокуратор Понтийский Пилат. Поезжай, поезжай! — твердила она грозно, но глаза её выражали страдание.
Тут только поэт всмотрелся в её лицо, и горькая нежность подступила к его горлу, как ком, слёзы выступили на глазах.
— С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.
Самоуверенный Азазелло смутился, отчего ещё больше начал косить. Но внезапно изменился, поднял бровь и руки растопырил...
— В чём дело! — засипел он, — какой может быть вопрос? И чудесно. Именно с ней. Само собой.
Маргарита поднялась, села на колени к поэту и крепко обняла его за шею.
— Смотреть приятно, — сказал Азазелло...» (7; 180—181).
Вспомогательная, сервантная роль Маргариты обнажена в полной мере. Ведь по ходу дела казалось, что эта ведьмученица. якшаясь с парнокопытными шабашниками, является гвоздём повествования. А кончается дело «мадонновидной» живой скульптурой только со знаками перемены пола. Никакой сакральной идиосинкразии со стороны «демона пустыни» она не вызывает. Наоборот, широко раскинутые в жесте Христа руки в ответ на посланный Иешуа запрос и полученное благоприятное решение, заставившее непроизвольным телодвижением обнаружить Его авторство.
Основная драматургия Романа строится на противопоставлении традиционных суеверных представлений о демонизме как чём-то, диаметрально противоположном (!) Христу, его реальному соподчинённому, конструктивно-положительному естеству и началу. [Из всей формулы Гёте Булгакову пригодилась лишь вторая её половина: «вечно творит добро».
В приведённом фрагменте содержится один знаменательный парадокс. Что именно собирается читать Маргарита? — Ничего написанного за Поэтом не числится. Уж не Роман ли Булгакова она имеет в виду с его Ершалаимскими главами? Тогда фиктивность фигуры Поэта становится особенно очевидной. Имея на руках такую беспокойную и требующую к себе постоянного внимания любовницу, трудно выкроить время на работу. Подобные дамы годятся только для проедания выигрыша. На худой конец — гонорара. Но когда вместо гонорара — один худой конец, их присутствие при сём становится непонятно, противоестественно, фантасмагорично. Они созданы тратить, и ходить в траченном (молью) не могут. От неудовлетворённости они взрываются. Они приходят, чтобы сделаться центром сателлитного вращения вокруг себя мужа, знакомых, прислуги, обслуги, льстецов и альфонсов, превратив их всех в «единовертцев». Подвал был бесперспективен совсем не по причине Алоизия Могарыча — такие проблемы Воланд мог решать в долгосрочном порядке. Необходимость Маргариты для творческой процедуры производства романа является весьма сомнительной; с другой стороны, отсутствие в Мастере какого бы то ни было эротизма и даже простой реакции на женский пол уже отмечалось.
«Целлулоидный ангел» болтается среди двух гренадеров в юбках, пардон, без юбок, суетливо пытаясь адаптировать себя к их весёлому цинизму, всплывшему из глубины распущенности, беспардонной разухабистости и фамильярной свойскости. Тому виной психическая вулканизация и принятый внутрь «вальпурген», после чего путь назад, в «тощищу» сделался невозможным. То тихое, рабочее состояние, в каком был написан гениальный роман, оказалось на земле утраченным навсегда. И чтобы его воссоздать, выстроив по законам старых интеллектуальных кондиций, понадобилось переместить линию жизни героев за пределы земного бытия. Вся «пляска» со стороны Воланда и компании была вокруг Мастера и романа. Услуги Маргариты по хозяйствованию на Балу недорого стоили. Поэтому на её перемещение по ту сторону бытия понадобилось желание Мастера и «спецразрешение». С вырванным напрочь эротическим жалом она особой опасности не представляла. Однако и в этом случае совет Воланда после Романа о Иешуа и Пилате писать роман об Алоизии Могарыче пронизан поистине «дьявольской» иронией. Плюс — счастье и комфорт, минус — откровение. Ибо откровение пишется кровью.]
Весь Мастер — это часы сладостного уединения в созидании супертекста после выигрыша, посланного ему волей Иешуа и хлопотами Мессира. Именно тогда был посеян Роман, а известные московские события — уже «сбор урожая». Благородные рыцари возятся с «почтенной публикой», как с детьми, а поскольку это делается в стилистике карнавала, то хохот (от нем. хох) возвышает, а не унижает. Сотрясение смехом уплотняет и упорядочивает структуру бытия; присутствие такой мощной закваски придало некоторым событиям ускоренно революционный ход, нарушив неспешное эволюционное течение. Разве это не естественно при такого рода происшествиях? — На производство чистки (Берлиоз, Майгель) была получена «санкция» самого Иешуа.
Мастер безлик: он только строительные леса вокруг Лика, только о Нём он печётся, скрывая свой облик в тени, растворяя его в безымянности.
Мастер — аноним ещё и потому, что он — нежен как анемон, и, низводя истину на Землю, он не хочет ни малейшей авторской привязки, неуместной, если текст — откровение. Он ничего не сочинил, — он считал и угадал.
Текст зафиксирован и низведён.
«Мавр сделал своё дело — мавр может удалиться».
The rest is silence.
Удалиться — не получается. И покоя и тишины — тоже.
Продать плоды вдохновения оказывается невозможно. Ещё бы! На торжище мира истина — самый неходовой товар. Напечатать роман просто как прозу, несмотря на все попытки, не удалось. А свора «цепных псов», как только запахло неотмирным, переполошилась не на шутку и залилась таким остервенелым лаем, что «воинствующий старообрядец» света белого невзвидел и стал раскаиваться, что сотворил всю эту чудовищную, по реакции на неё, «пилатчину».
Так началось отступничество. Но предусмотрительные Высшие Силы подставили под хлипака подпорку.
«Я шёл по Тверской тогда весною. Люблю, когда город летит мимо. И он мимо меня летел, я же думал о Понтии Пилате и о том, что через несколько дней допишу последние слова...
Но тут я увидел её... Любовь поразила нас как молния, как нож». (Это был, конечно, нож Азазелло, которым он чуть ранее зарезал Иуду.)
Далее сказана любопытная вещь.
«Герой этого рассказа работал как-то лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и героиню...
Она подталкивала его и гнала, сулила славу и стала называть героя мастером. Она в лихорадке дожидалась конца, последних слов о прокураторе Иудеи, шептала фразы, которые ей особенно понравились, и говорила, что в этом романе её жизнь.
И этот роман был дописан в августе» (7; 330—333, курсив мой. — О.К.).
Как видим, несколько дней растянулись на несколько месяцев, а лихорадка нетерпеливой дамочки была связана с ожиданием славы (ему) и огромных гонораров за публикацию (тратить — ей). И тут произошла осечка. Попытка опубликовать опус кончилась ничем. «И мой роман вернулся туда, откуда вышел. Я помню осыпавшиеся красные лепестки розы на титульном листе и полные раздражения глаза моей жены».
[Великий провидец, Булгаков абсолютно точно описал уже приводившуюся картину «радостного ожидания» славы, денег, почестей и похвал, охватившего Елену Сергеевну в связи с написанием «Батума» и предстоящей поездкой на юг «бригады Булгакова». Лихорадка перед неизбежной, казалось, возможностью погарцевать и покрасоваться сменяется холодным потом разочарования после очередной обструкции «бригадного генерала».]
А ведь всё было спроектировано в МиМ. На сцене появляется подлинный носитель зла Ариман, а Ариман — это вам не Воланд. Он действует как удавка, накинутая на горло свободы, разума и таланта. И главное — лютая, непримиримая, кровная ненависть к Иисусу Христу, апологетом которого был объявлен автор романа о Пилате. Ненависть, перекрывающая реальные лимиты власти на подобный тематизм, пытается установить свои собственные табу, основанные на давней этнической вендетте.
Даже Воланда «ариман»-Берлиоз «раскалывает» и «уличает» в любви к Иисусу, — «мимо него не проскочишь»43.
Тут-то Мастер и затосковал. «Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу.» Тогда-то он и стал призывать «совместительницу»: «Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди!
Но никто не пришёл». — Цветы были жёлтые... А это — знак. И остался у Мастера обгорелый (фиговый) лист, как у Пончика-Непобеды.
[Булгаков вынул слабейшее в себе и вставил в Мастера — и подверг ироническому суду немилосердно.
«Я не хотел её пугать, но я обессилел и в малодушии признался ей во всём, рассказал, как обвил меня чёрный спрут, сказал, что я знаю, что случится несчастье, что романа своего я больше видеть не мог, он мучил меня».
Мастер не успел опубликовать сочинение, а оно у него было единственное. Булгаков успел напечатать «Белую гвардию» (хоть и фрагментарно), эта история сделалась сюжетом для иронического описания.
«...Я этот роман у вас беру, — сказал строго Рудольфи (сердце моё сделало перебой), — и заплачу вам (тут он назвал чудовищно маленькую сумму, забыл какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на машинке.
— В нём четыреста страниц! — воскликнул я хрипло.
— Я разниму его на части, — железным голосом говорил Рудольфи, — и двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру.
Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи».
Да уж, куда — Максудов против Рудольфи, Булгаков против Альтшуллера... Это прототипический ареал Мастера. Другое дело — Маргарита.
Против Е.С. Нюренберг аргументы наглости Альтшуллеров-Ариманов оказались слабоваты — нашла коса на камень! — и через 26 лет44 осады с продолжающейся бомбардировкой Кремля письмами вражеская крепость сдалась. Что же было дальше:
«Нежданно-негаданно именно «Москва» заявила твёрдо, что будет печатать роман. Удар молнии! К ней пришёл представитель редакции с договором!
— Печатаем. Имеем основание думать, что это реально. Здесь указаны условия, 300 рублей за лист — наш обычный гонорар. Прошу подписать.
— «Обычный гонорар»? — высокомерно подняв голову, произнесла она. — Михаилу Афанасьевичу? За «Мастера и Маргариту»?
— И вдруг — как в полубреду: — 400.
— К сожалению, я не уполномочен сказать, возможно ли это, — ответил представитель редакции. — Для этого понадобится особое разрешение.
Он ушёл, и едва затворилась за ним дверь, как она метнулась за ним. Его уже не было. Он исчез. Господи, как же она так? Да ведь она даром, без всякого гонорара отдала бы этот роман, лишь бы напечатали! В любом журнале! Хоть в «Пожарном вестнике». И она примчалась ко мне.
— Бей меня, — говорила она, швырнув сумку и даже не раздевшись. — Дура, дура! Что я наделала! Знаю только одно, что наплевать на самолюбие и бежать, звонить, умолять завтра же, только бы не раздумали!..
Но звонить не пришлось — позвонили из редакции и сказали, что на её условия согласны» (9; 123—124).
Альтшуллеры-Каганские не брезговали ни малейшей выгодой — и поэтому всегда были при деньгах. Дедушка Марк Нюренберг, взыграв во внучке, показал, что он тоже «не лыком шит». Недаром Ермолинский подытоживает с восхищением: «Я поражался, с каким умом и тактом она вела булгаковские дела. Он никогда не смог бы вести их так, как она» (9; 121).
Не смог бы, ей-ей, не смог бы. Тем более — Мастер. В Романном поле характер у него — плавающий; константным остаётся (в последних редакциях) только написанный им опус. Собирая для создания «образцового интеллигента» чёрточки «с миру по нитке», Булгаков отнюдь не занимается самолюбованием, оставляя за собой лишь главное: написание необыкновенного по художественным достоинствам текста; гностический уровень и высоту откровения он справедливо делит на всех.
В том худощавом, длинноносом, с карими глазами варианте, в каком предстаёт Мастер в «Князе тьмы», он внешне более всего напоминает Павла Флоренского, пиетет перед кем у Булгакова был чрезвычаен.
Комнатушка-пенал, писательство, худоба и близорукость очень близки к реалиям портрета и образа жизни давнишнего знакомого Булгакова Сигизмунда Кржижановского, философствующего гофманианца, фантастического реалиста в стиле ранней Булгаковской прозы.
Шапочка мастера, очки, высочайший интеллектуальный уровень, профессия историка ассоциируются с Алексеем Лосевым, имеющим в Романе ещё один опознавательный знак. Сначала — шапочка: «Я — мастер, — ответил тот и, вынув из кармана чёрную шёлковую шапочку, надел её на голову, отчего его нос стал ещё острей, а глаза близорукими». Имеется и непосредственный след: (происходит извлечение Мастера) «Ватная мужская стёганная кацавейка45 была на нём. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги». Известно, что Лосев был выслан на Беломорканал и отработал там три года; после чего вернулся в Москву, оставаясь на воле «на птичьих правах». Продолжим цитату: «Весь в грязи, руки изранены, лицо заросло щетиной. Человек, щурясь от яркого света люстр, вздрагивал, озирался, глаза его светились тревожно и страдальчески.
Маргарита, узнав хорошо знакомый рыжеватый вихор и зеленоватые эти глаза, приподнялась и с воплем повисла на шее у приехавшего» (7; 297, 157). Цвет глаз и вихор, судя по всему, автопортретны.
Аресту обычно предшествует донос. На Мастера стукнул наверх застройщик Богохульский (Понковский, Алоизий Могарыч). Булгаков скрадывает подробности этого трагического происшествия: «...Рассказывал больной что-то, что очень взволновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу, в них была то ярость, то ужас, то возникало что-то просто болезненное, а в глазах плавал и метался страх». После того как его выпустили из лубянских «чистилищ», «холодный спрут» уже не покидал его. «Я стоял в том же самом пальто, но с оторванными пуговицами, и жался от холода, вернее, не столько от холода, сколько от страху, который стал теперь моим вечным спутником. <...> Идти мне было некуда, и проще всего было бы броситься под трамвай, покончив всю эту гнусную историю, благо их, ...сколько угодно проходило по улице, в которую выходил мой переулок. Я видел издали эти наполненные светом ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но... вся штука и заключалась в том, что страх пронизывал меня до последней клеточки тела. Я боялся приближаться к трамваю...
— Но вы же могли дать знать ей, — растерянно сказал Иван...
— ...Вы, очевидно, не понимаете меня? Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, не жаль этой способности, она мне больше не нужна. Перед моей женой предстал бы человек, заросший грязной бородой, в дырявых валенках, в разорванном пальто, с мутными глазами, вздрагивающий и отшатывающийся от людей. Душевно больной. Вы шутите, мой друг! Нет, — оскалившись, воскликнул больной, — на это я не способен. Я был несчастный, трясущийся от душевного недуга и физического холода человек, но сделать её несчастной... нет! На это я не способен!.. <...>
...Свежеет, ночь валится через полночь... Пора... До свидания!
— Скажите мне, что было дальше, дальше, — попросил Иван, — про Га-Ноцри...
— Нет, — опять оскалившись, отозвался гость уже у решётки, — никогда. Он, ваш знакомый на Патриарших, сделал бы это лучше меня. Я ненавижу свои роман!» (7; 340—342, курсив мой. — О.К.).
В генетической привязке текста Истории о Христе было три этапа. Первый предусматривал устный рассказ Воланда (Евангелие Сатаны) и фиксацию его только в супертексте Романа. Второй представлял монолог Воланда в видении Ивану в дурдоме. В третьем повествование перераспределено между Воландом (в начале Романа) и историком (Мастером) во время ночного свидания в клинике Стравинского. Только в четвёртом, и окончательном, цитируется глава «Погребение», при финальной редактуре разделённая на две (отмщение Иуде было выделено в отдельный эпизод). И роман Мастера из предмета косвенного о нём упоминания превращается в словно показавшийся над поверхностью повествовательного океана айсберг, большая часть которого (текстово, а не сюжетно) так и остаётся за пределами Романного поля. Несколько глав Булгаков по разным причинам уничтожил («Несение креста», «Заседание в Синедрионе»), убрал нескольких показавшихся ему лишними в концептуальном рассказе персонажей (Клавдия Прокула, Иоанн, Вероника), создал «эффект пронизывания», сохранив пропорциональную раритетность Евангельских глав в теле Романа. И хотя начальные портретные характеристики Мастера позволяли — в комфорте обстоятельств — облагородить его чертами старших братьев, учителей, любимцев, однако он, вернее, уже одна засаленная шёлковая шапочка от него, перенесший за своё создание испытание лубянской мясорубкой, спасовавший и отказавшийся от творения, проклявший и возненавидевший его, не годился даже стоять рядом с этими корифеями. Одна самоуничижительная автопортретность со смазанными психозом паники чертами осталась от сибаритствующего интеллектуала, отделившего себя от государства и пописывающего в режиме чистого любительства. Разве советская власть давала повод сомневаться в том, что талантливость не является единственным пропуском «в печать и свет»? Откуда такой наив и «куриная слепота»? Неужели, прижимая к пупу «сочинение на свободную тему», можно было всерьёз рассчитывать без проблем его продать? Как совместить писание текста о распинаемой Истине с аутистским ожиданием мзды за свои художества от потомков вбивавших гвозди? Высота мысли и духа, проявленные в структуре написанного текста, и карикатурный по контрасту холодноухий дебилизм не просто не совместимы, но прямо-таки магнитно отскакивают друг от друга. И чтобы эта «тварь дрожащая» была автором Евангелия...
«— Верите ли, мессир... — начал задушевным голосом Бегемот.
— Нет, не верю, — коротко ответил Воланд» (6; 281).
Известно, идеализм «русских мальчиков» был беспримерен, многое они писали «в стол» и претерпевали по доносам в застенках, и я не припомню ни одного случая, чтобы человек так пошло сломался всего через пару месяцев лубянских мытарств. По качеству сотворённого Мастер стоит выше любого из своих реальных прототипов — по мужеству «отвечать за свои слова» не годится им даже в подмётки. Лубянка за столь короткий срок добилась от него главного: уничтожила «холодным способом» навсегда автора криминального текста.
В этом качестве Мастер — это персонификация булгаковской слабины: был момент, когда он дошёл почти до такого состояния. Уж не «накаркал» ли? Запись Елены Сергеевны от 1 октября 1939 года: «Не верит ни во что. О револьвере. Слова: отказываюсь от романа, отказываюсь от всего, отказываюсь от зрения, только чтобы не болела так голова» (16; 525). Это было «узкое место» среди чудовищных физических страданий, в атмосфере чего Мастер просто не представим. Хлипкость, хрупкость, ранимость, являющиеся его тектоническими качествами, предопределяли лёгкость отступничества. Перефразируя Леонардо, можно сказать в этом случае: Кто не ценит дара, тот его недостоин. Более всего поражает в «герое» МиМ, что только после отступничества ему становится комфортно и хорошо. Болтать по ночам со случайным соседом-охламоном, конечно, проще, чем мужествовать во враждебных обстоятельствах (пример — поведение Булгакова в 1921—25 годах); «отпустить вожжю» и стать социальным иждивенцем — дело нехитрое, но любоваться-то тут чем? Если б суперавтор не зафиксировал сюжет, то мотыльковые трепыхания обитателя сто восемнадцатой палаты были бы вообще никому не известны и вся история перешла бы в маниловско-обломовскую плоскость. Возможно, Булгакову как кукловоду приятно было управлять и управляться с таким податливым, нежным и «зависимым» материалом; в этом случае он чувствовал себя уже не пациентом профессора, а самим доктором Стравинским, делающим со своим Петрушкой всё что угодно.
Авторская миграция Булгакова из образа в образ замечательна; автопортретный след можно отыскать почти во всех основных персонажах Романа. Однако «колода данных» им тщательно перемешана, и одного цельного прототипа ни у кого из действующих лиц МиМ нет. Даже у Маргариты, которую Елена Сергеевна постепенно постаралась прибрать к рукам. ««Ты думаешь, что ты ведьма?» — дразнил я её. «Не ведьма, а колдунья и Маргарита», — строго говорила она» (9; 121).
Булгаков, оторвав шикарную дамочку от респектабельного мужа, взвалил на себя такие тяготы по её содержанию, что комплекс финансовой несостоятельности, из-за которого он хватался за любой заработок, всё дальше уходя от призвания и харизмы, преследовал его как каждодневный кошмар. Ермолинский, чьи воспоминания только что процитированы, замечает: «Лена испугалась жизни — любую катастрофу перенесла бы, но не нищету» (9; 115, курсив мой. — О.К.). Увидев магическую цифру «сто тысяч» в виде размера объявленной первой премии, Булгаков схватился за написание «Краткого курса» истории СССР. Амиго Сергей выводит, ужасаясь: «...Но ведь вахтанговцы выплачивают «малыми порциями»?.. И я застаю его танцующим в лиловом халате. Пишется либретто для балета. Приехал из Ленинграда художник Николай Радлов и сказал ему: «А ведь ты конченый писатель, ты бывший писатель»» (9; 89). Плохо скрываемое, а иногда и прорывающееся раздражение второй и третьей жён (однотипных женщин и подруг) Булгаков зафиксировал в выразительной реплике Марии Павловны из «Блаженства»: «Запишитесь в партию, халтурщик!». Да он и сам в отчаянии махнул рукой: «По сути я — актёр, а не писатель»46. Мало того: «...Я стал беспокоен, пуглив, жду всё время каких-то бед, стал суеверен» (16; 253). Записи в дневнике Елены Сергеевны: «У М.А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества» (4; 74). «...Постоянный возврат к одной и той же теме — к загубленной жизни М.А.
М.А. обвиняет во всём самого себя. А мне тяжело слушать это. Ведь я знаю точно, что его погубили. Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти. А кроме того, потому, что он держится далеко от них, не любит этого круга, не любит богемы, амикошонства» (4; 203). Вересаев как врач ставит диагноз: «Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжело больны и как у Вас всё смято на душе. И для меня совершенно несомненно, что одна из причин Вашей тяжёлой душевной угнетённости — в этом воздержании от писания» (22; 468).
Сам Булгаков подытоживает: «Вообще мне ничего решительно не хочется». «Всё мне осточертело!..»
Казалось бы, вот он, малахольно-меланхолический Мастер; безвольный интеллигент и патронирующий его сгусток воли — Воланд.
Не тут-то было! «Это человек несгибаемый. Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда. Он всегда пытался найти выход» (8; 385). Это воспоминания Елены Сергеевны, а ей, как говорится, было виднее других. В 1922 году эту же мысль выразил и Борис Земский: «Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа... Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдёт...» (2; 81). Особенно выразителен контраст к высказанному накануне в «Записках на манжетах»: «На обточенных солёной водой голышах лежу как мёртвый. От голода ослабел совсем... Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив» (16; 569—570).
Мастер обделён главной булгаковской чертой: возможностью фениксова преображения, т. е. христоподобия. И быть транслятором благой вести, попросту евангелистом, он не может. Как историк он мог «угадать» (хотя эта процедура к истории как науке не имеет никакого отношения) правильную последовательность событий, восстановить подлинные места действия... Но услышать неискажённо слова Христа — для этого одной интуиции историка мало. Надо перейти в совершенно иное состояние, в план сопричастности, а это уже ученическая, т. е. относящаяся к миру духовной культуры, — а не университетская категория.
Понятно, что Булгаков был сориентирован на личность Эрнеста Ренана и его «Жизнь Иисуса». Великий учёный, чьей основной профессией была история, проявил себя и как блестящий культуролог, религиовед, философ, эстетик и писатель. Многотомные «История израильского народа» и «История христианства» (один из её томов — «Жизнь Иисуса») сочетаются в его творчестве с «Философскими диалогами» и «Философскими драмами», написанными в свободно-полётной форме «драмы идей», далёкой от конкретных исторических событий. В результате такого «разброса» историки извергли Ренана из своего цеха как слишком фривольно-неакадемичного, а писатели не приняли в свою компанию за угнетающе (всех остальных) огромный запас знаний для занятия, где традиционно «интуиция заменяет информацию». Сигизмунд Кржижановский вызывал подобную «реакцию в редакциях», куда приносил свои рукописи: «Да поймите же вы! Ваша культура для нас оскорбительна!47» — выговаривал ему один из редакторов.
В 1932 году Булгаков пробует себя в жанре «исторического жизнеописания», создавая биографию Мольера для серии ЖЗЛ. Получилось произведение слишком оригинальное для самобучевской направленности издания. В подаче материала он стремился не наскучить читателю — и перестарался. Он забыл, что ликбез должен быть безлик, а может, просто не захотел с этим мириться. «Ну-с, у меня начались мольеровские дни. Открылись они рецензией Т. В ней... содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой, который ведёт биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками...»
Ответ самому рецензенту многое проясняет в позиции Булгакова: «А.Н. Тихонову // Уважаемый Александр Николаевич! // Н.А. Экке вручила мне Ваш разбор моей книги МОЛЬЕР. Я его прочёл и обдумал. Дело обстоит плохо. Суть не в деталях Вашей рецензии, которые поразили меня как по содержанию, так и по форме (цитируются вышеприведённые обвинения. — ОК), — дело в том, что вопрос идёт о полном уничтожении той книги, которую я сочинил, и о написании взамен её новой, в которой речь должна идти совершенно не о том, о чём я пишу в своей книге.
Для того, чтобы вместо «развязного молодого человека» поставить в качестве рассказчика «серьёзного советского историка», как предлагаете Вы, мне самому надо было бы быть историком. Но ведь я не историк, а драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчётливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер, и форму донесения этого Мольера до зрителя я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно.
Вы сами понимаете, что написав свою книгу налицо, я уж никак не могу переписать её наизнанку. Помилуйте!
Итак, я, к сожалению, не могу переделывать книгу и отказываюсь переделывать» (16; 289).
«Нет, не помилую!» — сказал бы Иван и был бы по-своему прав.
В первых вариантах Древних глав рассказ ведёт иностранный специалист и изъясняется, согласно обстоятельствам, в тоне занимательной (но и поучительной «между строк») болтовни, в связи с чем в тексте много комически-весёлых выражений: «симпатичный», «нервный», «записная книжка» в лексике Иешуа; «чёрт возьми», «дура», «ротмистр», «дама», «дерётся», «сволочь», «сыщик» в лексике Пилата и т. д. Булгаков юморит — аккуратно, остроумно, деликатно, — он боится впасть в «нестерпимо» патетический тон и осаживает себя в доходчивый, душевный и весёлый «бавардаж», подразумевая, что именно так должно выглядеть «Евангелие от Воланда», поскольку это же не обычное евангелие...
Хорошо (для нас, учеников), что был простор в 12 лет для эволюционной самокорректировки: от редакции к редакции Булгаков всё меньше принимал в расчёт интересы читателя и всё больше — Истины. Будь у него ещё несколько лет жизни, работа велась бы только в этом направлении. Правда, он создал своему супертексту настолько мощную смеховую раму, что «голографический» портрет Истины выглядит в ней невероятно объёмно. А смех хоть и оживляет, но не верифицирует48.
Кстати, эволюция романа о Пилате к Мастеру не имеет никакого отношения. У него нет «творческого пространства текстов» — ни до, ни после своего романа он ничего не писал (переводы, упоминаемые как часть его занятий, судя по всему, касаются специальных статей «по профессии»). Это значит, что не писал он и вариантов романа о Пилате, не воспринимал его героев в динамике и становлении, а сам текст — в лексическом и сюжетном развитии. Возник он «методом» любительского кропания романа, заведомого «шедевра» в каждой запятой. Булгаков создавал свой супертекст совершенно по-другому. Оттачивание, сепарация, повышение гностической планки, компактизация, насыщение обертонами, закладывание замаскированных тайников, увеличение символизма и параметра глубины — автор МиМ занимался беспрерывно этой кропотливой, созидательной работой и делал её абсолютно профессионально, предоставляя возможность гениально импровизировать своим литературным персонажам.
В этом смысле причастность Мастера к Древним главам подобна причастности Ивана Карамазова к «Легенде о Великом инквизиторе». Это не более чем беллетристическая условность, драматургическое распределение ролей в мистериальном действе постановщиком-демиургом, в котором он есть абсолютно всё, альфа и омега структуры. При этом он не главный (как любил говорить Булгаков — Первый), не диктатор, не фокус. В качестве Хозяина положения выступает ещё более высокая Инстанция.
Так вот, мне было велено...
— Разве вам можно велеть?
— О, да» (7; 196).
И это говорит тот, кто всесилен!
Сам Булгаков робко, незаметно идёт рядом с Иешуа по лунному лучу, ловя каждое слово, каждый вздох, каждый взгляд. Мастеру к этому Святая Святых допуска нет:
«Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но и исчезнет мысль о Га-Ноцри и о прощённом игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой приют» (7; 328, курсив мой. — О.К.).
Это абсолютно по-достоевски. Это напоминает провал гордого Ивана во время разговора с чёртом и полный позор и невладение собой в момент суда. Дело в том, что во все моменты им самодержавно владеет Достоевский.
Так же и у Булгакова в МиМ: герой находится под его абсолютным демиургическим патронажем. Самоопределение «мастер» оформлено полным набором посвятительных процедур; отречение от романа подстраховано Булгаковским супертекстом, куда включены две его главы «впрямую» и две — в трансляционной передаче, и не идёт в зачёт по прямой: Воланд о нём, отречении-отступничестве, даже не упоминает. Высшие Силы не ловят человека на минутной слабости. Просто минутная слабость Мастера длится, как полночь в бале Сатаны. Он бы и рад скомандовать, как анти-Фауст: «Мгновение, сгинь, ты ужасно», — да совесть и рационализм не дают. Он полностью взят на поруки ближних (таковой является одна Маргарита) и очень дальних (Воланда и Co, до их появления эту функцию исполняет Стравинский с ассистентами). Как и Пилат с его роковой минутной слабостью взят на поруки Иешуа.
Персонажи Древних глав в их историческом времени и в надмирном существовании объективированы Булгаковым с полной ясностью, и всё-таки в последнем варианте текста появляется странная нота иронии («выдуманный вами герой» — речь идёт о Пилате), чётко лимитирующая «одноразовое» достижение Мастера перед лицом бесконечных демиургических возможностей самого Булгакова. До последнего момента, посылая Мастера и Маргариту вослед Пилату на соединение с Иешуа, Булгаков уравнивал себя с автором романа о Пилате и тем самым невольно себя с ним идентифицировал. И лишь в преддверии смертного часа он отмежевался от своего «двойника с ограниченной ответственностью». Мастер не мог создать гениального финала Эпилога, ибо он не только не присутствовал при событиях, там описанных, но главное — он не заслужил их великого света. Возможно, именно в этом сверхсмысл маленькой буквы в слове мастер поверх простой раритетности подобной самоидентификации. Гроссмейстер Воланд, кому невольно уподобляется Булгаков, озвучивая его, остаётся вне пределов досягаемости «бывшего сотрудника одного из московских музеев».]
29. Что это за таинственная акция «самосожжения» и загадочная троица произведений, ему подвергшаяся?
После шмона 1926 года, когда кремлёвским бонзам стало известно, что автор дневника «Под пятой» «грозил кулаком в адрес Кремля»49 (подобно бедному Евгению из «Медного всадника»), тучи над строптивым литератором сгустились не на шутку. «Противоестественное» настойчивое желание получить назад изъятые у него рукописи даже озадачило комдержиморд, не привыкших к подобной независимости. Однако 1930 год (сумма цифр 13-го аркана Смерть) для многих оказался узловым, а для особо гордых — так просто «гордиевым». Исследователь, сопоставляя творческие биографии Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Сигизмунда Кржижановского, чей гностический уровень был чрезвычайно высок, справедливо пишет: «Трагизм их судеб обусловлен эпохой куда более терпимой к прорицаниям, пусть самым мрачным, нежели к знанию»50.
Буквально накануне были задуманы и воплощены: «Роман о дьяволе» с пролегоменами к нему — комедией «Блаженство» и автопортретный отдел МиМ — «Театральный роман». Именно о них, как об уничтоженных произведениях, упомянуто в письме Правительству. Этот огромный триптих наполнен одной генеральной идеей — изменить линейному пространству-времени в пользу циклического с попыткой выйти в мифологическое. В «Блаженстве» это осуществляется при помощи машины времени Евгения Рейна51, вызывая ужас законопослушного Бунши: «Я обращаюсь к вам с мольбой, Евгений Николаевич. Вы насчёт своей машины заявите в милицию. Её зарегистрировать надо, а то в четырнадцатой квартире уже говорили, что вы такой аппарат строите, чтобы на нём из-под советской власти улететь» (26; 430, курсив мой. — О.К.). 14-й аркан — Время (Темперанс), в проблему времени упираются все мысли изобретателя, а вместе с ним и автора пьесы.
«Рейн. Просто-напросто я делаю опыты над изучением времени. Да, впрочем, как я вам объясню, что время есть фикция, что не существует прошедшего и будущего... Как я вам объясню идею о пространстве, которое, например, может иметь пять измерений?..»
Появляется любимое Булгаковское пятое измерение, а вместе с ним — сфера божественного, внутри которого актуально существует лишь настоящее, что может обозначать либо состояние мира до начала человеческой истории, либо после её конца. Как перехаживать, менять местами ходы, выискивать лучшие варианты в шахматах возможно только после окончания партии, во время её разбора, так и менять людей местами на «площадке» человеческой истории можно лишь в этой истории конце. Бал Сатаны даёт понять, что по ту сторону бытия представители разных эпох не только встречаются, но и сосуществуют как единое суперсемейство, различающееся по группам и персонально только за счёт одежды, причёсок, макияжа, бижутерии и аксессуаров: шпаг, мечей, футляров музыкальных инструментов и т. д. Маркировка, произведённая искусством по сю сторону бытия, остаётся актуальной как сумма опознавательных знаков и по ту его сторону. Не условная аллегоричность наглядных пособий, а безусловный символизм языка мифологии даёт возможность закрепить за многообразием смыслов и значений их мгновенную визуальную различимость. В виде редких мутантных патологий встречаются люди с рогами, хвостами и хоботами, но какое отношение это имеет к условному изображению чёрта? Биологические монстры отличаются от сказочных чудовищ в той же степени, в какой побитие фигуры на шахматной доске отличается от мучений и смерти солдат на поле боя. Красота гамбита не имеет ничего общего с расквашенной физиономией человека, когда ему только что подставили подножку.
Мифологическое пространство-время, смоделированное по сю сторону бытия на шахматной доске, сценической площадке или в воображении литератора, даёт возможность наблюдать за «жизнью идей», прояснить для себя «логику мифа», исследовать «приключения истины»52 — то, что в аспекте вечности только и занимает людей.
[Булгаков использует свой излюбленный приём — сонное видение, летучую подвижность грёзы, раскованное своеволие прострации, творческого забытья, изобретательской отключки. В подзаголовке пьесы появляются словосочетания: «Грёзы Рейна», «Рейн грезит», пока не устанавливается окончательное: «Сон инженера Рейна в четырёх действиях». МАБ продолжает свободное парение в суггестии, во всяком случае, конвенционно оговаривает это. Голубков, едва коснувшись стопой твёрдой почвы яви, вновь уходит в заоблачные выси умозрения (в эзотерике подобного рода «улёты» носят название «астральных путешествий»). Недаром Радаманов, «Народный Комиссар Изобретений», приветствует Рейна следующей тирадой: «Я плоховато знаю историю. Да это и неважно. Иван ли, Сидор, Грозный ли... Голубь мой, мы не хотим сюрпризов... Вы улетите... Кто знает, кто прилетит к нам?» (58; 374, курсив мой. — О.К.). Короче говоря, сдавайте машину!
Внимание и любовь к машинам привил Голубкову Хлудов: «Чего вы стонете теперь? Молчать! Зачем вы подвернулись мне под ноги? Зачем дьявол вас принёс? А теперь, когда машина сломалась, вы явились требовать с меня того, что я вам дать не могу!» (49; 493—494, курсив мой. — О.К.).
Феномен машины занимал в то время многие умы. М. Пришвин в дневниковой записи 1934 года: «Но приходит машина... Только очень немногие люди, сомнительного происхождения интеллигенты да осколок староверов приняли машину как зло, но огромное большинство русского народа почти безропотно стало ей подчиняться. Мне лично захотелось перехитрить всё, подчиниться машине, а потом, всё поняв в ней, выехать на ней, как у Гоголя кузнец Вакула на чёрта вскочил и достал черевички для своей невесты. С одним моим приятелем, развитым старовером, я долго спорил об этом, ссылаясь на кузнеца Вакулу, говорил, что ведь незаметно и прошло: Вакула достал черевички и даже прощения у Бога не просил, что достал их при помощи чёрта» (14; 291).
Талантливый писатель и философ, общавшийся почти на равных с русской интеллектуальной элитой, ничего не смог высказать толкового, кроме шкодливого конформизма, извинительного для «деревенского» сознания Вакулы, но неизвинительного для столичного писателя — пусть и из агрономов. Блудливые мудрствования «хозяйчика себе на уме», не отказывающего себе в удовольствии пользоваться приёмом deus ex machina53, с наглостью жрецов не допускает Его там присутствия. С пушкинской лёгкой руки повелось держать чёрта за дурака, которого легко провести любому земному придурку при помощи несложных софизмов и трюков. Но брат Сверчок прекрасно различал фольклорных «чертей болотных» — и демона (стихотворение «Демон»), хотя бес «Сцены из Фауста» и занимает (ориентируясь на Гётевского Мефистофеля) промежуточное этим полюсам коровьевское положение.
Нет уж, если «Бог из машины», то это значит, что Он в ней есть, и тогда машина есть подлинная органопроекция, говоря словами глубоко чтимого и Пришвиным, и Булгаковым Павла Флоренского. И если машинистом является не пролетарий Платонова, а интеллектуал Булгакова, то машина становится гностическим архиконцептом, содержащим в себе три главных, матерних буквы ивритского алфавита: мем (13-й аркан — Смерть и Преображение, Мать), алеф (1-й аркан — Маг) и шин54 (21-й аркан — Дурак, Сумасшедший, Шут). Тогда поразительное русское производное от ивритского Мара-Мариам-Мария — Маша, ставшее национальным именем, имеет те же самые «клавиши смыслов» и вообще составляет постоянное определение к вышеупомянутому слову: Машина машина. С обратным отсылом в сторону Богоматери получаем идеограмму: «Богоматерь как вся Земля» или «Биосферная Машина, порождающая из себя Божество».
На таком высочайшем уровне исследует семантему машина времени Булгаков; поэтому машина эта заводится только золотым ключиком с двадцатью цифрами (десять заповедей плюс десять блаженств — или десять заповедей Моисея, повторенные, как известно, дважды); поэтому фамилия изобретателя — Рейн, а ключик — «Золото Рейна», причём вагнерианская привязка подтверждается звуками «Полёта Валькирий», коими возвещается прилёт дочери Радаманова Авроры после путешествия на Луну. Создавая постоянные комедийные «подсечки», Булгаков проскакивает мимо возможности в словосочетании «кольцо Нибелунгов» очередной раз пройтись по поводу кальсон, выявив в «поле подразумеваемого» (за счёт сдвига) карнавальные «кальсоны белунгов».
Создав густую «дымовую завесу» смеха, Булгаков пробует высказать нечто главное, концептуальное, пороговое. Фамилия наркомиза «Радаманов» намекает на имя царя Радаманфа (в набросках пьесы есть и написание Радаманфов), правившего вместе с Кроносом на Островах блаженных. Время-Кронос исчезло; Блаженство (как территория реализованной мифологемы «Золотой век») погрузилось в поток «вялотекущей вечности», где не происходит ничего кроме того, что планируется. Поэтому ЧП с пришельцами носит общегосударственный, авральный характер.
А теперь — гвоздь программы: имя дочери Радаманова в ранних вариантах комедии — Астрея. Астрея не только греческая богиня Справедливости, дочь Зевса и Фемиды-Правосудия; Астрея — небесная покровительница, знамя и девиз всех рыцарей — борцов за справедливость. В честь неё назывались крупнейшие орденские ложи (такой, например, была Санкт-Петербургская ложа «Астрея», в неё входил весь цвет столичного масонства начала XIX века55.)
Астрея — «звёздная»; космический характер справедливости манифестирован в самом её имени. Она, божественная глава Ведомства Справедливости, является женским аналогом, «шакти» Воланда, о соподчинённом положении которого по отношению к Планетарному Логосу заявлено в Булгаковском Романе со всей определённостью, хотя от простой субординационности автор МиМ постепенно переходит к более правильному «внутреннему полюбовному согласованию», соблюдая равновесие чаш, равенство колонн и паритетность ветвей-рукавов. Понятно, что Милосердие — правая часть установленной схемы; но Справедливость — по определению — справа же. Соединяя правое Божества с правым человека, взирающих взаимно друг на друга, получаем единое поле правды, правильности, оправданности, в чём только и может существовать Истина.
Не имея возможности так явно обнаружить своё святая святых и тайное тайных, подозревая, что среди цепных псов режима есть знатоки масонских реалий, Булгаков вынужден был изменить имя героини на Аврора, подходя к Люциферу с другой стороны: Аврора — Утренняя Заря — Денница; и уже с этой титулатурой Люцифер оказывается в Москве. Реально между мастером Рейном и Авророй возникает взаимная симпатия, и при возможности обратной миграции в XX век «дочь Радаманова» просит взять её с собой. Причём бежит она от настойчивых ухаживаний директора Института Гармонии Саввича Фердинанда (читай Советской Федерации), оставляя его в будущем, куда, надо понимать, история России при участии Евгения Рейна уже ни в коем случае не пойдёт.
Образ «светлого будущего», золотого века неразрывно связан у Булгакова с масонскими реалиями; действие пьесы происходит там же, где и 29-ая глава Романа. Ремарка Булгакова из соответствующего действия «Блаженства» указывает прямо: «Та часть Москвы Великой, которая носит название Блаженство. На чудовищной высоте над землёй громадная терраса с колоннадой. Мрамор. <...> Над Блаженством необъятный воздух, весенний закат» (26; 434). Не узнаёте гиперболизированный до соответствующих размеров «дом Пашкова», концептуальное орденское творение масона Баженова? Да и действие пьесы происходит в ночь под 1-е мая, т. е. в Вальпургиеву ночь. Поразительно, что стержневым духовным концептом Булгакова является образ Голубой Вертикали — будущей Божественной Вертикали Экзюпери. Не случайно выбран и метафорический год происходящего — 2222-й, составленный из двойного таротного числа (22 & 22). А «весенний закат» возвращает нас к экспозиции Романа; забавный эпизод со «спиртом для дамы» перекочевал позднее в МиМ. Заявлен эзотерический мотив перевоплощения (Анна. Вы кем были в прошлой жизни?), развитый затем в тему «королевы Марго». Подобный в пристрастиях Маленькому Принцу, Радаманов патетично восклицает: «Люблю закат на Блаженных землях!» Дальновидность (дальнозоркость) представителей обоих Ведомств предвосхищается названием соседней с Блаженством территории Дальних Зорь, представляющей своего рода Надземную Горизонталь к Божественной Голубой Вертикали. И хотя «сложная, но малозаметная и незнакомая нашему времени аппаратура» заменяет на каменной террасе Блаженства простейшие, из воткнутой в щель между камнями широкой шпаги солнечные часы Воланда, однако на точности приборов это не отражается. Наконец, все события пьесы происходят при t = 0, как и бал у Сатаны.
Таким образом, «гностическая увертюра» к «роману о дьяволе» составляла с ним единое целое, что и сказалось на решении Булгакова в экстремальной ситуации.
Конечно, он быстро пожалел о содеянном. Зато ныне знаменитая истина «Рукописи — не горят» распространилась полным и абсолютным восстановлением на все три произведения.]
30. «Пробитая изоляция» — понятное дело; но пророк — вроде вперёдсмотрящего («человек в бочке» versus Диоген); каковы были возможности автора МиМ в этом отношении?
Подключение к надмирным Сущностям, безусловно, сообщает человеку особую зоркость. Углублённое восприятие действительности, со своей стороны, поддерживает это качество. Широта диапазона переводит одиозную раритетность «Пифийских» откровений в качество «духовной оптики» и стратегическую дальновидность, без чего невозможно ни одно значительное свершение в области духовной культуры.
[Самым поразительным предсказанием Булгакова является знаменитая фраза Воланда: «А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы». Что касается романа о Пилате, то сюрпризом для мастера становится благоприятное решение его судьбы самим Иешуа Га-Ноцри, и эта история заканчивается внутри большого Романного поля. Обычно эта фраза экстраполируется на самого Булгакова и его фантастическую — в смысле известности — посмертную судьбу. Конец истории наблюдаем только мы, читатели второй половины XX века, и поражаемся силе пророческого дара автора Ми М.
Поле же состоявшихся предсказаний писателя обширнее. Когда он грозил Кремлю кулаком и взвывал: «Доколе, Господи?!» — судьба коммунистического режима в России была предрешена. Сталин, игравший с Булгаковым в кошки-мышки, плохо кончил, а протянул дольше возможного (нахождение в полном ауте в первые дни войны) только потому, что симпатизировал ему как автору. Большая часть ненавистников Булгакова сгинула в «чистках» второй половины 30-х годов, и участь их была не только предсказана, но и описана на примерах Берлиоза и барона Майгеля. Первые радости от своего проскопического дара сменяются состоянием полной уверенности в исполнении предуказанного в устной, эпистолярной или художественной форме. Булгаков радуется успехам друзей в этой же области. Фрагмент письма Замятину 27.IX.28 года:
«К той любви, которую я испытываю к Вам, после Вашего поздравления присоединилось чувство ужаса (благоговейного).
Вы поздравили меня за две недели до разрешения «Багрового острова».
Значит, Вы пророк» (16; 186, курсив мой. — О.К.).
Одним из никем не замеченных предсказаний было провидение судьбы Антуана де Сент-Экзюпери. В 1931 году в пьесе «Адам и Ева» (за четыре года до знакомства!) он создал светлый образ французского лётчика, наделив его одним из самых знаменитых рыцарских имён: Байярд56. Поскольку вся пьеса есть предвосхищение Второй мировой войны, то за фамилией гнусного мерзавца «истребителя» Дарагана скрывается целая свора тоталитаристских главарей. — Байярд гибнет в столкновении с ними (58; 588).
Войну с Германией Булгаков предсказал ещё в 1923 году: «Возможно, что мир, действительно, накануне генеральной схватки между коммунизмом и фашизмом» (16; 57, курсив мой. — О.К.).
В этом, однако, он был не одинок. Его поддержали народные мистики-прогносты: «...Портниха Тоня, что принесла мне мерить блузу, сообщила, что 1903-й год пошёл в казармы на 1,5 года.
Я спросил её, с кем будем воевать. Она ответила:
— С Германией. С немцами опять будем воевать (!!!!)» (16; 59).
А вот уточнение картины грядущего незадолго до смерти. Вспоминает дочь Н. Ангарского Мария: «Во время болезни мы... бывали у него. Он был уверен, что будет мировая война, будет голод. «Я этого уже не увижу, а вы увидите — и на Елисейских полях, и здесь, на Пречистенском бульваре, будут сажать морковку»» (8; 519, курсив мой. — О.К.).
Интуиция не подвела Булгакова: во время войны актёры Театра сатиры подкармливались с грядок, разбитых в саду «Аквариум» (во дворе своего театра), в двух шагах от знаменитого «дома 302-бис».
Посему, когда в Москве конца 20-х годов появляется некий маг со свитой, пророчества и предсказания не составляют для него ни малейшего труда. Он может для вящей убедительности позволить себе поиграть в астрологическое гадание, когда же «вопрос встаёт ребром», даже Воландовский ассистент возмущается: «Ну да, неизвестно, — послышался всё тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона!»
Такая осведомлённость возможна только для существ, свободно мигрирующих между мирами; «сам термин двоемирие, так восхищавший Булгакова»57, гарантирует наличие подобного свойства у персон, являющихся бессмертными в земном смысле слова. Собственно, признаком бессмертия является абсолютное знание всех дел смертности и покровительственное опекание её с высоты своего положения. Планетарный Логос является гарантом этого всезнания, при помощи чего добивается трансляции своих распоряжений, точности схватывания и адекватности исполнения. Героическое знание собственного конца диа(воло)гностически, не помешавшее Булгакову весело куражиться над «косой с косой», стоя на краю могилы, обнаруживает в нём главную пророческую осведомлённость — о своём грядущем бессмертии. «Камо грядеши?» — подтрунивая, бросает он навстречу свой терпеливый клич и особо не призывает, твёрдо зная, что ни за что не прозевает. Только у титанов русской культуры было такое ощущение собственной значимости, часто вовсе не подкреплённое бурным аплодисментом со стороны стынущих на ветру времени масс. Причём булгаковское знание не успевало подставлять крепёжные своды в далеко прорытых тоннелях его всезнания. Безусловно, это означает только одно — он был Избранником Небес. А было б такое, если б не Бес?..]
31. Египет является истоком Афро-Евразийской континентальной цивилизации; каково его место в гностической структуре Романа?
Египет — восприемник атлантской культуры — не только почти не исказил её аборигенскими примесями, но пронёс как высший сакрамент и святая святых через толщу последних ста веков человеческой истории. Генетически чистых атлантов (в потомках) изыскивали в Египте и ставили фараонами (фара-он — свет он; пер-о-о — отец он), т. е. максимально длили живое присутствие в Египте наследия Атлантиды, «Земли отцов»58.
Тайны древнеегипетского гнозиса до сих пор не разгаданы. Высота мышления египетских мудрецов остаётся недосягновенной для восприявших её две тысячи лет назад европейцев, мистические глубины — почти неисследованными. Мифологическое пространство-время реально воспринимали как адекватную человеку (в его высшем, посмертном состоянии) среду обитания только в стране Кеми59. Мир этот и мир тот представлены двумя «одноимёнными» божествами: Сетом (фр. cet — сей) и Тотом. Воланд «воплощает» в себе оба эти начала: конечно, он Князь Мира сего, но по структуре и сути не этот, а тот (Тот), что неоднократно ненавязчиво подчёркивается в Романе.
Вот и он, лёгок на помине, — весело сказал Воланд (речь идёт об Абадонне. — ОК), и Маргарита, увидев чёрные пятна, тихо вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.
— Да ну вас! — крикнул тот. — Какая нервность у современных людей!» (6; 198, курсив мой. — О.К.).
Конечно, он бог Тот, которому, по преданию, приписывается изобретение системы Тарот (Тот + Ра). В Романе это заявлено недвусмысленно:
«Ещё разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди тёмного камня искусно вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке.
Несколько секунд продолжалось молчание. «Он экзаменует меня...» — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах» (7; 367, курсив мой. — О.К.).
В этих шести строках текста есть всё: и египетская безволосая грудь (египтяне умели выводить волосы и этим отличались от обросших волосатых дикарей-варваров, т. е. берберов), и скарабей (жук-навозник, лепящий из навоза шарики и толкающий их иногда чрезвычайно далеко в свои укромные хранилища) — образ небесной силы, катящей по небосклону солнце, причём именно шар, а не диск, как воспринимали даже в позднейшие времена наше светило плоскотики-аборигены. Скарабей был символом счастья, возможности возникновения Высокого из низкого; он был живым примером упорного, самозабвенного труда, одинокой волевой целенаправленности, одоления невозможного, страсти к усилию, превосходящему границы естества. Именно на такой энергетике возводились все строения Древнего мира. Наличие её взыскует увидеть пытливый глаз Экзаменатора-Сатанаила в стоящей перед ним женской особи, пытающейся (наивно) пленить его скромными прелестями пола. Строгость и снисходительность, пронзительно сочетающиеся в Воланде, чётко фиксируют новый этап его существования, когда эту — совсем не египетскую — снисходительность стало возможно себе позволить. Ибо милосердие стало иногда стучаться в человеческие сердца благодаря приходу две тысячи лет назад в мир Главы Ведомства Милосердия. Снисходительность Сатанаила стала возможна только после нисхождения на землю Планетарного Логоса.
В скарабее обнаружился в последнее время ещё более глубокий символический смысл: так как форма его спинки напоминает двуполушарный человеческий мозг, то возникают невероятной мощности соответствия. Ра-зум, катящий Солнце, — это уже концепция вровень с параметрами Воланда; тогда становится особенно пронзительной его величавая рекомендация Мастеру: «Ум берегите пуще всего»60 (7; 187).
[Отказавшись в процессе работы над Романом от образа жены Пилата Клавдии Прокулы, Булгаков заменил её «громадным остроухим псом», следующим за хозяином даже в царстве мёртвых. В нём без труда узнаётся египетский бог Анубис (dog — god), сопровождающий путешествующих по ту сторону бытия и обратно.] Густой египетский мистический фон постоянно присутствует в произведении. Особенно резко он прочерчен в Древних главах:
«— Ты был в Египте?..
— Да, я был. <...>
— Почему о тебе пишут — «египетский шарлатан»?
— А я ездил в Египет с Бен-Перахая три года тому назад, — объяснил Ешуа. <...>
— Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам» (7; 116, 120, 122, курсив мой. — О.К.).
Имеется в виду рассказ в Талмуде о том, что Иешуа Назарет был с компаньоном в Александрии, где якобы научился колдовству, и, вернувшись, «свёл Израиля с пути». Иешуа жилист, лёгок, подвижен и бесстрашен, как настоящий египтянин — именно так его воспринимает грузный, инертный, ипохондрический римский прокуратор, у которого в ранних вариантах текста не хватает даже желания турнуть в шею вульгарного (как он отмечает про себя) любовника своей жены. Может быть, этот унылый железобетон, пронизанный зуммером беспрерывной головной боли, и мешает ему вовремя среагировать на «египетские позывные» стоящего перед ним арестанта.
Абсолютно египетской по своей структуре и мифологическому генезису является фигура кота Бегемота, во-первых, как кота, обожествлённого в Египте и удостоившегося даже мумификации, во-вторых, как бегемота, исконного обитателя долины Нила и тоже обожествлённого жителями страны Кеми. В качестве магов, жрецов и воинов-рыцарей Воландовская компания близка остальным Булгаковским кудесникам-изобретателям (Персиков, Рейн, Ефросимов. Тимофеев, Преображенский). Особенно выразительно поведение мага-профессора из «Собачьего сердца»: его «египетскость» подтверждается манифестированной любовью к опере «Аида», а клановая принадлежность — напеванием хора жрецов «К берегам священным Нила...» из любимого произведения. Булгаков настойчиво повторяет этот гимн-песнопение и даже заканчивает повесть его двукратно пропетой строкой.
В стилистике мифологии «ладьи Ра» решено «сонное видение» Маргариты с наполненным не только поэтичностью, но и глубокой символикой скольжением на лодочке во время поиска-призывания своего утраченного возлюбленного:
«...Что поражало на этом юге, это что солнце не ходило по небу, а вечно стояло над головой в полдне, заливая светом море. И солнце это не изливало жара, нет, оно давало ровное тепло, всегда одинаковое тепло, и так же, как солнце, была тепла морская вода.
Да, как бы ни были прекрасны земные моря, а сонные ещё прекраснее. По морю во сне можно плыть в лодке без вёсел и паруса и с быстротою автомобиля. На этом море не бывает волнений, и над ним не бегут облака.
Итак, всякую ночь Маргарита Николаевна, задыхаясь в волнении, неслась в этой лодке, чертящею кормой стеклянную воду, ловко лавируя между бесчисленных островов. Она хохотала во сне от счастья и, если островок был маленький, просто поднимала лодку в воздух и перелетала через камни, лежащие меж деревьями. Если же остров был велик, стоило пожелать, и море приходило к ней само. Не бурными валами, не с белой пеной, а тихой, не обрывающейся, не растекающейся всё того же массой своею жидкого синего стекла.
Вдоволь накатавшись, наплававшись, Маргарита гнала лодку к земле» (6; 158—159). Удивительно, чёрт на Патриарших в лодочке скользит, а Маргарита во сне на Море мёртвых — чертит кормой (или — кармой?).
Сатана в мифологии древнего Египта — бог Сет, князь Мира Сего, улавливающий в сети обыдённости, искушающий тупо взирать на болванов из папье-маше в витринах тривиальности. — «Ску-у-ушно на этом свете, господа». Главное, что Осирис и Сет — родные братья, близнецы, единая кровь.
Одним из священных животных Сета был осёл; иногда он даже изображался антропоморфным существом с длинным тонким туловищем и головой осла. В этом смысле особо значимым становится новозаветный эпизод въезда Иисуса Христа в Иерусалим «на осляти» и тот символический смысл, который придавал ему сам Планетарный Логос. Не просто анонимное соглядатайство, но принципиально парное участие во всех эпизодах земной жизни Христа — таков эзотерический статус Сета-Сатанаила.
В период Древнего царства Сет наряду с Гором почитался богом-покровителем царской власти, как раз это и заявлял Иисус в своих претензиях на звание «царь иудейский».
Согласно древнейшей египетской мифологии Сет спас бога Ра от змея Апопа, пронзив последнего своим гарпуном. Апоп есть воплощение суммы духов нижнего плана (так называемые «духи зла»), энергии инерционного противления естества восхождению души в горнее. Борьба с ним Сета аналогична борьбе Воланда за беспрерывное становление человеческого духа в аспекте нравственного императива Иешуа Га-Ноцри. Опошление аборигенским сознанием неуловимых для примитивного земного законодательства высших гностических откровений привело к тому, что с VIII века до н. э. Сета стали отождествлять с этим самым Апопом (!).
По существу речь идёт лишь о том, что знание подлинной сути Сета стало уделом только посвящённых. Надо ли объяснять, что во всех адекватных интерпретациях личности Иисуса общим знаменателем остаётся его характеристика как Великого Посвящённого? А это значит, что у Иешуа Га-Ноцри нет противников в Небесах. И что Апопом являются на земле все негодяи и ненавистники его от Каиафы до Берлиоза включительно.
Осёл — вместе с волом — был первым апостолом Христа, обогрев Его дыханием в пещере рождения. «На осляти» Мария с младенцем Иисусом и Иосифом совершила «бегство в Египет», символически перечеркнувшее древний «исход из Египта» и возвратившее библейский Гнозис на круги своя. У лап Великого Сфинкса пережидало Святое Семейство время гонения Ирода. У Большой Пирамиды получил Христос своё первое посвящение — прохождение через 13-й аркан Смерть, имеющий в этом случае подзаголовок «Избиение младенцев». Когда на том же ослике Мария с младенцем вернулась в Палестину под возгласы встречающих: «Из Египта грядёт Мессия!»61 — двуединство Гора и Сета, Планетарного (Солярного) Логоса и Сатанаила в египетском верифицирующем преломлении становится самоочевидным. В Древнем Египте их иногда изображали даже одним антропоморфным телом о двух головах: Гора-Сокола и Сета-Окапи (Осла). Семантическое отождествление осла с осью мира заставляло (для наглядности) соотносить Сета не только с окапи, но и с жирафом, на основании чего был разработан сакральный жезл уас, эту шею-ось прицельно демонстрирующий (у — звук трубной вытянутости, ас — осёл).
Египетская подоплёка и Ветхого и Нового Заветов, прочувствованная и понятая автором МиМ до глубин, позволила ему с пренебрежением относиться к представителям собственно иудейского менталитета, этнополитики и логики. Свирепые вепри — Каиафа и Левий Матвей, злобно единоборствующие сквозь ускользающее светлое видение Иешуа Га-Ноцри, не удостаиваются ни малейшего интереса со стороны демиурга-повествователя, проходящего мимо этой грызни, как свары дворовых собак. Рядом с Иешуа всё выглядит более или менее маргинально, и лишь весёлая нить смеха делает унылую скуку бытия достойной внимания. Что было до того, видно по той томительной тоске, в которой пребывают Иван Бездомный и Берлиоз перед появлением «иностранца». Что стало после, показано «краешком» в серой пошлости посюсторонней части Эпилога. Ряска сомкнулась, перепуганные было лягушки снова самодовольно заквакали, и только в «простреленной» памяти Ивана Понырёва раз в году фонтанирует лунный прибой.
Воланд исчез, а злоба мира сего осталась. Осталась «жизни мышья беготня» и монотонность заурядности. И приходится только ждать, когда появится Кант, да к нему для беседы пожалует Воланд.
Так что забавное приключение в Москве конца 20-х годов было на самом деле мастер-классом.
32. Выстроен ли Роман как своеобразная лестница в Небеса?
Да, так в конце концов получилось. Хотя поначалу речь шла о происшествии на определённой Ступени развития лишь с намёками на структуру целого. Совершенно по-диккенсовски истоком всего явилась бельевая корзина, где нашлась облигация со счастливым выигрышем. Потом оказался в наличии человек, выросший, как из детских штанов, из своей довольно почтенной профессии и весьма элитного места службы. Значит, плоть историка, работающего в музее, была только хризалидой художника с достаточно легитимной вольницей, только среди артистической публики ещё и оставшейся. Соединение внутренней готовности с обеспеченной материально свободой и привело к алхимическому чуду романа о Пилате, который поглотил при своей реализации все автором запрограммированные чудеса.
Но так стало во второй половине работы над Романом. В начале — речь шла лишь об урезонивании разнузданных безбожников, отрицающих историческую подлинность Иисуса Христа, со стороны «очевидца», в качестве коего выступил сам Сатана. Плюс резонанс — своего рода «круги на воде» — в среде московских жителей, ставших свидетелями происшествия. Перво-наперво для бала Сатаны («шабаша» ранних вариантов) потребовалась хозяйка — и появилась Маргарита; затем Маргарите понадобился партнёр — и им стал Поэт (в черновиках даже названный Фаустом). Когда же выяснилось, что у презиравшего «стихи» Булгакова на страницах главного Романа в качестве основных действующих лиц сразу два поэта занимали солидное место, то после этого парадоксального результата работа над фигурой Мастера началась всерьёз. Дело не в простой замене поэзии на прозу в качестве его основного занятия; пришлось менять необязательный характер отношения искусства к истине на обязательный, жёстко детерминированный, регулятивный. В результате такой привязки из человека, пользующегося для фиксации откровения языком литературы (или шире — искусства вообще) получается не «маэстро», а Мастер. Процедура его «изготовления» (в отличие от прихоти самоназвания) оказалась посвятительной лестницей, лестница же эта, ступень за ступенью одолеваемая в максимальном напряжении всего естества человека, уводящей прямо в Небеса. Так что повествовательная логика произведения фиксировала словно бы без малейшего нажима со стороны автора естественную процедуру духовного восхождения как основную драматургию сюжета.
Постепенно выяснилось, что лестница имеет 33 посвятительные ступени, которые составлены суммой 22-х Больших арканов Таро и 10-ти сефирот Кабалистического древа плюс тайная Одиннадцатая сефира Даат, соответствующая Эпилогу Романа. Обе системы и их комбинация, образующая 10-ти сефиротное Кабалистическое древо с 22-мя путями-сообщениями между сефирами (плюс Даат), восходят к герметической философии древнего Египта, к его изобразительной символике, до сих пор не прочтённой до конца. И Тарот, и Кабала являются мощнейшими гностическими ключами и действуют в поле познания по отдельности, хотя и связно (наличие обертонального богатства перекличек и детонаций); они объединяются только для создания эзотерической комплексности высших орденских инициаций. Поразительно, что постепенно, а в конце уже «на падающем флажке» произошло абсолютное сращивание свободного течения Романа с этой уникальной системой. А ведь «наводящая оптика» прыгала вокруг фокуса в обе стороны: в первой полной редакции было 37 глав, во второй — 30 и только в самом финале работы (1939 — начало 1940 года) гармоническая полнота была достигнута: две главы из тридцати были поделены пополам и расширены, к ним добавлен сверхномерной Эпилог, и в этом архитектоническом совершенстве Роман уже стало возможно отпустить в плавание по волнам вечности.
Казалось, Булгаков вырубал уступы, чтобы иметь возможность поставить ногу, только для самого себя; когда же, взобравшись на вершину, он оглянулся назад, то увидел не «худые приступки суетливого поспешания», а широкую светлую лестницу-эскалье, по которой могли восходить вверх миллионы. Тогда скалолаз окончательно убедился, что он не «корыстный литератор, пользующийся чужими наработками в погоне за личной славой и известностью», но духовный мастер, завершивший постройку, начатую старшими братьями, среди них Пушкиным и Достоевским.
Феномен Большой Розенкрейцерской Посвятительной Лестницы в том, что ни одна ступень не является «промежуточной» (читай — межеумочной), хотя лишь последняя — завершающей, гроссмейстерской.
В отличие от поздних иллюстративных произведений на тему Тарота и Кабалы (например, «Маятник Фуко» Умберто Эко) в Романе Булгакова нет ни тени игривой стилизации, грозящей в постмодернистском словоблудии взорваться на «хорошей» мине при плохой игре. У него всё выстрадано и благодаря этому в высшей степени эзотерично, ибо удовлетворяет фундаментальной формуле духовной культуры: Познание и любовь — одно, и страдание — мера их. Причём стилизаторского произвола нет даже в романе Мастера, а ведь казалось, он бросил «сухотку науки» в пользу артистической прихотливости, чтобы «рассупониться», дать выход ничем не стесняемой самости (именно для этого пишут романы учёные62). В булгаковском случае всё наоборот: расхлябанность наукообразной говорильни63 подвигает Мастера на отказ от неё в пользу сладостной для него аскезы писания романного полотна. Правда, выясняется, что «роман» этот — об Иисусе Христе, и даже под рукой Мастера — уже почти евангелие.
Проводив своего героя вместе с возлюбленной в заоблачные выси, Булгаков не «задраивал» люк в Небеса; обнародовав раз и навсегда открытую «золотую дверцу», он сделал всё, чтобы восхождение в горние для всех достойных сделалось проективно известным и в то же время недоступным для хамской вальяжности. Никто не продумал смысл наказаний Жоржа Бенгальского, Босого, Римского, Варенухи, Понырёва и прочих, кому повезло попасть в орбиту очистительного карнавала Воландовской эпопеи. Правда, против «арамейской» крепости Алоизия Могарыча даже Сатана оказался «не резоном». Как известно, тот быстро оправился от потрясения (вернее, тряски огузком по дороге во Владивосток) и скоро вновь очутился в Москве и даже пошёл на повышение. Не надо думать, что в работе Ведомства Справедливости вышел сбой: неподатливость урокам Небес — самый страшный дефект, какой только мыслим в человеке. Алоизий — уж точно безнадёжен. Тогда как у остальных есть хоть какой-то шанс.
Поразительно, но свинское хождение по земле и пребывание на подготовительной ступени Посвятительной Лестницы — идентичны по уровню; отличие их — в отсутствии у первого вертикальной векторности второго. — И как сложно двуногому не охаметь в расслабляющем равенстве старта!
«Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха, это эпоха сведения счётов64, он сказал с ненавистью:
— Чепуху вы говорите...
Не успел ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения» (16; 78).
Забавно (теперь, когда страсти давно улеглись), что бездарный писака, осмелившийся тявкнуть на пророка, возможно, останется в истории только потому, что тот плюнул на него в своём дневнике. Какое везение! Рано или поздно время вымоет из памяти человечества булгаковских современников, тогда только упоминание их имён в самых гневных его инвективах как-то ещё спасёт от окончательного вечномерзлотного забвения.
Такова мощь аватара.
За отсутствием в пределах досягаемости новых Булгаковских текстов булгаковеды (sic!) судорожно собирают пасквили его поносителей. Недавно обширных «агиографий» (с фотографиями) удостоились два сексота, следившие за Булгаковым65. Я не удивлюсь, если биография Осафа Литовского в ЖЗЛ появится раньше Булгаковской (если последняя появится вообще). Вошь на гиганте ближе по пропорциям наблюдателю, чем самое гигант.
А это значит, что фигура пророка, упирающаяся головой в небо, является своего рода лестницей в небеса для тех, кто внимательно изучает, а при случае и фиксирует его житие. Следуя за известной Пушкинской формулой, Булгаков создал два великолепных биографических произведения: повесть «Жизнь господина де Мольера» и драму «Александр Пушкин». Столь же замечательна незаконченная гротесковая автобиография «Записки покойника». Он обессмертил беллетриста Юрия Слёзкина, набросав его этюдный портрет в одноимённом очерке. Возможно, самые любознательные читатели Булгакова начнут рыться в книжной макулатуре, чтобы прочесть полностью бегло процитированные им литературные опусы справедливо забвенного автора.
Почему справедливо...? — Писатель, ползущий вверх и не достигающий при этом Неба, невольно вводит в заблуждение читателей, которые с надеждой и верой тянутся вслед за ним, стараясь добраться до Света. Человек, публикующий свой текст, если этот текст не евангелие — обманщик. Он обманывает читателя в лучших его ожиданиях. Ну а для худших есть другие средства информации. Там уже не отдельные личности, а целые толпы стоят по стойке СМИ-рно!
Роман — такова российская традиция — это откровение, исповедь и священное писание (я не начинаю эти слова с большой буквы, чтобы хоть как-то заземлить сугубо деловую информацию).
Сын царственного мистика и сам орденский человек, Николай I дал Пушкину совсем не глупый совет: переделать «Бориса Годунова» в роман «наподобие Вальтера Скотта». Никто почему-то не взял себе за труд представить, каков был бы этот роман. Без всякого сомнения, царь-масон знал, что говорил. Помимо «мальчиков кровавых в глазах» Пушкин имел бы шанс создать портрет величайшего русского царя-гуманиста. Но «сукин сын» уже создал драму в духе Шекспира, и переводить её на уровень великого шотландского романиста значило невольно понизить в «достиженческом» статусе66. Не окажись рана смертельной, возможно, мы имели бы романиста Пушкина, несколько переждав Пушкина-историка. «Капитанская дочка», написанная по заказу того же Николая, об этом свидетельствует.
Именно эту ситуацию смоделировал Булгаков своим Мастером. Так и не вышедшая из-под пера Пушкина маленькая трагедия с названием «Иисус» оказалась реализованной как прозаический роман ровно столетие спустя.
Впрочем, всё это — «песня певца за сценой». Никто не задаётся вопросом: а что представлял собой весь роман Мастера, из которого (в «письменном» цитировании и пересказе) мы знаем лишь четыре главы?
При внимательном изучении материала можно «нащупать» остатки ещё двух глав: «Допрос в Синедрионе» и «Несение креста»; каждая по своей причине исчезла из окончательного текста. Но и при максимальном включении всего возможного суммарного текста оказывается слишком мало, чтобы «тянуть» на романный объём. О чём же был остальной текст?
Подсказкой может служить последовательная модификация того, что стало известно из окончательного текста МиМ как «роман Мастера».
Никакого «второго автора» Булгаков поначалу создавать и не думал. Автор был один — он сам. Оживлённый его пером Сатана как очевидец событий рассказывал «подлинную историю Иисуса Христа», приноровлённую к языковому уровню слушателей, т. е. имеющую определённые «точки снижения» с вызванных темой патетических высот. Недоверие слушателей к чрезвычайной информации привело к необходимости задействовать «седьмое доказательство»; в результате один из «жестоковыйных» Неверов оказался под трамваем, а другой в дурдоме.
Устная форма изложения «истории Иешуа» подчёркивается вариантом рассказа её Воландом, явившимся Ивану в клинике Стравинского в «сонном видении» (в этом случае он уже напоминает более Демона Рубинштейна, чем Мефистофеля Гуно).
Появление в тексте Поэта67 стало требовать проявления с его стороны творческих способностей. Тогда-то и возникает идея романа в романе, одновременно смывая маркировку «Поэт» с автора «внутреннего произведения». Создатель романа о Иешуа68 определяется словом «мастер», после чего основная диспозиция части Романа стационируется. И вместе с тем роман о Иешуа постепенно превращается в роман о Понтии Пилате, и теперь остаётся выяснить — почему.
Нетрудно заметить, что вокруг Иешуа полярно располагаются два типа контактировавших с ним людей: самозванные ученики (реально: спутники в дороге), для яркости суммарно заявленные фигурой Левия Матвея, и поклонники («мужи благоговейные» Деяний), полномочно представленные Понтием Пилатом. Первые — мрачные и злобные политиканы, погрязшие в этнических междоусобицах, нагло лоббирующие «своих» и свирепо облаивающие «не наших». Вторые — неторопливые, ироничные аристократы духа, влюблённые в парящую по-над землёй светлую мысль Иешуа, примагниченные к нему всем существом без остатка. Первые — держащие в голове «большие количества» своих и ревниво соображающие, как бы их приумножить, в том числе и используя приманкой имя «вождя». Вторые — судорожно выискивающие себе подобных с одним лишь желанием выжить в альтернативной среде, но не мыслящие жизни без своего идеала, чудесно явившегося им во плоти. Первые припечатаны Воландом уничижительным окликом «раб», вторые венчаны Иешуа царственным званием собеседника.
Сам же «философ из Гамалы» — лишь краткая вспышка в небесах, бездонные качествования коей превышают возможности человеческого схватывания. Булгаков назидательно осаживает своего как бы неделикатного героя строгой сентенцией:
«Ты награждён. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты сочинил, но о нём более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как цепляясь ползёт по стене. Красные вишни будут усыпать ветви в саду...
Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудренной косе, в стареньком привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить гулять и мыслить.
Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но и исчезнет мысль о Га-Ноцри и о прощённом игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой приют» (7; 327—328, курсив мой. — О.К.).
В следующей полной редакции приговор Мастеру совсем иной:
«Человек кинулся по лунной ленте и исчез в ней вместе с верным и единственным спутником Бангой.
— Он пошёл на соединение с ним, — сказал Воланд, — и, полагаю, найдёт наконец покой. Идите же и вы к нему! Вот дорога, скачите по ней вдвоём, с вашей верной подругой, и к утру воскресенья вы, романтический мастер, вы будете на своём месте. Там вы найдёте дом, увитый плющом, сады в цвету и тихую реку.
Днём вы будете сидеть над своими ретортами и колбами, и, может, вам удастся создать гомункула.
А ночью при свечах вы будете слушать, как играют квартеты кавалеры. Там вы найдёте покой! Прощайте! Я рад!» (6; 285, курсив мой. — О.К.).
Парадокс всех художественных произведений о Христе в том, что, как бы ни был велик автор, он не может стать над объектом изображения. Да и роман — слишком медлительная форма, чтобы идентифицироваться со вспышкой. Есть что-то категорически бестактное в авторстве любого текста о Планетарном Логосе. Кого бы ни ставить в центре повествования о Евангельских событиях (Иуда, Мария Магдалина, Пилат), источником света, падающего на все «предметы описания», будет Иешуа Га-Ноцри.
Однако блеск Солнца, видимого в отражающей поверхности, более смягчён, адаптирован и доступен для читателя, чем его лобовое созерцание; здесь уже есть где развернуться художнику, психологу, драматургу. Пилат, не только воспринимающий свет Иешуа, но и резко меняющийся в его лучах, — благодатный материал для романного исследования. В связи с этим, не изменяя смысловой центральности Планетарного Логоса, Булгаков переносит акцент «романа в романе» на фигуру пятого прокуратора Иудеи и тем самым отодвигает в маргиналы «апостола» христианского Канона. Более того. Пилат Второй главы МиМ и Пилат Эпилога — два разных человека; ангеличность второго делает уместным его пребывание на небесах.
Мрачный фанатик и хам Левий не меняется за те же самые «дважды двенадцать тысяч лун» ни на йоту. Воистину, Планетарный Логос имел дело — по верному определению библейских пророков — с самым жестоковыйным племенем на земле. В отличие от Мастера Левий Матвей так ничего и не понял в глубинной структуре Сатанаила; псиное рычание его сначала на Пилата, а потом на «повелителя теней» обнаруживают в нём уровень гораздо ниже Анубиса-Банги, ведущего себя с полным пониманием ситуации. Возможно, именно саднящее присутствие при Иешуа Левия Матвея заставило Булгакова поместить «покой» вновь подальше от Департамента Света. Этот самый Левий-раб абсолютно невообразим как часть Ведомства Милосердия, с которым гармонична и комплементарна вся «команда Воланда», включая Азазелло и Абадонну. В сравнении со свирепым мытарем даже последний смотрится Альбертом Швейцером с карболкой пропахнувшими усами. Безусловно, Мастер — да ещё с Маргаритой — рядом с Левием Матвеем непредставим.
Под пером великого мистика и духовидца вырисовывается, что древние фантазийные определения потусторонних палестин как массовых загонов-отстойников с кишащими в них в «колхозном» энтузиазме полчищами «праведников» или «грешников» не соответствуют реальной топографии потустороннего мира. Никакого «трения задами» и «кивания на соседа»; налицо индивидуальные состояния, поддержанные минимальной декорационной антуражностью — всё скупо и просто, как совесть на суде:
«Когда они подъехали, поэт увидел догорающий костёр, каменный, грубо отёсанный стол с чашей, и лужу, которая издали показалась чёрной, но вблизи оказалась кровавой.
За столом сидел человек в белой одежде, не доходящей до голых колен, в грубых сапогах с ремнями и перепоясанный мечом» (7; 193).
В дальнейших редакциях картина упрощается ещё больше: «Маргарита увидела, что прилетела вместе со всеми на печальную и голую, камнями усеянную, залитую луною площадку... Маргарита вгляделась и увидела кресло и в нём белую фигуру сидящего человека... Сидящий был или глух, или слишком погружён в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней. И всадники подошли совсем близко.
Теперь Маргарита видела, что сидящий потирает руки, глядит незрячими глазами на диск луны. Маргарита видела, что рядом с креслом лежит громадная остроухая собака и спит.
У ног сидящего лежат черепки кувшина и простирается невысыхающая лужа вина» (6; 284).
Эпический размах этой сцены восходит к легенде, согласно которой Пилат — одна из Альпийских вершин — «появляется в великую пятницу и умывает себе руки, тщетно стараясь очистить себя от соучастия в ужасном преступлении»69. В своих масонских «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзин посвящает альпийскому Пилату возвышенные строки: «Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтийского! Не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей несчастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния!»70.
Даже в легендах отмечена «геологическая» масштабность римского прокуратора. Это намёк на особую судьбу поклонников Иисуса Христа, их некультовую вознесённость71.
Значит, не зря Булгаков мучился сам и мучил своего пишущего героя биографией этого странного человека — он стоил того, и по мере работы над Романом это всё более прояснялось. И возможно, в конце этой Лествицы постижения до Булгакова дошло, что не мог Пилат дать победить себя Каифе, и Афраний пригодится ему для крайней нужды несколько ранее ночи.
Некто «арамей» С.М. Чевкин, написавший «разоблачительную» книжонку «Иешуа Ганоцри: Беспристрастное открытие истины»72, приоткрыл невольно край многовековой иудейской тайны, желая выслужиться перед режимом. Действующий в пьесе сотник Петроний, посланный добить на кресте Иисуса, делает это так, чтобы тот остался жив, приговаривая молодецки: «Я знаю, как ударить, и умею ударить». Что самое поразительное — Пилат, отдав такое распоряжение, нашёл для его обоснования вполне благовидный предлог...
Об этом чуть позже.
А пока удостоверимся, что Пилат только до встречи с Иешуа был в абсолютном пассиве: расплавленный мозг, утраченная со своим мистическим происхождением связь, гемикрания, уныние, лень и одышка...
И вдруг! — Вот именно в-друг! — Свет, озарение, приток крови, жизнь, её смысл, перспективы, возрождение. И это всё — ещё пока шёл допрос, пока злобно шипел Каиафа, пока таранил толпу литостратон...
Нет, восхождение к вершине началось сразу, он сориентировался мгновенно — на то и военачальник, чтобы принимать такие решения немедля. — Что он и сделал.
Учтите: в Египте за одни «добрые намерения» святыми не объявляют. Для этого должны быть весомые основания. — И такие основания нашлись.
Пилат стартовал почти без раздумий, своё «в душе настало пробужденье» он не пропустил.
Но вот что знаменательно: поверх жизнеописания учредителя «Царства Божьего» наслоилась, перекрывая почти полностью и пародийно повторяя малейшие извивы предыдущих событий «с точностью до наоборот», биография основателя христианства Савла из Тарса. Перед нами не жалкий, замордованный одинокий пророк, а хитрый самоуверенный демагог. Будучи «взят под стражу» правителем Феликсом, хитрован этот жировал в комфорте. Феликс хранил его от толпы за стенами дворца Ирода; «притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним» (Деян. 24, 26). И два года (!) ходил кругами первосвященник Анания, ожидая, когда же кончит водить за нос бедного римлянина новоявленная иерусалимская «шахразада» — обоим было не до него.
Воистину, история повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй раз — как фарс. Но ведь, с другой стороны, и законы и обычаи с той поры сильно не переменились, так что в событиях 29 (30) года — вернее, в их позднейшем пересказе — было какое-то противоестественное нагнетание, драматургический умысел, и Пилату даже и не надо было орать об «ограниченности своей власти», а Каиафе строить из себя всемогущего «злого гения».
Подлинные события истории Христа происходили слоем глубже, в густоте и немоте афраниевых тайн, в полутонах сокровенного и совсем по другому сценарию. Молитва в Гефсиманском саду была услышана, и нащупывая интуитивно подлинный ход событий, Булгаков вкладывает в уста Иешуа, висящего на кресте, такую фразу: «Спасибо, Пилат... Я же говорил, что ты добр...» (7; 230). Казалось бы, вот оно! ключ к Египту! разгадка! — ан нет, «все люди добрые» — и опять рыба срывается с крючка. Всунуться в эзотерику извне, всё в ней «поскорому» пронюхать и «быть тако-ву» — не удаётся. Мистика открывается лишь тем, кто внутри. — И этим всё сказано.
Если Пилат оказался, согласно коптским святцам, внутри, значит, он там был, пока ещё мог меняться, т. е. был жив. И сведение о легендарном «сыне короля-звездочёта» — не анекдот из глухого прошлого, а актуальное внутреннее настоящее, что мгновенно считывает проницательный Иешуа:
«Я, прокуратор, ...с удовольствием бы ушёл с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...
Тоже самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, ...так как пребывание на нём принесёт тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, — только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека» (7; 115—116, курсив мой. — О.К.).
Понравиться мысли Иисуса могли только «мужу благоговейному», а не обрюзгшему телом и мыслью, скучающему в праздности и лени римскому чинуше. Иешуа видит то, что ускользает от объектива ведущего свой метаисторический репортаж описателя, которого автор МиМ имеет в своём подчинении, но с которым не идентифицируется. И остаются не зафиксированными ни внутренние мысли Иешуа (вот почему роман Мастера нельзя было характеризовать как повествование о Иешуа73), ни полный текст «козлиного пергамента», ни разговоры Иешуа с Левием накануне событий. Зато вся внутренняя речь Пилата представлена в романе (и в Романе) в полноте, хотя табуирование святая святых сохраняется и в этом случае. — До самого Эпилога. На кульминацию хватает запаса форте, казалось бы, полностью исчерпанного накануне: в этом, особом, случае Булгаков черпает именно оттуда. Потому-то финал так оглушает.
МиМ — это роман о готовности; готовность Мастера, Маргариты, Пилата определяет возможность их почти мгновенного подключения к Высшему, когда вдруг это Высшее появляется на их пути. Контакт с Планетарным Логосом (Пилата) и контакт с Сатанаилом (Мастера и Маргариты) равно ответствен и требует благородства, решимости и самоотверженности. — Это особенно впечатляет. Никакого «весёлого колеса обозрения» (через едва скрываемое «обзирание» — ещё бы: «Край непуганных идиотов. Самое время вспугнуть») в Московских главах — как воспринял их брызжущий пеной энтузиазма маститый маэстро Файнзильберг, заставив, как вы помните, побледнеть помертвевшего от непонимания автора Романа.
Если культ двухмерен, и к нему «прихожане» стараются стать лицом, опасаясь разворачиваться тылом, то религия (связь с Богом) — трёхмерна, имеет глубину и обступает человека со всех сторон, так что стыдливо спрятать непристойности «за спину» — не удаётся. Полная вменяемость человека и такое же внимание к нему со стороны Высших Сил в этом случае обязательны. Поэтому дурдом, куда прибивает волной чрезвычайных происшествий всех пострадавших, становится постепенно философским клубом и дискуссионным собранием, и профессор Стравинский оказывается вовлечённым в этот интеллектуально-мистический водоворот по недоразумению. Не мудрено, что гениальный психиатр допускает «ошибку» (дающую даже название главе — см. 7; 26574), а здоровый бытовой рационализм объясняет постфактум всё происшествие цепью патологических «явлений» — результатом преступных действий «шайки гипнотизёров», проще говоря, «по Стравинскому». Сиречь — ошибочно, хотя и «гениально».
Когда «нормален», Пилат палит из своей гемикрании по ласточкам, когда становится «безумен», пытается из последних (нет, предпоследних) сил спасти бродягу из Эн-Назира, а потом и заказывает убийство Иуды, до кого ему нет вроде бы никакого дела. Делает он это осуществляя торжество здравого, а не больного смысла. Поэтому Стравинский, стоящий на страже первого, невольно перемещается в эту далеко «не академическую» область. Вдруг в дурдоме становится нужным Евангелие, а затем профессору предстоит серьёзный экзегетический труд по сличению писанины Попова с новозаветным оригиналом. Тут уж свою гениальность придётся сильно утомить, если прямо не заместить собой освободившийся 118-й номер собственной клиники, «сложив с себя полномочия» и «сдав билет».
Значит, Лествица вверх есть путь нарастания в человеке здравого смысла, становящегося, правда, всё менее и менее похожим на бытовую рассудительность. Тошнотворная «восточная мудрость» («Абуталиб сказал...»), являющаяся перекатыванием громыхающей своей пустопорожностью тривиальности — наиболее яркий образец такой рассудительности. Сюда же относятся многочисленные, как клопы, «максимы и афоризмы» (правильнее — амфоризмы), в трескучей сумме которых нет самого главного — восхождения. Это нечто вроде ступеней, собранных и сложенных стопкой, как колода карт; ими можно только резаться в дурака, в этом случае действительного дебила.
В Романе есть жёсткость и остойчивость вертикали; при движении в его гностическом поле нужны постоянно «мышечные усилия ума и сердца», а не лёгкое скольжение в наркотическом мареве фантазии. В противном случае возникает иллюзия, что любая лимитчица, скинув споднее, может превратиться в Маргариту, а любой небритый пижон в засаленной тюбетейке — в Мастера. На ступени лестницы можно быть невзрачным и неказистым, можно даже сутулиться — и быть высоким, ибо высота определяется местоположением ступени, а не амбициозным задиранием вверх подбородка.
Пилат ни разу не апеллирует к своей сановитости, он ведёт себя, как простой солдат. Но как только раздался духовный клич и эзотерический призыв («сцена в полях» из Бетховенской Пасторальной симфонии), тот, внутренний, Марку Крысобою не чета, мгновенно, по-лермонтовски среагировал:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света75
Рождённое слово;Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Это необыкновенное из финала!.. Долети приглашение Иешуа до Пилата во время битвы при Идиоставизо — не сносить бы Марку Крысобою головы. Пилат рвётся в поля, в полёт; он весь оперативен и быстр, как Бэконовский достославный копейщик, потрясающий до сих пор умы и сердца людей. Недаром Булгаков так педалирует слово копьё в имени прокуратора Иудеи, лепя скорее образ Шекспировского Кориолана, чем сытого хрюнделя с картины Ге «Что есть истина?».
Да, отклик на Слово возможен только при нахождении на одном уровне — то есть ступени. Рывок вверх даже при трубном гласе с Небес невозможен, движение по вертикали требует усилия: Царство Божие нудится, а не штурмуется. Где аврал, там и наврал; где слишком тонко, там и врётся: паутиной корабли не чалят. А когда всё в мимоте, всё в ауте, остаётся по бедности гордо вздыхать: «печаль моя светла»... Хотя всем ясно, что это обрат, пепел и только покой. Ибо на лестнице бывают лишь встречи и никогда — расставания. И действительно, на ней встречаются Мастер и Маргарита, Пилат и Иешуа, Время и Вечность, Упование и Воздаяние, герой и его создатель. У76 неё происходят все московские сцены с участием Воланда, да и путь наверх — по ступеням — в принципе никому не заказан:
Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант, — стойте!
Иванушка застыл на месте.
— После моего евангелия, после того, что я рассказал о Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — и острый палец инженера вонзился в небо. — Остановите его! Остановите!! Вы — старший!» (7; 239, курсив мой. — О.К.).
Как видим, даже у Берлиоза был шанс. И воспользуйся им главный редактор «Богоборца», Воланд был только бы рад, но... — «Тогда б и мир не мог существовать...» Поражение в доброхотстве и закончившееся ничем упражнение в равенстве ничуть не расстраивают мудрого экзаменатора: свобода в выборе не приводит в данном случае к равенству в достижениях, а потому и не кончается общим торжеством в братстве победителей. Но главное — шанс был дан, и именно это фиксирует Воланд перед лицом Высших Наблюдателей. — Что ж делать, если «народ жестоковыйный»77 неспособен к мгновенным судьбоносным модификациям, — есть те, кому высокие требования Неба оказываются в самый раз. А какого нежного и преданного брата имели бы в лице Мастера московские литераторы, встреть они новичка по-человечески, а не хищным ликоспастовским рычанием!
Выясняется, что по-человечески могут относиться к людям только Тот, кто не совсем человек, хотя и Сын Человеческий, и Тот, кто совсем не человек, хотя и Князь Мира сего. Неужели «лягушачья перспектива» с её известными постулатами: «человек человеку — волк», а человечество — «клубок змей», — неужели именно она будет постоянным ориентиром обыдённости, а всё высокое, Надмирное, благородное оставлено лишь для «воскресных зрелищ»? Неужели руководством к действию будут не тихие и скромные слова Христа, а Савлова карикатурная демагогия, от коей — вот юмор в Новом Завете — «во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего [этажа], и поднят мёртвым» (Деян 20, 9). Парня откачали, но переполох был большой, думали, что не выведут из летаргии.
Так кто же лучше: Главы Ведомств, хлопочущие над пробуждением человечества, или расчётливые краснобаи, навевающие «человечеству сон золотой»? Коллективных ответов на этот вопрос — на уровне регионов, этносов и государств, — как выясняется, не существует; индивидуальное же решение в пользу первых автоматически приводит человека к началу пути восхождения с посвятительным подтекстом каждого этапа жизни.
И усердный труд Михаила-Лествичника пригождается уже не в качестве стремянки для того, чтобы «срывать плоды удовольствия» с древа познания добра и зла, а для постоянного повышения уровня видения и глубины понимания структуры вселенского бытия.
33. Предусматривал ли автор евангелический статус произведения?
Воистину, Igne Natura Renovatur Integra (Огнём Обновляется Вся Природа). Феся с его демонологией Первой редакции Романа был так далёк от Провозвестия, что понадобилась капитальная «чистка конюшни Пегаса», чтобы из каминного огня, как феникс, сюжет Романа восстал в тысячекратно более прекрасном оперении (т.е. оформлении пером). [«Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией», — писал Булгаков П.С. Попову 24.IV.32.]
Однако никто не задумывался, что твёрдый остаток сожжённого, пепел, есть вышеприведённая надпись — девиз розенкрейцеров, сокращённая до четырёх начальных букв: INRI. При воскресении-восстановлении эти буквы дают уже совершенно иную развёртку: Iesus Nazarenus Rei Iudeorum (Иисус Назарей Царь Иудейский).
Так началась метареалистическая Христология МиМ, которая с этого момента шла по нарастающей, всё более и более захватывая автора. Самодвижение материала, получившего прививку Высшей Истины, осуществлялось почти без участия писательской воли, как бы путём самостановления, разворачивания четырёх-мерности (являющейся в свою очередь ангелом — вестником пятого измерения) в среде земной трёхмерности, причём особенно напрягался и задействовался параметр глубины. Сознанию не приходилось педалировать «клавиши глубокомысленности»; бездонность являлась сама, приползая как египетская священная кобра на звук флейты, и принося тот самый светлый кристалл, о каком говорил Иешуа в своих дорожных беседах.
Стоило только появиться словосочетанию Евангелие от Воланда, Евангелие от Сатаны, как прорыв в трансцендентное оказался делом свершившимся, ибо важность и серьёзность информации, содержавшейся в этом Евангелии, заставила переакцентировать, перекроить и перестроить весь сюжет. Поверх «русского готического романа» Первой редакции с эстетикой ревю-обозрения в духе чаяновских повестей вдруг выглянуло мистериальное действо и его эпицентр — Алтарь Диониса78.
[Произошло это потому, что чаяновское плетение кружев (маленькие текстовые куртины вокруг изящно подобранных эпиграфов) Булгаков прорезал «фульминатой» сатиры, и сразу в мёртвых дотоле бутафорских кустах что-то заухало, зафыркало и закуковало; по тайным тропам смысла помчались козлоногие сатиры, беззлобно задирая прохожих, свиристя на флейтах пана, поднимая на смех казалось бы абсолютно неподъёмное.] Великая вещь — смех; это квинтэссенция смелости, воспетой Иешуа через порицание трусости; а сатир с мехом изначально со смехом в ладу, ибо удал и добродушен; бесстуден на морозе, жалоблив на жаре.
[Булгаковский гностический символизм безусловен и весел, его образность безоблачна, поскольку прямодушна; она целиком служит познанию и исчезает без следа, выполнив свою задачу... нет, не задачу — передачу, передачу благой вести. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Читаешь и видишь: за ним — никого.
Он насквозь парадоксален: смертельно больной он шутлив и лёгок, говорлив и паролен, ускользающе статичен, необъятен — весь здесь.
На грани возможностей, на стоячей волне срыва, в затяжном сальто мортале без лонжи, он же и — бессмертно здоров.
Он мистичен и оптимистичен, сокровен и доступен, магнетичен, магичен и добр.
Ибо: плоть немощна — это о «них»; дух же бодр — это о нём. И оно — лишь реверс предыдущего.
Так что — хорошо смеётся тот, кто смеётся по средам.
«Весною, в среду, в час жаркого заката на Патриарших прудах появилось двое граждан» (59; 62).]
Сакральная топология места действия, оказавшаяся как бы сама собой под рукой (и под ногой), стала развёртывать пред пытливым взором исследователя-миста целые галереи смыслов, мифологических перекличек, глубин.
«Луна светит страшно ярко, Миша белый в её свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведёт через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молчание» (4; 327).
Естественно, Козиха. Отсюда, понятно, «Консультант с копытом». Трагос (греч.) — козёл, потому и «Трагедия машет мантией мишурной»79. А одно из ранних заглавий Романа — «Божественная (трагедия)».
В своём блестящем мифологическом исследовании «Происхождение драмы: Первобытная трагедия и роль козла в истории её возникновения». Пб, 1921 Евреинов, любимец Булгакова, писал:
««Трагедия» (фонетически искажённое τραγωδια от τραγοζ = козёл и ωδη или в нестяжательной форме — αοιδη = песнь) значит столько же «песнь козлов», как думают некоторые..., сколько и «козло-песнь», «козлиная песнь»80, «песнь козлу» или «козлогласование», т. е. песнь, предметом которой является козёл» (60; 15).
Дионисов мастер81 Михаил Булгаков разрабатывает тему не теоретически — Козиха предоставляет ему мощнейший мистический полигон для исследований. Причём совсем даже не умозрительный. Вот факты:
«Это произошло в конце октября, — рассказывает коренной москвич, в прошлом химик-технолог, Н.Н. Листратов. — Уже темнело. Я ехал по Малой Бронной мимо бывших Патриарших прудов и вдруг ощутил приступ непонятного ужаса. В этот же момент моя старенькая «шестёрка» заглохла, а прямо перед капотом из-под земли ударила как бы струя пара. Этот туманный столб походил в свете фар на призрачную фигуру человека. Привидение несколько раз взмахнуло руками и растаяло. А в небо поплыла цепочка небольших светящихся шариков, похожих на мыльные пузыри. На ватных ногах я вышел из машины — вдруг на дороге открытый канализационный колодец или ещё что... Но нет, перед капотом ровный асфальт, без провалов и трещин. Откуда же пар, а тем более огненные пузыри? Вернувшись домой, долго ломал над этим голову... Кстати, мой сосед сказал мне, что у него несколько месяцев назад на том же месте и тоже без видимых причин заглохла машина. А ещё я узнал, что на месте Патриарших прудов в прошлом веке было «Козлиное болото», о котором шла недобрая слава. Извозчики жаловались, что лошади там начинали храпеть и «шарахались по неведомому страху». Объяснялось это выделениями болотного газа. Может до сих пор в районе Патриарших из земли прорывается метан?»
Описав ещё несколько аномалий в черте Москвы, приведших к катастрофам, корреспондент заключает: «Согласно теории Барковского, все эти чудеса объясняются «гравитационными взрывами», которые происходят «на разломах и разрывах сплошности земной коры».
Гравитационные процессы... объясняют и странные разрушения, и уж совершенно фантастические рассказы очевидцев об изменении веса предметов.
Но если по поводу «гравитационных взрывов» традиционная наука ещё сомневается, то реальность «огненных пузырей», возникающих в земных недрах, уже признана. Согласно современным учениям, энергия тектонических напряжений может высвобождаться не только через землетрясения, но и в виде электромагнитного излучения, линейных и шаровых молний. <...>
Такие «шарики», поднимающиеся по разломам, вполне способны отключить зажигание автомобильного двигателя, вызвать аварию, повлиять на водителя, перерезать телефонный кабель, взорвать газопровод, одним словом, они (как, впрочем, и любая молния) могут натворить в городе немало бед. Тем более что таких ударов из-под земли никто не ждёт...»82.
Хотя корреспондентский комментарий выполнен в стиле рационалистических сентенций первой части Эпилога МиМ, мистическая подоплёка явлений сквозит во всех эпизодах рассказа, нисколько не перекрытая объяснениями. Можно дать понять, как извлекается звук из каждого инструмента, можно растолковать порядок расположения оркестрантов в симфоническом оркестре... Но как заземлить чудо 40-й симфонии Моцарта в исполнении Тосканини?
Только мист со стажем мог чувствовать себя во всём этом как рыба в воде.
Сестра вспоминает: «5 июля 1909 г. в Буче была поставлена фантазия «Спиритический сеанс» (с подзаголовком «Нервных просят не смотреть»). По словам Н.А., это был балет в стихах, словом, что-то вроде эстрады; автор стихов — друг семьи Е.А. Поппер. Эта фантазия была целиком сочинена, оформлена и поставлена группой молодёжи на даче Семенцовых; М.А. был одним из постановщиков и исполнял роль спирита, вызывавшего духов» (8; 62, курсив мой. — О.К.).
Через тринадцать (sic!) лет ситуация повторилась:
«У них (Крешковых, живших на Бронной. — ОК) дома проводились спиритические сеансы, к которым Булгаков относился насмешливо. Татьяна Николаевна вспоминает, как однажды он уговорил её: — «Знаешь, давай сделаем сегодня у Крешковых спиритический сеанс!» Они распределили роли — Булгаков толкнёт её ногой, а она будет стучать по столику» (22; 183).
Сеанс состоялся. Затем появился рассказ, где события приобрели своё сатирическое воплощение с контрдевизом: «Но предупреждаю: я буду бояться!»
Вечер шёл со всё нараставшим энтузиазмом. Миленький дух! — стонали спириты. <...> — Дух! Стукни!!
И дух превзошёл ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками».
Оказалось — Чека.
О, чёрт бы взял идиотскую затею!»
Эпилог «в клеточку» завершает повествование.
Короче — просто детская пугалка: «Идёт-бредёт коза-дереза» — и пальцы в жесте «глаза выколю!».
А в случае чего приятель, адвокат В. Коморский, жил неподалёку, Малый Козихинский 12-12 хороший малый. Хоть и козихинский.
Но вернёмся к Евреинову.
«Посвящённый Дионисом в тайну виноделия, легендарный Икарий, поймав однажды козла, портившего его виноградник, принёс на радостях виновника в жертву своему благодетелю. Поселяне, случившиеся при такой оказии, принялись танцевать вокруг жертвы, воспевая славу богу» (60; 17).
Культ винограда — лемурийский культ; лемуриец Дионис — «культурный герой», занёсший некогда эту агрикультуру, технологию возделывания и ритуалы праздника сбора урожая на континент, чем облагодетельствовал Египет, Междуречье и Ближний Восток с Грецией включительно.
«Дионис, находясь в Египте, превращён в козла, чтобы избегнуть ярости Тифона» (60; 23, курсив мой. — О.К.).
Ярость Тифона (Сета) вызывает единственное существо — его родной брат-соперник Озирис, с которым идёт бесконечная тяжба-вражда, носящая характер одностороннего преследования-подсиживания со стороны коварного и завистливого «тифози». Погибший от козней братца Осирис, приняв характер доброго хтонического божества, постоянно воскресает из-под земли весенними зерновыми всходами и буйной виноградной лозой. Козёл, пожирающий её, является соперником человека на осирисовом празднике жизни, предпочитая листья плодам: люди тоже употребляют в пищу виноградный лист, правда, делая это в щадящем для растения режиме. Так что «ешьте плоть мою, пейте кровь мою» имеет многотысячелетнюю историю, что и не удивительно по отношению к актуально-вечно существующему Планетарному Логосу.
Плодородность козловидных божеств зафиксирована в европейской мифологии в образе широко известного «рога изобилия», ведущего своё происхождение от козы Амальфеи, чьим молоком нимфы Адраста и Ида вскормили Зевса. «Про Диониса, этого «рогатого бога» говорилось, что где он коснётся земли своим «раздвоенным копытом», там родятся цветы и плоды, «млеком струится земля, и вином, и нектаром пчелиным»» (60; 35).
Это только экспозиция темы, самое невероятное начинается дальше.
«Древнейшие из Дионисий... праздновались в Аттике (как мы уже знаем, принесением в жертву козла) в месяце Посейдонисе, т. е. в конце декабря по нашему месяцесчислению. <...>
Почему же декабрю, находившемуся под зодием Козерога, было присвоено названье Посейдона? <...>
Какая связь, спрашивается, между Дионисом, божеством хтоническим, и Посейдоном, божеством морским83?
Рядом с этим уместно задать вопрос, почему месяцу Посейдону был... присвоен зодий Козерога?
Ответ на эти вопросы скрывается в ряде следующих данных.
Одним из прозвищ Посейдона было Αιγαιος, Αιγαίων «бог волн»; отсюда — Эгейское море. Эгей первоначально тот же Посейдон, родовой бог ионян. Αιγις назывался «наводящий ужас» щит Зевса (эгида Зевса), каковое слово может быть производимо от корня αιγ и означать «непогоду». В таком смысле это грозная облачная одежда — оружие и щит Зевса (отсюда русское облекаться-облачаться. — ОК)... Рядом со словопроизводством от αιγ позднейшие сказания допускают и даже настаивают на словопроизводстве αιγίς от αιξ — коза, поясняя, что Зевс, в исполнение известного ему предсказания, натянул, при борьбе с гигантами, на свой щит шкуру козы — своей кормилицы и что именно от этого отец богов называется эгидодержцем.
Оба... роднятся тем архаическим фактом, что «наводящие ужас» тучи казались некогда первобытному человеку «волнистыми, мохнатыми шкурами, покрывающими небесный свод»...
Итак, Посейдону, в качестве Эгея, страшному при грозовых тучах, присуще козлиное начало так же, как и трагоморфному Дионису. Отсюда уже сравнительно ясно, почему «наводящий ужас» непогодой декабрь, когда справлялся козлиный обряд, был назван Посейдоном и почему именно месяц Посейдон встал под зодий Козерога.
Ещё глубже и крепче эта связь Посейдона с Дионисом может быть усмотрена при архаическом подходе к Посейдону, который в древне-пелазгическое время, как оказывается, был не только богом моря, но и богом всех вод, распространённых на земле, давая начало источникам, рекам и озёрам... Эта роль впоследствии почти целиком исполнялась Дионисом, который, между прочим, удержал и прозвище «оплодотворяющего посредством влаги»...» (60; 54—57).
Этим объясняется постоянный контакт Воланда и его дионисийско-демонической свиты с водной стихией — начиная с экспозиции у Патриарших прудов через шабаш на Лысой горе у Днепра до фонтанов и бассейнов бала у Сатаны.
Дионисийский статус Азазелло (будущего Воланда) настойчиво прокламировался его копытностью, которая у «европейского» чёрта является прямым античным заимствованием, абсолютно немотивированным в аспекте новозаветной мифологии. У Сатаны книги Иова никаких копыт нет; нет их и у египетского Сета(ны), этот ряд можно было бы продолжить, но главное: русская мистика, ориентируясь на Лермонтовского Демона, никакой зооморфности за представителями Ведомства Справедливости не числит, а символические животные являются лишь элементами мифологической мистериальности и присущи в равной степени всем трансцендентальным сущностям. [Христос — Агнец Божий не менее «копытен», чем Врубелевский добродушный Пан, кто и был моделью для Булгаковского «копытословия».
Менее очевидная дионисийская подоплёка Воланда заставляла автора МиМ допытываться у знакомых, кем именно они считают «иностранного специалиста» и лежащий на поверхности ответ «сатана» был с их стороны лишь демонстрацией принадлежности к миру тривиального и профанного. Множественное число в заго-ловке «Дионисийские мастера» обеспечено совсем другими именами: добрый Пан Макс Волошин, живчик Гиацинт Николай Евреинов, растрёпанный Сатир Вересаев84... — Булгаков был одним из них и уже в 1929 году ощущал себя мастером.
Дионисийский ключ почему-то никогда не прикладывался к Роману; между тем автопортретная повесть «Тайному другу» была написана по горячим следам только что созданной первой версии великого текста. Подзаголовки повести свидетельствуют о знакомстве Булгакова с книгой Евреинова, как и появление имени Азазелло обнаруживает осваивание автором МиМ второй части евреиновских штудий — книги «Азазел и Дионис»85, где подробно исследуются семитские обряды, связанные с обычаем «нагружать» племенные грехи на «козла отпущения» и выгонять его в пустыню в бескровную жертву суровому Иегове. Слияние образа козла с грозным демоном пустыни привело к объединению их в одно целое, где от первого была взята выразительная внешность, а от второго — характер. Мирный парнокопытный превратился в кровожадного хищника с молнией-ножом, орудием неотвратимого возмездия недостойным. Таковы ролевые функции консультанта Азазелло в ранних вариантах Романа, хотя и в этом случае связь его с Дионисом не утрачивается: «...перед началом театрального представления в греческих театрах сохранился священный обычай обносить зрителей кусочками сырого мяса» (60; 43).
Так в греческом театре старались поддержать мистериальный дух, законвенционную безусловность сюжетики действа; только она могла привести к катарсическому очищению, к полной самоидентификации с героями произведения. И если кого-то коробит «языческая дикость» этого обряда, вспомните, что «просвещённые» испанские христиане до сих пор наслаждаются запахом натуральной крови (бычьей, а то и человечьей) во время обожаемых ими коррид.
Булгаков лишь реализовал в тексте Романа отнюдь не умозрительную процедуру наказания, осуществляемую представителями Высших Сил за совсем не метафорические преступления, совершаемые по отношению друг к другу людьми на земле. Он ввёл её в дионисийский мифологический круг, придав абсолютную осмысленность и оправданность и не только возведя целое на высочайший духовный уровень, но и найдя достойное разрешение религиозным исканиям русского XIX века. Он оказался прямым продолжателем Достоевского, что особенно рельефно читается в демонологии русского Эсхила:
«Это представление о бесе, видение беса, чаще абстрактное, умозрительное, но иной раз и визуальное, представлено в его романах-мистериях, которые без этого видения мистериями бы и не были»86.
В этом смысле МиМ демонстрирует свой изначальный, специальный и высочайший мистериальный статус. И костяк выражения «Алтарь Диониса» обрастает живой плотью содержательности.
Особенно прозрачны дионисийские аллюзии МиМ в ранних вариантах Романа, где они подаются буквально по Евреинову.
Ведущее место в процессиях Диониса занимали фаллофоры, фаллические пляски и фаллический культ в целом. У Булгакова это отражено так:
«Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась — ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в её руке. Заливаясь хохотом и отплёвываясь, Маргарита отдёрнула руку».
Ещё одним важным элементом дионисий являлось ритуальное сквернословие (αίσρολογια):
«Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой — фрачник — привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию...
— Ах, весело! Ах, весело! — кричала Маргарита. — И всё забудешь. Молчите, болван! — говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо».
И, наконец, непременный элемент мениппей-сатурналий — ритуальное заголение (ανασυρμα):
«Через минуту к пьющим присоединился боров, но голая девчонка украла у него из-под мышки портфель, и боров, не допив стопки, взревев, кинулся отнимать» (7; 150—151).
Приглушив — в силу его одиозности — первый элемент дионисийской мистериальной обрядности, Булгаков сохраняет остальные два в полноте, даже обострив их принципиальную важность в повествовании:
Наташа! — крикнула Маргарита.
И из кухоньки появилась Наташа, терпеливо ожидавшая конца объяснений и плача любовников. Если Маргариту хоть немного делал пристойной плащ, про Наташу этого сказать нельзя было. На той не было ничего, кроме туфель.
— Да, действительно, уверуешь и в дьявола... — пробормотал мастер, косясь на садящуюся Наташу.
— А на кой хрен ей одеваться? — заметила Маргарита. — Она теперь вечно будет ходить так. <...>
— Я вот смотрю на тебя, — заговорил мастер, — ты резко изменилась. Твой голос огрубел, в глазах решимость и воля... да и выражения тоже появились такие... Впрочем, я не могу сказать чтобы это было плохо...
— Я много перевидала, — говорила Маргарита, — и теперь знаю, что всё, что было... вежливые выражения... одетая Наташа и прочее, всё это — чушь собачья!»
Это — последний перед перепечаткой вариант текста и, как видим, все компоненты ритуального поведения сохранены: и манифестируемое заголение, и абсолютно фаллический «хрен», и сквернословие, носящее оттенок грубоватой правды.
Своим вердиктом по поводу новых для него черт в характере возлюбленной Мастер показывает, что он стоит вровень с мистериальным подтекстом происшедших перемен, проявляя высокую степень готовности и открытости ко всему сущностному. И он включается в действо:
«— Позвольте, вы ходили в таком виде куда-нибудь?
— Плевала я на это, — ответила Наташа.
— Чёрт знает что такое! — воскликнул мастер» (6; 275, курсив мой. — О.К.).
Мы присутствуем в самом горниле «выковывания» юмора и сатиры, ибо они выплавляются в сатурналиях, в алхимической реторте ложи дионисийских мастеров. Я не говорю о Евреинове, который однажды блеснул за фортепиано, поразив воображение молодого Булгакова; но даже суровый Вересаев знал в знойной сатуре толк, и в тоне наперсника-ученика это чувствуется; «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь... я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман» (2; 262, курсив мой. — О.К.). Дионисийский мастер Замятин создал себе памятник своей мрачноватой поп-эпопеей «Мы»; но и в лирической форме эпистолярного общения с младшим собратом не отступал от завоёванных с боем позиций: «Дорогой Мольер Афанасьевич... старичок... наплюйте на всё. ...«Les moujiks russes» были ужасны... Как видите, мои блошиные дела...» — и так далее. Паноптикум какой-то! — Именно такую рубрику вёл Замятин в журнале «Русский современник» под псевдонимом Онуфрий Зуев, почти не держа без работы свою сатирическую фрезу. Ну а мастер-«комикадзе» Сергей Заяицкий уже представал перед нами во всём блеске своего раблезианского остроумия. Наконец, Костя Вагинов поддержал из Петербурга всю честную компанию своей уже упомянутой «Козлиной песнью», имеющей всё тот же евреиновский источник87. Справедливости ради надо заметить, что Вагинов отдал дань и вечному оппоненту Диониса, напечатав в первом номере альманаха «Абраксас» поэму в прозе «Монастырь господа нашего Аполлона»88 в 1922 году. Главный дионисийский мастер Макс Волошин так же не обошёл вниманием великого Гиперборейца в своём исследовании «Аполлон и мышь» созданном, правда, по заказу журнала «Аполлон», что его несколько «извиняет». Идеологическим главой русского дионисийства был Вячеслав Иванов «Великолепный», прямой учитель Волошина, написавший цепь исследований-манифестов, посвящённых Лемурийскому Культурному Герою и его культу в среде континентальных аборигенов89.
Так что у Булгакова была мощная компания мастеров-эзотериков, в среде которых он мог рассчитывать на полное понимание. Кстати, Вагинов, кого связывал с Булгаковым их общий знакомый художник В. Дмитриев, похоже, вывел московского корифея под узнаваемым псевдонимом Миша Котиков (намекая на «мифологию» прозвища «Мака», проясняемого комиксом «Муки Маки» — см. 54; 370—381). Согласно тексту Миша Котиков «собирает материалы о недавно погибшем поэте Заэвфратском» — жестокая, но всепобедительная смехом «карта судьбы» обречённого на смерть Сергея Заяицкого и благоговейная фиксация нежной дружбы двух великих дионисийских мастеров. Так что, скорее: похоже вывел. Впрочем, попадание могло быть и мистически неумышленным, что случается при игре реалиями такого уровня.
Булгаков «не остался в долгу».
«Тип «романа с ключом», к которому относится «Козлиная песнь», был представлен в советской литературе двадцатых годов такими произведениями, как «Скандалист» В. Каверина, вышедший почти одновременно с «Козлиной песнью», трилогией Р. Ивнева «Любовь без любви» (1925), «Открытый дом» (1927) и «Герой романа» (1928). Немного позже романы такого типа были созданы О. Форш («Сумасшедший корабль», 1931) и М. Булгаковым («Театральный роман» 1936—37)»90.
Исследовательница не учитывает только, что повесть-эссе «Тайному другу» (тип огромного «письма с продолжением») была написана в 1929 году, а то, что «Театральный роман» является её развёрткой, пояснять не приходится.
Концепция «театра на сцене жизни» является общей для всех дионисийских мастеров. Хроноустойчивым из них оказался один Булгаков. Он спас идею от промерзания в ледяных волнах Коцита, но: спасся один — значит все спасены. Интеллигентное редко становится популярным; раскинуть крыла на обе культуры удавалось единицам. — Они всегда оказывались представителями братств.
Булгаков сам поименовал в не предназначавшемся для печати тексте своё.]
Итак, явившийся в Москву стой же целью, что заставила его полтора столетия перед тем посетить Кёнигсберг, Дионис-Бафомет-Сатанаил-Дьявол проверяет «атеистов» на психологическую основательность и гностическую аргументированность их позиции. Это не экзамен (смешно!), но лёгкий полуигровой «шмон» по ходу дела. Не привыкшие к противоречию подпевалы режима сталкиваются с Мастером противоречия по определению. Ну и, конечно, даже у того, «над которым нет начальников», кишка оказывается тонка. Теистов Сатана испытывал бы софистически безукоризненным атеизмом, атеистов «глушит» прямо Евангелием. — Всё правильно.
Это Евангелие надо было написать.
В литературном смысле речь шла о высочайшего класса стилизации и имитации новозаветных текстов. В процессе работы выяснилось, что на самом деле всё было совсем по-другому, а убийственная сила спокойных слов иностранного специалиста должна была заключаться именно в их абсолютной — стереоскопической — достоверности, и пришлось погружаться в пучину времени к первоистокам событий с оживлением участников невольных и вольных.
И тут стало до самоочевидности понятно, что Иисуса Христа сыграть нельзя, им надо стать, как бывает не на театре, а в мистериях, — с непредсказуемыми последствиями по жизни, профессии и судьбе. Евангелист не может, закончив Евангелие, начать рассказывать анекдоты в прозе или любовные истории в «романе в стихах». Совершенство — последняя стадия, и она плавно переходит в смерть. Полная гибель всерьёз отличает «мистериальное участие» от актёрской «игры понарошку». [Так происходит с Булгаковским Мольером во время представления «Мнимого больного» — и с мнимостью, тем самым, покончено навсегда.]
Поэтому написать «как бы евангелие» — независимо от красоты текста — оказалось невозможно.
Пришлось готовиться к «полной гибели всерьёз».
[И появляются в черновиках апелляции к Богу. Со знаменитым Христовым: «Впрочем, не как я хочу, а как Ты». А Он захотел — «выжать рубильник до предела». Ибо время пришло. Это и есть Второе Пришествие.
Так и было сделано.]
То есть — пришлось писать Евангелие. — И не что-то иное.
Евангелие итоговое — откровение о Двух Ведомствах, их Главах, Их взаимоотношениях и работе с людьми. Последнее выражение впервые, наконец, напиталось «соком смысла», говоря словами Антуана де Сент-Экзюпери.
К этому Евангелию оказался готовым камертон — визуальный ряд. — Туринская плащаница.
Она — конец савлианского «христианства» и начало Религии Иисуса. — Иисуса живого. Не «распятого за ны».
Ибо нет на земле ны, кто бы этого стоили.
Итак, читатель,
КНИГА БОГА ЖИВОГО
перед тобой.
Войдём же вместе в её светлый храм.
Примечания
1. Подробнее оно излагается в моей книге «Евангелие Третьего Завета» (первый том серии «Фундаментальные тексты Третьего Завета»).
2. Взятое в квадратные скобки является репликами со стороны (принадлежат мне. — ОК)
3. Вот как оформил словом эту розенкрейцерскую сумму Владимир Шмаков: «Бог творит. Сатана очерчивает творение; Бог зиждет. Сатана осуществляет продление форм; Бог уничтожает, Сатана исполняет это уничтожение».
4. Глава «Сон Никанора Ивановича», сцены с Иваном Бездомным в дурдоме и Грибоедове тоже ввинчены в вихрь сатанинского присутствия в Москве, что самоочевидно из текста.
5. Так же как изобретатели Персиков и Ефросимов.
6. Нечто подобное заявлял и масон Горький в письме сыну: «Нет злых людей, есть только озлобленные».
7. Что нашло отражение в «Песнях странствующего подмастерья» Густава Малера.
8. Так называет его Виктор Лосев (см. 49; 5).
9. 7; 508.
10. Редкие исключения: Деревенская симфония и уже упомянутая ария онемевшего Папагено из «Волшебной флейты» Моцарта; симфония «Сюрприз» Гайдна, его же Детская симфония; Кофейная кантата Баха.
11. Яркий пример из МиМ — сцена Коровьева с Босым, рвущимся прямо к «профессору».
12. Ба — душа по-древнеегипетски; один из семи элементов тонкого тела человека.
13. И слово, и понятие были чрезвычайно любимы в орденской литературно-художественной среде. Бетховен на слова Шиллеровой «Оды к радости» создал масонский гимн, ставший визитной карточкой человечества во Вселенной (это очень хорошо понимал Пабло Казальс, а синхронное исполнение финала 9-й симфонии в четырёх городах четырёх континентов во время открытия Олимпийских игр в Японии в 1998 году подтвердило и отчасти реализовало идею великого испанца об одновременном исполнении «Оды к радости» Шиллера-Бетховена всем человечеством).
14. Боевые вороны — устойчивый атрибут бога Одина (Вотана) нордической мифологии. Их имена: Хугин («думающий») и Мунин («помнящий»).
15. 53; 212.
16. 53; 218.
17. 53; 224.
18. Резиденция посла США в Спасопесковском пер. на Арбате.
19. Это вызывалось, кроме всего прочего, и «производственной необходимостью» — Боолен работал над переводом на английский язык «Зойкиной квартиры», под «присмотром» Жуховицкого.
20. М. Крепс. Булгаков и Пастернак как романисты. Анн Арбор: Эрмитаж, 1984.
21. «Я бесил русских. Я делал всё, чтобы отравить им жизнь».
22. Это своего рода повторение астральной формулы ♏ (Свобода), ♎ (Равенство), ♍ (Братство).
23. См. об этом 49; 21 и 7; 492.
24. Цит. по 20; 119. Здесь же и экскурс М.О. Чудаковой по данной теме.
25. Скульптура Антокольского «Христос перед судом народа», как и знаменитая картина Крамского стали главными моделями при создании образа Булгаковского Иешуа.
26. Опыты академика В.П. Казначеева в Новосибирске.
27. Речь идёт об изображении шута-джокера в карточных колодах: горб у придворных шутов обычно бывал накладным.
28. С исправл.
29. Ложь! (фр.)
30. Актер МХАТа, родной брат Ф.А. Степуна — замечательного русского культуролога, философа и эссеиста, высланного за границу.
31. 6; 282.
32. 7; 257.
33. Каверин В. Эпилог. М., 1989 (28; курсив и сокращения мои. — ОК).
34. Итальянский литературовед; одно время работал послом в Москве.
35. «Онегинские баки» не придуманы: по словам Шкловского, в 1918 году он носил баки». — Каверин В. Эпилог; 29.
36. Шкловский и сам писал в автобиографии, опубликованной в 1972 году: «Попал в Киев... В Киеве поступил шофёром в броневой дивизион Скоропадского. Там я засахарил его броневые машины... Об этом написал Булгаков, одним из дальних персонажей романа которого я оказался» (цит. по 72; 93—94).
37. См. 50; 217.
38. «Золотая цепь», как и «Маргарит»: — древний философско-афористический сборник.
39. В свою очередь, Пилат — за Иешуа перед Каиафой, но безрезультатно.
40. 7; 219 и 6; 26.
41. Ср. «Оскорбления являются наградой за мою работу, — ответил раздражённо Азазелло. — слепцы! Но прозревайте скорее!» (6; 278).
42. См. 7; 175—176.
43. Знаменитое выражение из афористики «Бега».
44. Опять — мистически — возраст Иешуа!
45. Вариант «куртка» (22; 500).
46. Из письма П.С. Попову от 13 апреля 1933 года (16; 292).
47. Кржижановский С. Воспоминания о будущем. М., 1989; 9.
48. Отчего «12 стульев» и «Золотой телёнок» — не более чем весёленький ярмарочный лубок. И вот почему Ильф грозился — за вычетом Древних глав — мгновенно опубликовать Роман.
49. См. воспоминания В.М. Молотова в 57; 368. Имеется в виду следующее место из дневника: «Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и... подумал «доколе, Господи!»...» (16; 82).
50. Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990; 12.
51. Имя и фамилия главного героя «Блаженства» — ещё одна фиксация обожаемого Николая Николаевича Ев. Рейн-ова, который-таки «улетел из-под советской власти».
52. См. 55; 66.
53. Бог из машины (лат), «machina» в переносном смысле — «уловка».
54. В этом случае название буквы входит в состав слова целиком.
55. Руководил ложей В.В. Мусин-Пушкин-Брюс.
56. Вспоминается и известный итальянский поэт М. Боярдо (1441—1494), автор поэмы «Влюблённый Роланд».
57. 55; 81.
58. В Египте на основе иератического письма возникла древнееврейская письменность (протосинайское письмо). Самые древние образцы греческого письма в виде туристских надписей на памятниках зафиксированы там же.
59. Россия — наследница Египта по прямой; кроме всего прочего, достаточно назвать города Кемь и Кемерово (где родился пишущий эти строки).
60. Ум — оум — Аум.
61. «Произошло это, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего»» (Мф 2, 15).
62. Вспомним в этой связи, помимо Эко, беллетристику А.Ф. Лосева и Я.Э. Голосовкера, поэзию П.А. Флоренского.
63. Булгаков терпеть не мог велеречивого литературоведения и философского претенциозного «хигроглаголания». Это отразилось в ядовитых «многоумных» названиях статей Феси (цитированных в своё время) и заголовке статьи ненавистного Шполянского «Интуитивное у Гоголя». Возможно, сказалась и ироническая полемика со старым киевским приятелем Сигизмундом Кржижановским, читавшим в Киеве (в «булгаковские» же годы) в консерваторском семинаре Буцкого лекции с аналогичными названиями (см. Кржижановский С. Воспоминания о будущем. М., 1989; 7).
64. Концептуально высказанная характеристика всей эпохи Рыб — эпохи разделения.
65. М.О. Чудакова. Осведомители в доме М.А. Булгакова в середине 1930-х годов. — Седьмые Тыняновские чтения. Рига-Москва, 1995—96.
66. И судьба «драмы для чтения» оказалась плачевна (напоминая этим философский шедевр Лессинга — драму «Натан Мудрый»): сценические воплощения её «несмотрибельны», текст же «малочитабелен», как всякая драматургия. А известные «роман в стихах» и «поэма в прозе» слишком орнаментальны (т. е. структурно раппортны), чтобы считаться романами par exellance. Да и «путешествие Чичикова» — минус деловая озабоченность — versus «путешествие Онегина», так что произведения — в лучших своих частях — ещё и дублетны, как Бобчинский с Добчинским.
67. При категорической нелюбви к поэзии Булгаков мог подразумевать под этим словом только Пушкина.
68. См. 6; 431 (и 7; 157): «Он написал книгу о Иешуа Га-Ноцри».
69. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, статья «Пилат».
70. Цит. по 5; 386.
71. Египет и здесь оказался при своем особом мнении в авангарде понимания ситуации: в коптской (и родственной эфиопской) церкви Пилат канонизирован как святой.
72. Симбирск, 1922. Обратите внимание на абсолютную Достоевскую фамилию автора: просто «второй сапог» к Лямшину!
73. Хотя поначалу Булгаков категоричен: «Короче говоря, роман этот был про молодого Иешуа Га-Ноцри». Это — античевкинское.
74. В более поздней редакции: «По заключению гостя... Стравинский, хотя и гениальный психиатр, но сделал ошибку, приняв рассказы Ивана за бред больного» (7; 298).
75. Эта известная своей неправильностью строка — яркий пример «божественного косноязычия» пророческой речи. Напрашивалась легкая модификация: «Из пламени, света», но Лермонтов не поддался искушению тривиальной упорядоченности.
76. Ср. концептуальное название романа Вс. Иванова «У», действие которого происходит у Храма Христа Спасителя.
77. Пошлые ламентации по поводу «жестокой справедливости» Воланда передёргивают духовную топологию ситуации. См., напр., 59; 31.
78. Фиксировано в подзаголовках повести «Тайному другу» (1929 год).
79. Эпиграф к «Тайному другу»; последние три слова — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 7, L).
80. Откуда название романа К. Вагинова (опубл. в 1927 г).
81. «Дионисовы мастера» — подзаголовок повести «Тайному другу».
82. Газета «Труд» от 10.X.1997, ст. И. Царёва «Возвращение Воланда».
83. Фамилия приятеля это транскрибирует: Ко(зёл)-морской(ий).
84. В связи с Вересаевым напомним его капитальное сочинение «Аполлон и Дионис», М., «Недра», 1924.
85. «Азазел и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками драмы», Л., 1924, Academia.
86. Ржевский Л. Три темы по Достоевскому. «Посев», 1972; 28, разрядка моя — ОК.
87. В карнавальной «разнузданности» Константин Вагенгейм не только нацепил на себя невозможно неприличный псевдоним, но и проакцентировал его в наименовании автопортретного персонажа Кости Ротикова, несмотря на то, что в Ленинграде жило реальное лицо с такими паспортными данными. В поэте Заэвфратском прозрачно зашифрована фамилия Серёжи Заяицкого, хотя контаминатами являются переводчик И.А. Лихачев и Н. Гумилев Миша Котиков «экранирован» фигурой П.Н. Лукницкого, специалиста по Гумилеву. Лукавая многослойность подразумеваний принципиальна для стилистики Вагинова. — Горе луковое! — К добру это не привело.
88. Подразумевается журнал «Аполлон».
89. В «Козлиной песне» «дионисийский папаша» тоже не миновал фиксации; он изображён в виде учёного-эрудита Тептелкина, пишущего трактат «Иерархия смыслов». В его высокой деревянной башне-даче в Петергофе собирается для бесед «о возвышенном» кружок учеников и единомышленников. Послуживший «натурщиком» литературовед Л.В. Пумпянский (1891—1940) даже опрометчиво обиделся на Вагинова после публикации романа.
90. Вагинов К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бумбочада. М., 1989; 12—13.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |