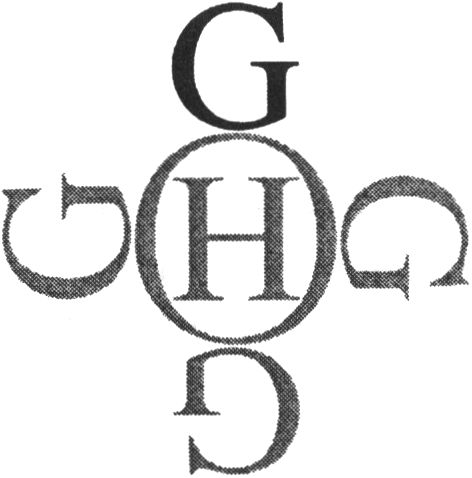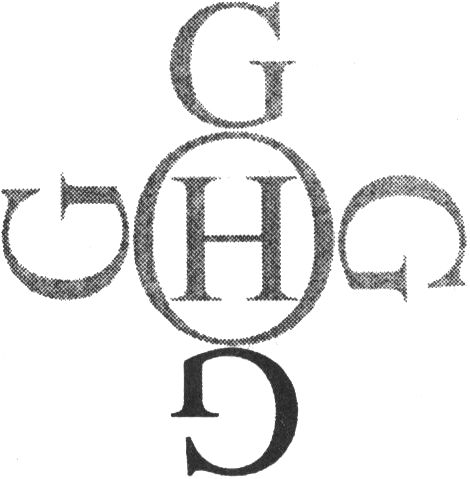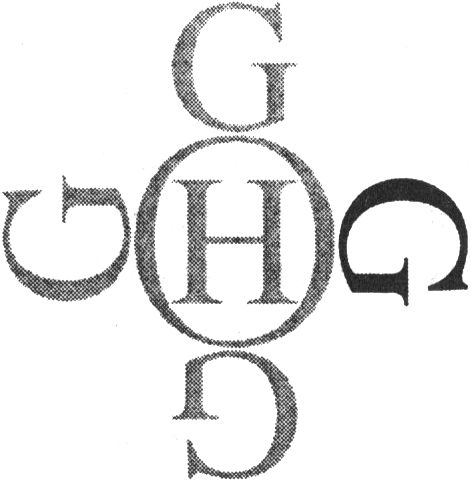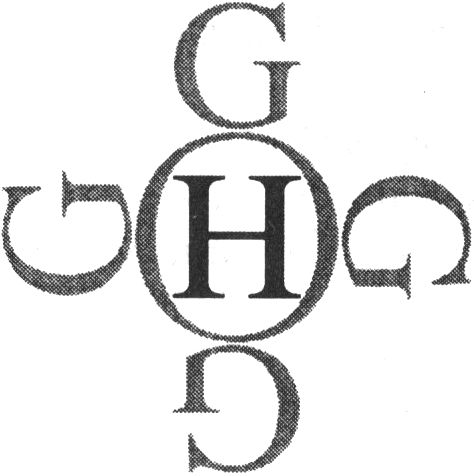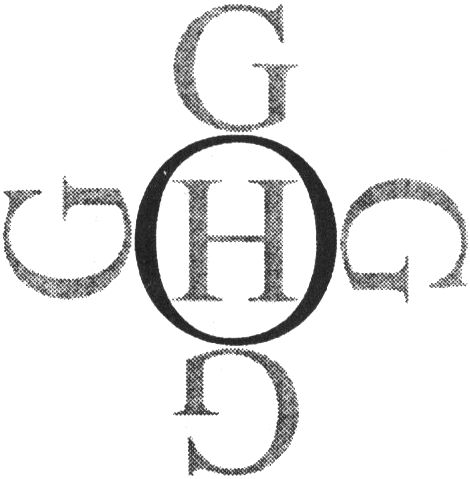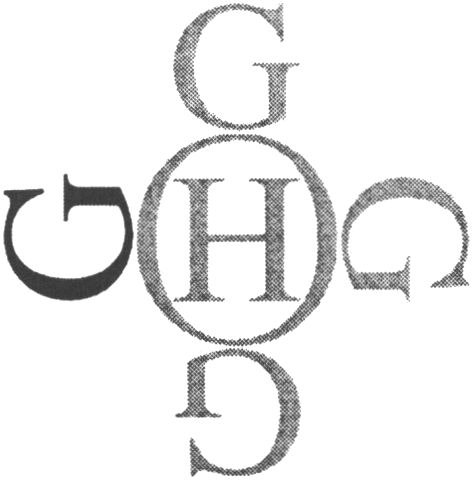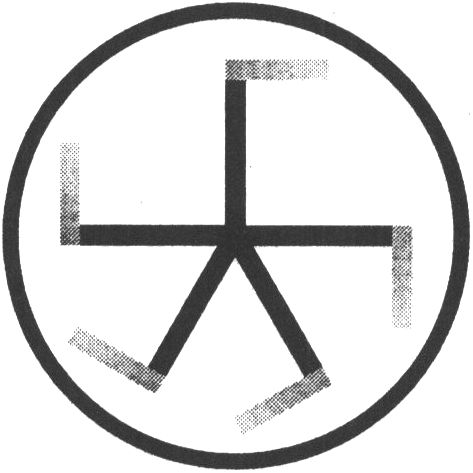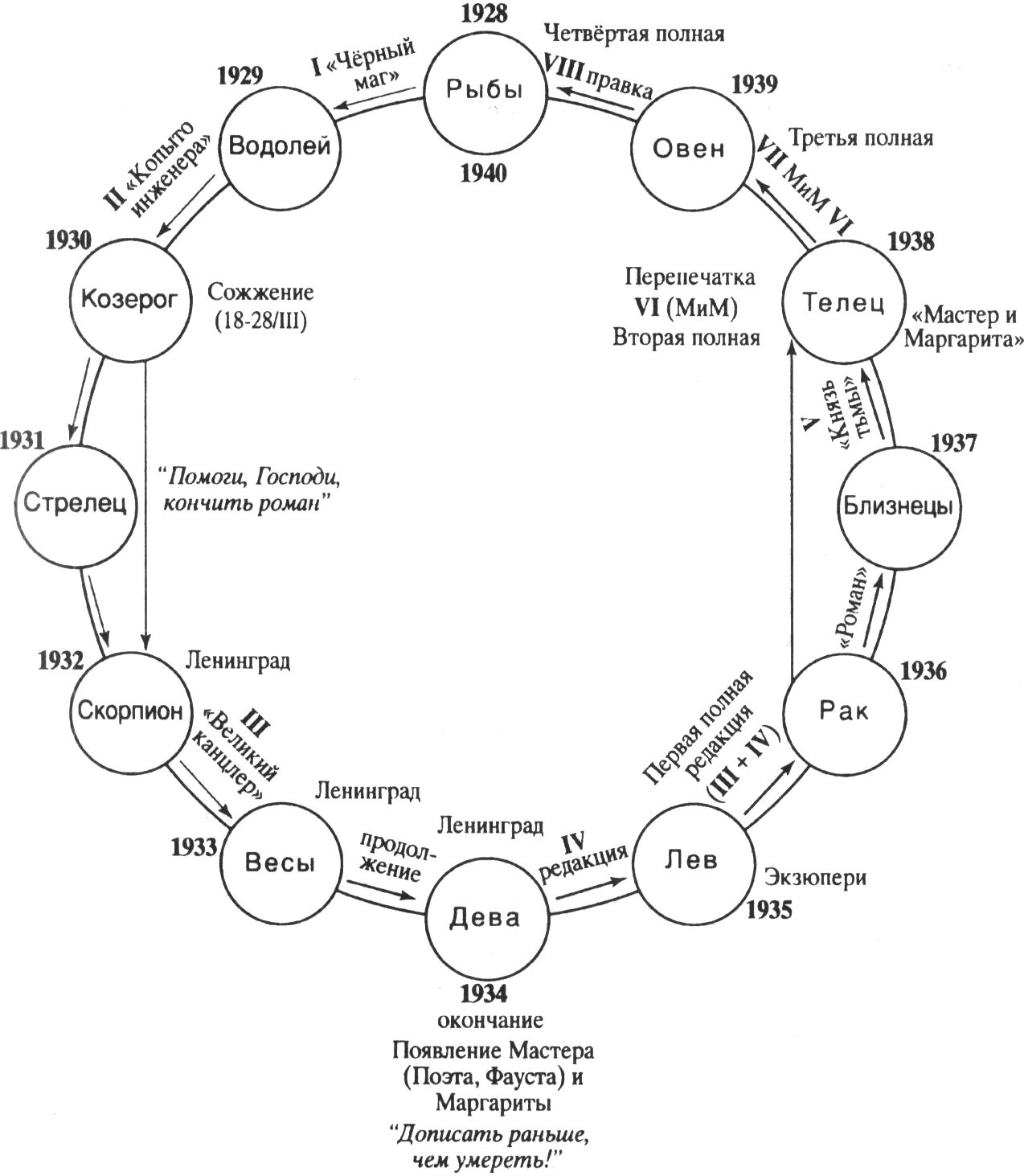У истоков Булгакова как писателя мерцает странная символическая фигура. Она образована суммой инициалов выдающихся мистериологов конца XVIII — начала XIX века. Первой среди равных — ибо это рыцарский круг — стоит начальная буква фамилии великого Гёте, кто созданием эпического по размаху «Фауста» выскочил за рамки локального немецкого литератора и по праву вошёл в плеяду теургов фундаментальной мировой мифологии. Освальд Шпенглер, присвоивший европейской культуре название «Фаустовской», имел в виду не приятеля Гуттенберга Иоганна Фауста, судьба которого стала основой народной «Книги о Фаусте», а именно Гётевского героя.
Фауст — устойчивое фа, базисная, срединная нота европейского звукоряда, фа уст мифологии мира. Балансирующий на пограничье средневековья и эпохи Возрождения, он сконцентрировал в себе сумму гностических разработок полутора тысяч лет нашей эры, когда аборигенское сознание, оплодотворённое живым присутствием на земле Планетарного Логоса, с одной стороны, стало бурно развиваться и активно модифицироваться, с другой, находясь под «чёрной звездой преступления» — распятия самой Истины1 — не смогло к мощным ментальным наработкам подстроить соответствующее душевное совершенство. Филистер в колпаке учёного — вот главное «родимое пятно» европейской духовной панорамы времени «подведения итогов». Эгоистические аборигенские поползновения, оснащённые всей мощью трансцендирующей науки, — таков трагедийный пафос фаустовской структуры человека. Духи, хлопочущие, как сводни, по устройству любовных свиданий, — это, конечно, катастрофический карнавал трагифарсовости. «Уж не пародия ли он?» — так Пушкин заклеймил-закалибровал своего известного героя (того самого, с баками). В отличие от Востока, где аборигенство успокаивается в нирваническом аутизме, европейский активизм оборачивается суетой вокруг своего душевного ничтожества, не обеспеченного даже элементарным благородством.
Рыцари — суть редкоземельное исключение из правил, судорожные потуги жить не как все, соскальзывая в маргинальность по отношению к жирующему в довольстве собой бюргерству. Поэтому фаустиана — это оборотная сторона орденской медали средневековья. Господинчик, до мозга костей «рождённый ползать», небрежно садящийся в самолёт, — вот квинтэссенция парадоксальной реальности европейской культуры, ставшей её парадигмой. Как известно, Фауст из Булгаковского мистериального полотна постепенно исчезает, превращаясь в Фагота. Фанфаронство фанаберии, неважно чем и как обставляемое, является general line, можно даже сказать константой, основанной Константином христианской империи. То, что внутри этой структуры принципиально не может находиться Царство Христа, я думаю, не требует доказательств. Натыкав церквей по всему пространству от Уральских гор до Атлантики, местный абориген отнюдь не сделал европейский пейзаж более похожим на Царство Божие. Коли так, на земле приостановилась выработка Человека Совершенного — единственного типа гоминида, адекватного задачам земной цивилизации. Пробуксовка распространения культуры по параметру широты (распахнутые в благословляющем жесте руки Христа) и есть гностический мотив замысла Булгакова.
Опрокинутое G эзотерического знака-ключа — это первая буква фамилии озвучившего Гётевскую мистерию Шарля Гуно. Он не был первым прикоснувшимся к этой «золотой жиле». Деятели европейской культуры откликнулись на публикацию Гётевской монументальной драмы целым морем вариаций, подражаний и переложений. Гениальную музыкальную фреску «Осуждение Фауста» создал небезызвестный «однофамилец Миши Берлиоза»; написали симфонические поэмы Вагнер и Лист. Но скромный французский композитор «второй руки» вложил в свою знаменитую оперу всю мощь недюжинного мелодизма. По существу, перед нами цепь известнейших арий для мужских и женских голосов и включённый в тело оперы великолепный балет-пантомима «Вальпургиева ночь». Мелодическая пронзительность, почти шлягерность, сделали создание Гуно невероятно широко затребованным в культурной жизни последних полутора столетий. Это и привлекло внимание Булгакова — сначала как восторженного слушателя великого Шаляпина-Мефистофеля (сходство киевского мистика со знаменитым басом отмечалось многими близко знавшими его людьми, что имеет особое значение), позже как зрелого мастера, старающегося достичь того же эффекта в своём итоговом произведении. Он весь был пронизан магическими токами мелодики Гуно. Клавирная партитура оперы сопровождала быт и наполняла бытие обитателей дома на Андреевском спуске.
«Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где чёрные нотные закорючки идут густым чёрным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поёт:
Я за сестру тебя молю,
Сжалься, о, сжалься ты над ней!
Ты охрани её!
Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг чёрные аккорды и истрёпанные страницы вечного Фауста. Эх, эх... не придётся больше услышать Тальбергу каватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Всё же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст... — совершенно бессмертен» (45; 33—34).
Татьяна Лаппа вспоминала: «Больше же всего любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской» и ариозо Валентина «Я за сестру тебя молю...»» (3; 47). Рассказ Катаева о подобном пении мы уже слышали.
Оперная привязка Булгакова при создании МиМ была настолько велика, что даже в костюмах, аксессуарах и гриме, физиогномической характеристике Воланда и его свиты он пользуется соответствующими сценическими наработками Шаляпина. В свою очередь, Шаляпин заимствует материал для своих актёрских решений из триптиха «Фауст», «Маргарита», «Мефистофель» и примыкающего к нему панно «Фауст и Мефистофель: полёт на конях» М.А. Врубеля. Романтический «Демон» и саркастический «Мефистофель» — две стороны «сатанической поэмы» великого русского живописца. Фальшивым оказывается на поверку именно романтический аверс, изначальная ошибка в постулировании которого привела Лермонтова под пулю, а Врубеля в сумасшедший дом. Нет большего оскорбления Богу, чем привечание маски-пугала архангела Сатанаила в качестве его подлинного лика. На этом основан грешный идиотизм «сатанизма». Как и ещё более чудовищное по своей нелепости представление его в качестве какого-то фантастического «противобога».
Гуно с юности носился с идеей написать оперу на сюжет Гётевского шедевра. И только накопив целую гору подготовительных эскизов, «земную жизнь пройдя до половины», приступил к воплощению замысла. Получившееся в результате кропотливой работы грандиозное сценическое полотно, требовавшее для исполнения как минимум двух вечеров, вступило в противоречие с обязательным для лирической оперы принципом компактности, что и повлекло за собой неминуемые сокращения превосходного музыкального материала. Обалдуи-рецензенты всё равно упрекали Гуно в преобладании оркестрового начала над вокальным и в «чрезмерной учёности» музыки.
Однако вот мнение критика д'Ортига, постигшего глубины эпического полотна: «Опера «Фауст» это творение мастера. Я всегда возвращаюсь к сцене в саду. Это восхитительная страница. Если бы он написал только одну эту сцену, то уже показал бы себя мастером. Гуно обладает редким даром писать как человек, который ко всему своему вдохновению, определяющему большого музыканта, присоединяет качества образованного человека»2. Ему вторил русский критик Ларош, характеризовавший творчество Гуно как сочетание учёного и общедоступного3.
И то — что для филистеров чрезмерно, интеллигенции в самый раз.
Не имея большого успеха на премьере, опера, однако, за несколько лет завоевала сердца европейцев, среди них были такие высокие профессионалы и знатоки, как П.И. Чайковский, оставшийся верным поклонником Гуно на всю жизнь.
Булгаков, ценивший обе Пушкинские оперы Чайковского, — «Онегина» за демонизм главного героя, «Пиковую даму» за сен-жерменский мистицизм — был абсолютно солидарен с их автором в оценке творчества французского композитора. А подсказанные Волошиным эзотерические характеристики Князя тьмы имели ближайшим предшествием образ, созданный в гениальной опере. «Мефистофель Гуно — это не столько дух тьмы, сколько обличитель людских пороков. Кстати, лучшие исполнители партии Мефистофеля на русской сцене, среди которых, прежде всего, нужно вспомнить Шаляпина, понимали подлинную сущность этого образа»4.
Уже в юные годы Булгаков относился к «Фаусту» далеко не по-дилетантски. Его сестра вспоминает: «У Михаила Афанасьевича был мягкий красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него, гимназиста, стояла фотографическая карточка артиста Киевской оперы Льва Сибирякова — с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть: «Мечты иногда претворяются в действительность»»(8; 59).
Победил всё-таки писатель и драматург: волшебный фонарь умозрения помог увидеть и зафиксировать воображаемые картинки.
«И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же её описать?
А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. <...> Я вижу вечер, горит лампа; бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вот он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу — напевает. Пишу: «напевает».
Да это, оказывается, прелестная игра!.. Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу третьей я понял, что сочиняю пьесу».
К. Паустовский, приводя этот отрывок в своих воспоминаниях о Булгакове, восхищается точностью, с какой писатель воссоздаёт процесс своей работы. И далее завершает по собственным наблюдениям: «Глядя на сыплющийся снег, он говорил, ...что можно мысленно охватить взглядом огромные пространства, что литература призвана делать это во времени и пространстве и что нет в мире ничего более покоряющего, чем литература».
Вспоминая киевскую юность, Паустовский пишет: «Приход Булгакова к театру был естественным и закономерным. Иначе и быть не могло. Потому что Булгаков был не только большим писателем, но и большим актёром. <...>
Любовь к театральному зрелищу, к хорошей актёрской игре была у Булгакова так сильна, что, по его собственному признанию, от великолепной игры у него «от наслаждения выступал на лбу мелкий пот».
От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выгрывался» в своего героя, щедро прибавляя ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда буквально — умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его, как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него.
Эта способность к перевоплощению и сила видения были характерными чертами Булгакова. Сила видения своего вымышленного мира и привела Булгакова к драматургии, к театру» (8; 99—103).
Так, стоило прозвучать нескольким тактам из великой оперы...
«В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясён. Внизу было пианино, но давно уже никто на нём не играл. Мрачные звуки достигли ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки, и смотрел в ад. Отчаянье моё было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервётся наконец.
В голове возникали образы: к отчаянному Фаусту пришёл дьявол, ко мне же не придёт никто. <...>
В дверь постучали. <...>
Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул сурово:
— Войдите! Кто там?»
Так кончается пятая глава записок «Тайному другу». Далее происходит следующее:
«VI. При шпаге я!
Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал дьявол. Сын гибели, однако, преобразился. От обычного его наряда остался только чёрный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушьего пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую калошу.
Я, дрожа от страху, смотрел на гостя. Зубы мои стучали. <...>
— А знаете ли, я до вашего прихода за минуту... гм... слышите, Фауста играют...
— Слышу!
Помолчали. <...>
— Графу Толстому подражаете, — заметил чёрт и похлопал пальцем по тетради. <...>
Сурово сверкая стёклами пенсне, он сказал гробовым голосом:
— Роман ваш никто не напечатает. <...> И я вам не советую его даже носить никуда. <...>
— Есть только один человек на свете, который его может напечатать, — продолжал Рудольф, — и этот человек я!
Холод прошёл под сердцем у меня, и я прислушался, но звуков Фауста более не слыхал, дом уже спал» (16; 607—610).
В унылый керосиновый ад задрипанного жития Булгаковского героя Мефистофель является, прежде всего, как рыцарь — недаром таинственное название главы никак не раскрыто в тексте. Значит, оно отсылает к оригиналу Гёте-Гуно, подразумевая их классическую общеизвестность. Но все ли на самом деле помнят этот доминирующий рыцарский мотив «Фауста»?
Избраннице-Маргарите предоставляются на выбор в знаменитой, и центральной по смыслу, сцене в саду букет Зибеля и ящичек (Мефистофеля) Фауста. Маргарита, не то в силу простоты забывая, не то в силу непростительного невежества не ведая о концептуальной мифологеме «ящичек Пандоры», как дура хватается, конечно, за соблазнительный ларец. — И всё, конец. «Что вижу я! Алмазы, жемчуг здесь!..» — в восхищенье (в ад) восклицает она. Конечно, вынимает; естественно, надевает. Само собой, в искусительном комплекте нашлось и зеркало — не то, ангелическое. смотря в которое, человек созерцает весь мир, а то, демоническое, глядя в которое, человек любуется своей физиономией. «Ну как в него не поглядеться?» — напевает и пританцовывает в вальсе5 Маргарита, оказавшаяся не «драгоценностью» (согласно имени), а обычной фефёлой. Тут же следует «поздравление с восьмым марта»: «В сад входит соседка Маргариты, Марта. Она уверяет девушку в том, что все эти драгоценности принадлежат Маргарите по праву. Нет сомнения, что это — подарок какого-нибудь влюблённого рыцаря.
А вот и рыцарь.
Появляется Фауст в сопровождении Мефистофеля»6.
Оба при шпагах. От одной из этих шпаг в конце концов гибнет Валентин. Так что шпага как образ тонкого луча трансцендентного взрывает и разрушает уют мещанского мира. Причём господин зла в «случае Гёте» получает от этого неравного поединка какое-то сладострастное удовольствие; и то, что торжество это является ядовитой пародией на успех в равном рыцарском соревновании, не вызывает сомнений. Радоваться победе, когда жизнь его защищена колдовскими чарами до полной неуязвимости, может только ничтожество. Жалкий псевдорыцарь, «положивший глаз» на ещё более бездарную псевдодаму («даму секса») — таков безрадостный итог-фон для сатанинского смеха Гётевского духа тьмы. Князь мира сего оказывается в «Фаусте» властителем жалкого и пошлого королевства.
Ко времени подключения Булгакова к духовной работе прошло более ста лет с момента создания первотекста и семьдесят лет со дня написания и постановки оперы. Только профаны считают, что фундаментальные понятия тонкоматериальной структуры мира остаются мертвы и незыблемы. Что нового после написания книг Нового Завета можно сказать о Боге, Христе и дьяволе? — Ничего, — бестрепетно отвечает культ, превратив несколько историко-литературных текстов в канон и догму (предварительно подвергнув эти «священные» и «боговдохновенные» тексты безжалостной и циничной редактуре политиканов в рясах), а все четыре Евангелия — в подробное описание казни Иисуса из Назарета с небольшим для проформы вступлением, спокойно выкинув драгоценные сведения о восемнадцати лучших (ибо это было время становления и зрелости) годах жизни на земле Господина Солнечной Системы. Они извратили до неузнаваемости основную идею прихода Планетарного Логоса на Землю: помочь людям пройти «узкое место» человеческой истории, а именно, покончить навсегда с рабством людей и убийством животных. Они по-звериному решили, что овцы и коровы созданы им в пищу (спутав Бога Отца с хищным водителем иудейского племени Иеговой), а Христос пришёл «взять на Себя наши грехи» и быть распятым за ны, почему-то тем самым облегчив нашу участь (ещё бы, хорошо охламонам за чужой-то счёт), а не утопив окончательно в крови этого убийства. — Кошмарная логика людоедов! и более — аватародавов!! Отсюда — ацтекская патетика «священномук» и человеческих жертв в первохристианских общинах. Как будто надмирному Христу бывает приятен вид их выколотых глаз и выпущенных кишок. Безусловно, это модернизированный кровожадный иеговизм, а никакое не христианство. Что наглядно и продемонстрировано в фреске Микельанджело «Страшный суд», где куча «святых» с искажёнными физиономиями тычут в лицо Планетарному Логосу орудия своих пыток. Происходящее нелепо со стороны тех, кто своей бестрепетной рукой «ничтоже сумняшеся» перерезал горло кротким агнцам. Чего же визжать-то, когда закон причин и следствий в силу своей божественной природы в конце концов коснулся и их? — Подобное вызывает подобное, не более того.
Итак, Бог с ними, с деталями, — в области фундаментального особенно требовалась кардинальная гностическая коррекция.
В связи с этим сын профессора Киевской духовной академии «записался» аж в атеисты, имея в виду противостояние лживому официозному культу. В этом смысле он был более сыном и учеником Василия Ильича Экземплярского, уволенного из академии за благоприятный отзыв о Льве Толстом, чем просто сыном Афанасия Ивановича Булгакова, автора ретроградного и ортодоксального сочинения о масонах. Это и неудивительно. Современница называла В.И. Экземплярского «самым умным и самым изумительным человеком», какого она встречала в своей жизни (22; 34). В области антиканонического творчества у автора МиМ был достойный учитель. Булгаков того времени, по воспоминаниям, «любил всякую чертовщину. Спиритические сеансы. Рассказывал всякие чудасии...» (22; 26—37).
В силу искажённой структуры культа присутствие Бога в культуре гораздо сильнее, а главное — чище по фиксации. Булгаков это понял «от младых ногтей». «Влияние Миши на моих братьев сказалось прежде всего в том, что мои братья, которые учились тогда в духовной семинарии, стали готовиться к поступлению в институт»... «Саша говорил, что по светской дороге они пошли под влиянием Миши... Он их ввёл, так сказать в светскую жизнь — заставил полюбить всё это» (22; 38).
И здесь отнюдь не «противление злу Василием»7. Подлинная мистическая жизнь, абсолютно отсутствующая в омертвелом культе, «бурлила, кипела и пенилась» в живом теле культуры. Особенно — культуры духовной. Благодаря этому авторитетный герой хроники «Тайному другу» входит в самую толщу мистического бытия вовсе не через кладбищенские врата унылого христианства.
В «Театральном романе» Булгаков настойчиво повторяет свою скетчевую демонологию, усиливая её до эпического звучания:
«Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку. В это же время снизу послышались очень знакомые мне звуки, сипло заиграл оркестр, и тенор в граммофоне запел:
Но мне Бог возвратит ли всё?!
«Батюшки! «Фауст» — подумал я. — Ну, уже это, действительно, вовремя. Однако подожду выхода Мефистофеля. В последний раз. Больше никогда не услышу».
Оркестр то пропадал под полом, то появлялся, но тенор кричал всё громче:
Проклинаю я жизнь, веру и все науки!
«Сейчас, сейчас, — думал я, — но как быстро он поёт...»
Тенор крикнул отчаянно, затем грохнул оркестр.
Дрожащий палец лёг на собачку, и в это мгновение грохот оглушил меня, сердце куда-то провалилось, мне показалось, что пламя вылетело из керосинки в потолок, я уронил револьвер.
Тут грохот повторился. Снизу донёсся тяжкий басовый голос:
— Вот и я!
Я повернулся к двери.
Глава 4.
При шпаге я.
В дверь постучали. Властно и повторно. Я сунул револьвер в карман брюк и слабо крикнул:
— Войдите!
Дверь распахнулась, и я окоченел на полу от ужаса. Это был он, вне всяких сомнений. В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и размётанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие чёрной бороды. Берет был заломлен на ухо. Пера, правда, не было.
Короче говоря, передо мною стоял Мефистофель. Тут я разглядел, что он в пальто и блестящих глубоких калошах, а под мышкою держит портфель. «Это естественно, — помыслил я, — не может он в ином виде пройти по Москве в двадцатом веке».
— Рудольфи, — сказал злой дух тенором, а не басом» (45; 284—285).
Копыто откинуто, но добавлен оркестр. Рыжий, рудый по сути, хотя и иссиня-черный по масти бровей, бороды и волос, он исполняет ту же функцию, что и огненно-рыжий Азазелло в МиМ. Его стихия — огонь, и завывания его баса-профундо сменяются теноровыми потрескиваниями пожираемых предметов, при том что тон остаётся абсолютно ледяным, хотя настойчивость в достижении поставленной цели — сверхъестественной.
«Надо будет вычеркнуть три слова — на странице первой, семьдесят первой и триста второй.
Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было «Апокалипсис», второе — «архангелы» и третье — «дьявол». Я их покорно вычеркнул...» (45; 287).
Никакого «сатанизма» в стиле религиозных кликуш. Дьявол и архангелы выступают на равных.
Обратите внимание, что «дьявольское число» 302 становится в МиМ ещё более прозрачным по смыслу «домом 302-бис». Однако реальную адресность, правда, с невосстановленной графикой имеет только «слово с первой страницы».
Таким образом, абсолютно антисоветский текст, принадлежащий человеку, который «даже не рядился в цвета попутчиков», определяется «в печать и свет», хотя и на таких грабительских условиях, что никто не посмел бы счесть это игрой в поддавки или поощрением любимчика. Собачка на пистолете — это вам не Каштанка и не Белый пудель и даже не Му-му бессловесная; если за произведение ставка — жизнь, то «здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба». Да и Мефистофель — не ярмарочный чёртик, а соединение двух серьёзных слов: Метафизика и Аристотель8. Поэтому он и острит сардонически: я — часть той силы, что вечно желает зла, а совершает благо. Это для кого благо-то? Для Валентина, сглотавшего потрохами сталь, или для Маргариты, наложившей на себя руки?.. — Для Бога и божьей Природы, помогая им совершенствовать тип Человека Разумного, как суровые условия существования помогают биологически совершенствовать вид. Экзаменаторский статус шаляпинского героя и Гёте, и Гуно понимали достаточно отчётливо. Не бойтовский ли свист9 потряс основы российской государственности, приведши к падению в одночасье бутафорских её институтов в феврале 1917? Чистка — это не «подбривание бачков», она часто бывает с кровью. А главное, она абсолютно серьёзна, в отличие от макияжных прикрас. Вызывание чёрта — слишком ответственная вещь, чтобы оставаться только литературой. Чёрт Ивана Карамазова, чёрт Адриана Леверкюна10 и чёрт Сергея Максудова — это одна и та же реальность, а не разноголосица литераторской мультикулёрности. Такого рода «пейзаж» открывается только со стороны мистики, а кто в ней в XX веке достаточно компетентен, кроме манифестировавшего это своё качество Булгакова?
Правое G суммарной монограммы принадлежит фамилии великого Гойи. Современник Бетховена и Гёте, Гойя остался практически неведом жившим с ним одновременно многочисленным европейским романтикам, и лишь по очевидной связи «Фантастической симфонии» Берлиоза с Гойевским графическим циклом «Капричос» мы помятуем об их прямом идеологическом родстве. Мрачный католический абсолютизм Испании второй половины XVIII века препятствовал её разносторонним контактам с европейскими державами эпохи Просвещения. В Испании не было своего Петра, своего Фридриха, своего Наполеона. Ещё догорали костры инквизиции (это нашло отражение в сюжетах Гойевских произведений); мракобесие и обскурантизм дотанцовывали свою пляску смерти на человеческих костях; чудовищный патологизм бытия позволял почти не напрягать воображения и фантазии для достижения выразительности в творчестве. В «Фресках Дома глухого» карикатура обретает монументальный размах и эпическую выразительность, порождая новый жанр в искусстве — супергротеск. Гоголь в «Мёртвых душах» и Достоевский в «Бесах» подхватывают огненно-инфернальную стилистику великого испанца, и с тех пор «свиные рыла» становятся обычным предметом изображения в картинных галереях, партитурах симфоний и романных полотнах. Сцена на берегу Днепра из МиМ с неким таинственным «Козлоногим» — это и «Шабаш ведьм» Гойи, озвученный симфонической поэмой Мусоргского «Ночь на Лысой горе», и лукавая страшилка в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». У Гойи нет ничего на тему бессмертного шедевра Сервантеса, но его достойный продолжатель и единомышленник Оноре Домье проиллюстрировал «Дон Кихота», причём полотнами в масле.
Безусловно, Булгаков вспоминал их, работая над своей сценической версией романа Сервантеса. Можно не сомневаться, что визуальной картинкой к «фантастической симфонии» Миши Берлиоза служили «Фрески Дома глухого» и особенно гениальный «Сатурн, пожирающий своих детей». Несомненна также пластическая параллель массолитовских танцев и трагикомических похорон Берлиоза с полотнами «Шествий» из Гойевского монументального цикла.
Всё за пределами Иерусалимских глав решено Булгаковым в стиле гойеска. Кроме того, антиинквизиторский пафос не оставлял автора МиМ всю жизнь, начиная от раннего репортажа о зверствах чекистов в захваченном ненадолго Киеве и кончая «Сном Никанора Ивановича» в МиМ. К Гойе восходят и все полётные эпизоды Романа, а Наташа на борове Николае Ивановиче — абсолютно адекватное воплощение Гойевской образности в литературе.
От великого испанца ведут начало и антиклерикальные мотивы в творчестве Булгакова. Так, в продолжении сна Алексея Турбина из «Белой гвардии» есть такой диалог вахмистра Жилина с Господом Богом: ««Попы-то», — я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы»» (45; 72, курсив мой. — О.К.).
По-гойевски гротесково решён у Булгакова и палиндромный срам-Марс. Из диалога Жилина с Богом: «...Как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.
«Ну, не верят?» — спрашивает.
«Истинный Бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу такие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он говорит:
«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймёт»» (45; 71—72, курсив мой. — О.К.).
Созданный в народно-сказовой манере образ Божества невероятно высок: ни одна из существующих конфессий, имеющая каждая своего бога, который только за своих и всегда против чужих, — ни одна из них не признала бы такого Бога предметом своего культового ублажения. Существо, привечающее «моих» лютых врагов — враг! — И никакие благодеяния в «мою» сторону, исходящие от Него, — не извинительны!
По этой причине культ всегда этничен, а священство, суетящееся по «спецзаданию» выявления своих и чужих, всегда обслуживает клановые интересы. А на Бога собственно — им наплевать.
««Да, говорю, уволь ты их, Господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»
«Жалко, Жилин, вот в чём штука-то», — говорит» (45; 72).
Т. е. жалко дураков зарвавшихся и завравшихся; снять с них мишуру карнавальную да взять как следует за филей — и перед нами обычная и ничтожная «тварь дрожащая».
Гойя не так отходчив. Насмотревшись на зверства инквизиторов, нанюхавшись запаха палёного человеческого мяса, он — непримирим, и ему не жалко.
К образу Христа он обращался редко, но каждый раз Иисус на его полотнах — один из тех, кого гонят на костёр палачи в сутанах. В тотальной битве добра и зла Христу на земле уготована только роль мученика. Иешуа гибнет за своё «криминальное» ВСЕ.
На то Он и Планетарный Логос, чтобы говорить с высоты положения это убойное на земле слово ВСЕ. Какое наслаждение получил оглохший от страданий Франсиско, читая в эмпиреях Булгаковский великий Роман! Роман, который ему подсунул, растолкав из глубокой задумчивости, нежный паж с золотыми усами — сами поняли, кот Бегемот.
Кстати, физиогномика, человеческая стать Воландовской свиты полностью заимствована из Гойевской монументальной сюиты, а такой эпизод, как закручивание Коровьева перед тем как свистнуть, пластически представлен только на офортах Гойи.
Известный лист графической сюиты «Капричос» изображает спящего на углу стола усталого художника, даже скорее литератора, так как Гойя выступал здесь и в этом качестве, снабдив каждую гравюру довольно пространными текстовыми пояснениями. Офорт имеет подзаголовок: «Сон разума порождает чудовищ»; несмотря на явную автопортретность, в роли героя легко представимы Гектор Берлиоз и Эрнест Теодор Амадей Гофман. О Берлиозе было уже довольно сказано, теперь о Гофмане.
Имя знаменитого немецкого романтика в мистической развёртке Булгаковской биографии возникает не случайно. Здесь, конечно, и уже появлявшееся во всей своей красе словечко «гофманиада», которым деликатно определяли чудовищный сюрреализм советской жизни. Здесь и (за счёт владения Гофманом двумя профессиями — дарами небес, композитора и литератора) неслыханное по объёму введение музыкального тематизма в литературную ткань. Есть и вторая сторона. «Никто другой из немецких романтиков не создал такого убийственного паноптикума филистерского ничтожества, какой разворачивается перед нами в гофмановском собрании сочинений» (46;9). Мало того. «Как никто другой из его поколения умел он обнажить ночные стороны человеческого бытия, показать, как вторгается волшебство в земной мир» (46; 17).
Поразительно, что детские забавы будущего великого немецкого литератора как две капли воды были подобны булгаковским.
«Когда погода позволяла играть в саду, игры мальчиков делались всё более фантастичными. Всё время отнимали рыцарские поединки. Щиты для них заимствовались, их приходилось с трудом снимать, а затем с ещё большим тщанием водружать на место, чтобы дядя не заметил коварных царапин, свидетелей сражений у деревянных Марса и Минервы, украшавших середину сада. В моде были рыцарские романы, и бесстрашные турниры происходили возле кустов крыжовника, где юные рыцари из-за отсутствия коней сражались в пешем строю. Турниры обычно заканчивались тем, что Гофман, сражённый копьём противника (крепкой подпоркой для фасоли), валился навзничь. Рыцарские игры сменила мирная, но не менее романтическая затея. У друзей возник смелый план прорыть подземный ход11...» (46; 37).
Стараниями пречистенцев Гофман активно издавался в 20—30-е годы. В издательстве Academia вышли повести «Крошка Цахес», «Повелитель блох» и переводная его биография12. Это не могло пройти мимо внимания Булгакова, чья связь с гениальным романтиком для многих, в том числе и для него самого, была самоочевидна.
Каково же было радостное удивление Булгакова, когда в годы наилютейшего прессинга в майском номере «Литературной учёбы» за 1938 год (в это время дорабатывался и перепечатывался окончательный вариант МиМ) ему попалась на глаза статья И.В. Миримского13 «Социальная фантастика Гофмана», которая произвела на него ошеломляющее впечатление. Он писал об этом жене (6—7.VIII.1938): «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу её для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!» (2; 456)
В сохранившемся экземпляре журнала, принадлежавшем Булгакову, множество помет и подчёркиваний. «Очевидно, он нашёл много родственного в принципах творчества с выдающимся немецким писателем. Привлекло его в статье, прежде всего, то обстоятельство, что Гофман не был понят и оценён отечественной критикой. (По знаменитому принципу «Нет пророка в своём отечестве...» — ОК) Булгаков подчеркнул, например, следующие строки о Гофмане: «Крейслер14 руководствовался совершенно иллюзорной задачей: он, по-видимому, тщетно искал такой пристани, где мог бы, наконец, обрести спокойствие и ясность, без которых художник не в состоянии творить»; «По неосуществлённому замыслу Гофмана, Крейслер должен кончить безумием, но не отказом от своего романтического символа веры, не примирением»; «Гофман осваивает романтическую иронию, но освобождает её от философичности, он превращает её в сатиру, обращённую непосредственно против действительности»; «...Цитируются с научной серьёзностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонологов, которых сам Гофман знал только понаслышке»».15
«Стиль Гофмана можно определить как реальнофантастический. Сочетание реального с фантастическим, вымышленного с действительным...»
«...Если гений заключает мир с действительностью, то это приводит его в болото филистерства, «честного» чиновничьего образа мыслей; если же он не сдаётся действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием».
«Смех Гофмана отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора сострадания до озлобленной разрушительной сатиры, от безобидного шаржа до цинически уродливого гротеска» (2; 456).
«От иенской школы романтизма Гофман унаследовал её основную тему: искусство и его судьба в буржуазном обществе. ...Шаг за шагом отвлечённый субъективно-эстетический протест в творчестве Гофмана вырастает в бунт социального напряжения, ставящий Гофмана в оппозицию ко всему политическому правопорядку Германии» (7; 19).
А вот живой рассказ Сергея Ермолинского об этом событии.
«Однажды он пришёл ко мне и торжественно объявил:
— Написали! Понимаешь, написали!
И издали показал мне номер журнала, одна из статей которого в ряде мест была им густо подчёркнута красным и синим карандашом.
— «Широкая публика его охотно читала, но высшие критики относительно него хранили надменное молчание», — цитировал Булгаков и, перебрасываясь от одной выдержки к другой, продолжал: — «К его имени прикрепляются и получают хождение прозвания, вроде спирит, визионер и, наконец, просто сумасшедший... Но он обладал необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков. На первый взгляд его творческая система кажется необычайно противоречивой, характер образов колеблется от чудовищного гротеска до нормы реалистического обобщения. У него чёрт разгуливает по улицам города...» — Тут Булгаков даже руки потёр от восторга: — Вот это критик! Словно он читал мой роман! Ты не находишь? — И продолжал: — «Он превращает искусство в боевую вышку, с которой, как художник, творит сатирическую расправу над всем уродливым в действительности...»
Булгаков читал, незначительно меняя текст.
Это была статья И. Миримского, но не о нём, а о Гофмане. В ней содержались замечания, пронзительно задевшие Булгакова. Насладившись эффектом, он признался, что статья эта никакого отношения к нему не имеет. Увы, это был совсем невесёлый розыгрыш!» (9; 78)16.
Да уж, просто какие-то Гойевские розы грыж.
На этом «миримские каникулы» не закончились.
4 апреля 1940 года Павел Попов, готовящий «в свет» долгожданную биографию Булгакова, запрашивает в письме Елену Сергеевну: «Будьте любезны, укажите также статью о Гофмане в «Литературном критике», о которой Вы мне говорили» (2; 524). Судя по запросу и ошибке в наименовании журнала, вся вышеприведённая история осталась вне внимания «Пати». Всё же он не преминул вставить полученные сведения в свой текст, тем более что напрашивающаяся аналогия давала возможность хоть как-то говорить о «криминальном» создании Булгакова.
«Общий состав романа напоминает самые оригинальные и причудливые романы Гофмана. В своём романе М.А. Булгаков одновременно ультраромантик и ультрареалист, подобно Гофману. Есть и ещё одна черта, роднящая Булгакова с Гофманом, — борьба с филистерством, под которым немецкий романтик разумел и самодовольную пошлость, и умственный застой, и эгоизм, и тщеславие, и формализм, превращающий человека в машину17, и педантизм. Романтическую иронию оба автора умеют освобождать от мистической созерцательности и обращать в острую сатиру. Образ кота, представленный в романе Булгакова с такой предельной живостью, сродни по своей законченности и выдержанности бесцеремонному и торжествующему обжоре коту Муру Гофмана» (2; 542).
Любовь к Гофману не была исключительной монополией Булгакова. Рядом с фирмой «Эликсиры Сатаны», куда (условно) входили, кроме Булгакова, Чаянов и Заяицкий, существовала команда с официальным названием «Серапионовы братья», гофманская привязка которой декларировалась не только названием, но и её литературными манифестами. Организатор и главный теоретик группы Лев Лунц слишком рано умер, другие слишком рано стали маститыми советскими литераторами, и диалога между, казалось бы, единомышленниками не получилось. Позиция «серапионов» была плохо скрываемой позой авангардности, тогда как Булгаковский предосудительный для многих культурно-идеологический «центризм» был связан с центральным положением Истины в структуре мира.
Противостоять Булгакову было нельзя.
Можно было только уклоняться от Истины в большей или меньшей степени.
Он бесспорный духовный лидер русской литературы 20—30-х годов.
Гофманское H (правильнее — Хофман, но такова уж особенность русского pronunciation'а) вставлено в круг заглавного O фамилии «русского Гофмана» Владимира Фёдоровича Одоевского. Мистик и литератор, учёный и музыкант, философ и вольнодумец, князь Одоевский после смерти Гофмана в 1822 году стал его прямым русским преемником. Их роднила любовь к стихии гармонического звука, где царствовал бог-Моцарт, любовь к фантастике, понятой как простое бытописание другой реальности, пристрастие к демоническому и гуманистическому идеалам одновременно. Автор благословлённых Пушкинским крылатым перстом «Русских ночей», своей деятельной натурой уравновешивавший всех обломовых русской литературы18, Одоевский — один из главных вдохновителей Булгаковского Романа. Русский Фауст, фиксировавший такое самосознание и самопознание в имени главного героя своего философского романа-эссе, Одоевский сделал русскую культуру европейски значимой и лишённой малейшего намёка на азиатский провинциализм. Любимец корифеев мировой духовной культуры — его знал и у него перебывал, находясь в России, весь цвет европейской творческой интеллигенции — Одоевский первым из русских литераторов стал широко переводиться и печататься за рубежом, а «Русские ночи» можно по праву назвать нашим первым мировым философским «бестселлером». Он был карамзинской развёрткой Пушкина: «Письма русского путешественника» не только дошли, но и превратились в философский роман.
Интерес русской общественности к Одоевскому не остывал весь XIX век. Тем не менее пик его приходится на предреволюционные годы XX-го столетия, когда историк литературы и идеологии Павел Сакулин опубликовал циклопическую биографию русского духовного мастера, ибо именно в этом качестве предстаёт русский Фауст на страницах замечательного исследования. Благодаря тщательному изучению творческого наследия великого литератора Сакулин выяснил, что мимо Одоевского не прошла ни одна публикация русской орденской литературы; в этой области он обладал подлинно энциклопедическими познаниями. Нет факта истории мировой духовной культуры, из пыли забвения добытых «на гора», что не был бы ему известен и не просто впитан, но и переработан согласно специфике русской ментальности.
Достаточно сказать, что «Русские ночи» — единственное беллетристическое произведение, изданное в философской библиотеке предреволюционного издательства «Путь».
Сочинение Одоевского стало своего рода мостом, по которому любой литератор, не слишком отрываясь от стихии литературы, мог перейти в область духовного знания; оно продемонстрировало, что истина не только не противопоказана беллетристике, но украшает её и придаёт ей смысл.
Красота великого смысла — путеводная звезда Булгакова во всех его творческих начинаниях, в особенности в МиМ. Именно Одоевский был его Вергилием-поводырём в странствиях-плаваниях по волнам моря литературного.
Начать с того, что имя главного героя ранних вариантов Романа — Фауст. Это не Гётевский прямой прототип, это Фауст «Русский ночей», оказавшийся волею обстоятельств в новых временных и социальных условиях. В нём нет старческого занудства героя Гётевской поэмы, он никого и ничто не проклинает, он терпелив и застенчив, как главный диалогист сборника новелл Одоевского. Садясь за написание романа о Понтии Пилате, он совершает акт сознательного самоотречения, поскольку он, хоть и учёный, не настолько «кукукнут», чтобы спрашивать с улыбкой псевдоюродивого «Какое, милые, сегодня тысячелетье на дворе... — ась?». Он бодр, трезв, трудолюбив и усидчив, и агрессивный эгоизм Гётевского злобного старикашки — нечто диаметрально ему противоположное19. Фауст «Русских ночей» энергичен и предприимчив; он думает об отчизне (гимн России из эпилога этого философского романа — самые вдохновенные страницы произведения) и не обременён возрастными и сексуальными проблемами; он — анахорет и не воспринимает своё положение как временное «сидение в засаде» перед рывком к достижению мирских благ в полном объёме. Аскет и трудоголик Одоевский в этом смысле был абсолютно не похож на сибарита и женолюба Гёте. Так же несхожи и их герои.
И если Булгаковский автор «романа о Пилате» назван трижды романтическим Мастером, то это потому, что помимо собственного романтизма он впитал романтизм двух своих знаменитых предшественников. Самоварного золота пышнословия тут никакого нет — мысль выражена конкретно и строго. Кстати, Воланд — он же Мефистофель, он же Люцифер — общался «по работе» и с предыдущими двумя, но только в последнем случае контакт с «подопечным» происходил вполне без натуги.
Мастер, как Фауст Гёте, мечтает о счастье, но, как Фауст Одоевского, не мыслит его в отрыве от творчества. В некотором смысле, на земле это неразрешимая дилемма — как только Мастер обретает Маргариту, ему становится не до писанины романа (недаром, умирая, Булгаков вспоминал идиллию Филемона и Бавкиды20 и шептал немеющими губами: «Это только и ценно в жизни»), а продолжение литературных занятий ему гарантировано лишь по ту сторону бытия, где отношения с Маргаритой будут носить метаэротический характер. Одоевский также апологет не эроса, а агапе: в одной руке двух арбузов не удержать — это не вымученная бытовая мудрость, приходящая с возрастом «опытным путём», а глубоко понятый с ранних лет и навсегда закон человеческого существования. Впрочем, Мастеру Маргарита нужна совсем для другого...
«Русские ночи» — это ещё и дополнительный «полигон» для отработки феноменологии выдающейся креативной личности, основной — Пушкинские «Моцарт и Сальери» и «Египетские ночи» (при условии абсолютного наложения последних на прототипическую для них фигуру Мицкевича). Одоевский опробует и обкатывает на своих «испытательных стендах» Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. У него есть и свой вариант великого импровизатора в поддержку и в дополнение Пушкинскому.
Так же как Одоевского в Гофмане, Булгакова в Одоевском примагничивает стихия музыки. Страницы «Русских ночей» переполнены музыкой. Булгаков ныряет в этот океан, плавает в нём, вольно черпает из него пригоршни изумрудов.
Орденская взаимность позволяет не заботиться о соблюдении мелочного законодательства искусства, позволяет прибегать к рискованным для посредственности заимствованиям. Так было в рыцарском стане всегда. Опыт по созданию корпуса Шекспировских текстов сделал эту процедуру нормой, подобно канону в области сакральной артификации. Разве египетское искусство теряет что-либо, оттого что художники тщательно перевторяют великие образцы? Все заботились только о том, чтобы создать великое, а не специально оригинальное или новое. Великое всегда на поверку оказывалось оригинальным, а возникшее из ничего под рукой художника — новым. Более того, одни и те же идея, мысль, образ, обтачиваясь прикосновениями всё новых и новых мастеров, достигали той степени совершенства, которую невозможно получить из «первоматерии», «первоматериала». Есть произведения начат и произведения конца; МиМ, безусловно, относится к финалистским, завершающим шедеврам. Это сумма — и не только собственных наработок. Каждая стадия лепки-обработки одной и той же скульптуры является этапной акцией. Совершенство накапливается, как мёд в сотах; при превалировании этого качества в произведении оно принципиально перестаёт носить релятивный характер. Все бессмертные шедевры таковы, потому они и бессмертны.
МиМ категорически иммортален, и мнения критиков и читателей уже ничего не могут в этом изменить.
Из уст Фауста «Русских ночей» Булгаков мог познакомиться с синоптически изложенными основными идеями корифеев орденской мысли XVIII—XIX веков. Так, в «Ночи второй» Одоевский цитирует сочинения двух любимцев русских масонов: Джона Пордеча и Клода де Сен-Мартена, чьи книги были у русских рыцарей настольными. «Фауст часто, раза три или четыре, цитирует этих сочинителей, не называя их — ибо боится упрёка в мистицизме...» — пишет автор «Русских ночей» в примечаниях. Высказывания эти стали идеологическим фундаментом МиМ:
«Потребность полного блаженства свидетельствует о существовании сего блаженства; потребность светлой истины свидетельствует о существовании сей истины, а равно и то, что темнота, заблуждения, сомнение противны природе человека; стремление человека постигнуть причину причин, проникнуть в средоточие всех существ — потребность благоговения — свидетельствует, что есть предмет, в который доверчиво может погрузиться душа; словом, желание жизни полной свидетельствует о возможности такой жизни, свидетельствует, что лишь в ней душа человека может найти успокоение.
...Каждый предмет грубой временной природы доказывает существование закона, который ведёт их прямо к той степени совершенства, к которой они способны; с начала веков, несмотря на пагубные влияния, их окружающие, естественные тела развивались в тысяче поколениях, стройно и однообразно, и всегда достигали до полного своего развития» (47; 17).
«Излюбленная и Великая Эволюция» представлена здесь в своей гностической полноте, равно как и концепция покоя-блаженства, что ожидает героев в конце Романа.
И вот — через великого Вольтера — выход прямо на особо интересующую нас особу:
«Фауст. ...Двусмысленность слов — большое неудобство; но бессмысленность ещё важнее, и слов последнего рода гораздо больше в обращении — благодаря, между прочим, и Вольтеру...
Вячеслав. Не слишком ли строго, особливо в отношении к такому человеку, у которого нельзя отнять гениальности...
Фауст. Я знаю существо, у которого ещё менее можно отнять права на гениальность...
Вячеслав. Кто же такое...
Фауст. Его называют иногда Луцифером.
Вячеслав. Я не имею чести его знать...
Фауст. Тем хуже; мистики говорят, что он больше всего знаком с теми, которые его не знают...» (47; 143—144).
По раскладке самого Одоевского, Фауст — это наука, Вячеслав — любовь; в этом аспекте приведённый диалог приобретает особую значимость. Маргарита в экспозиции Романа дальше всех отстоит от Воланда; она погружена в пучину своих личных проблем... — но именно она становится хозяйкой бала у Сатаны. Появление Азазелло вдруг вспучивает пучину; из «тихого омута» выскакивают черти решимости и любопытства — и всё получается по словам мистиков, что неудивительно у мистического писателя.
Одоевский определяет свою связь с Гофманом: «Многие находили, иные в похвалу, другие в осуждение, что в «Русских ночах» я старался подражать Гофману. Это обвинение меня не слишком тревожит; ещё не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвались чужая мысль, чужое слово, чужой приём и проч. т. п.; это неизбежно уже по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов; никакая мысль не родится без участия в этом зарождении другой предшествующей мысли, своей или чужой; иначе сочинитель должен бы отказаться от способности принимать впечатление прочитанного или виденного, т. е. отказаться от права чувствовать и, следственно, жить. Разумеется, я не обижаюсь нисколько, когда сравнивают меня с Гофманом, — а, напротив, принимаю это сравнение за учтивость, ибо Гофман всегда останется в своём роде человеком гениальным, как Сервантес, как Стерн; и в моих словах нет преувеличения, если слово гениальность однозначительно с изобретательностью; Гофман же изобрёл особого рода чудесное; знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве; например, Вагнер — тоже человек без всякого сомнения гениальный — убеждён, что опера почти невозможна без этого странного элемента, и музыканту нельзя не согласиться с таким убеждением; Гофман нашёл единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведён в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется всё то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы; естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта.
А между тем я не подражал Гофману. Знаю, что самая форма «Русских ночей» напоминает форму Гофманова сочинения «Serapien's Brüder». Также разговор между друзьями, также в разговор введены отдельные рассказы. Но дело в том, что в эпоху, когда мне задумались «Русские ночи», т. е. в двадцатых годах, «Serapien's Brüder» мне вовсе не были известны...
Не только мой исходный пункт был другой, но и диалогическая форма пришла ко мне иным путём...» (47; 189—190).
Эта развернутая апология чудесного, что особенно мощно проявилось в гофманианских «Пёстрых сказках», есть стремление мистика Одоевского (так он помечает Фауста в «Русских ночах») придать посюстороннюю легитимность выстроенному Гофманом и им самим мосту, ведущему в потустороннее. Гофманский интеллигент выдавлен бюргерским сознанием за пределы среды обитания, т. е. земного; зависнув в разреженном воздухе околоземного, он впадает в бред, суггестию и прочий умственный оффсайд, побирается на этом мосту в качестве нищего, «он здесь живёт», и сверхъестественному потерял счёт. Опусы Гофмана на современный вкус чрезмерны в смысле чудесного.
Одоевский с этим гораздо осмотрительнее.
«...Поелику человек состоит из духа и души, то для достижения высшей степени потребно возвышение обоих: первого — познаниями, второй — любовью. Эстетическое образование есть нечто отдельное; это символическое преобразование той отдалённо-будущей жизни, которая будет полным соединением знания с любовью, соединением, которое было когда-то в человеке и потом разрознилось» (47; 221).
МиМ — феномен такого соединения. Формула Достоевского Красота спасёт мир, генетически произрастающая из концепта Одоевского, сработала своей сотерической потенцией в самые убойные времена: в подвалах ГПУ беспрерывно раздавались ружейные выстрелы, а наверху бодрячковым глушителем звучал марш из кинофильма «Цирк», где приятельница Елены Сергеевны Любовь Орлова изображала пролетарский восторг и международную солидарность. «К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до 1937 года они применялись вопреки правилам. Затем неожиданно они превратились в обычный метод допроса...; в конце 1936 года предположительно появились инструкции о применении пыток; в начале 1937 года была получена официальная санкция ЦК, т. е. Сталина» (22; 667). Булгаков, естественно, всё знал и, конечно, ждал. «В один из последних дней он заставил жену собрать все свои рукописи и вынести из дому, чтобы зарыть в лесу. Она всё собрала, связала, сделала вид, что выносит — и оставила связку между двумя выходными дверями, а когда он заснул — внесла назад. «Почти накануне смерти, — рассказывала Елена Сергеевна, — он потребовал снять с себя рубашку. Почему-то он думал, что в рубашке они могут его увезти, а без рубашки нет...»» (22; 669—670).
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
«Людовик. Вас преследуют?
Мольер (молчит).
Людовик. Господа! Нет ли среди вас поклонников писателя де Поклена? (движение) Я лично в их числе (гул). Так вот: писатель мой угнетён. Боится. И я буду благодарен тому, кто даст мне знать об угрожающей ему опасности. (Мольеру.) Как-нибудь своими слабыми силами отобьёмся».
Воистину, воистину: Белый плащ с кровавым подбоем...
«Русские ночи» входят в мистическую цепь произведений с ночным содержанием, противопоставленным дневному сознанию мещанства и посюсторонности. Это «Египетские ночи» (А.С. Пушкина), «Афинские ночи» (сочинение Авла Геллия в обработке русских масонов), «Сельские ночи» (французского мистика де ла Во), Юнговы «Ночи» (по фамилии одного из крупнейших духовных писателей XVIII века англичанина Эдуарда Юнга) и множество других, менее известных. Раскрывая со стороны эзотерики смысловую поэтику ночи, приятель В.Ф. Одоевского и проводник его идей любомудр Н.А. Мельгунов писал: «Для людей, живущих внутренней жизнью, свет дня так же тягостен, как для птицы Минервиной, и они охотнее глядят на опускающееся солнце или на бледный свет луны, на эту божью лампаду ночи, которая осветит их духовный труд, работы ума их, вдохновенный плод их сердца. Они любят вечер и захождение солнца потому, что это вестники духовного дня» (цит. по 47; 262).
Патетика ночи занимает и в МиМ доминирующее положение; в неё вписан не только грандиозный «Бал у Сатаны» с прелюдией, полётом на Днепр и постлюдией, а также всё творчество Мастера, но и «катакомбный» принцип счастья главных героев в «вечной ночи» подвала (как бы бархатной изнанке катящегося по стране над их головами девятого вала социальных потрясений). Правда, ночь — это и вывороточное время ЧОН (Частей особого назначения, разрывающих тишину выхлопами расстрелов), и крики пытаемых в глухих гэпэушных застенках (Надя Мандельштам говорила Ахматовой, думая о судьбе арестованного мужа: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер»). (Цит. по 22; 667.)
И в далёкие времена Одоевского жизнь была не идиллична; недаром первый вариант «Русских ночей» он хотел назвать «Дом сумасшедших». Камертоном послужила судьба Бетховена, изложенная в «Последнем квартете»; в российской действительности ей соответствовала поднадзорная жизнь П.Я. Чаадаева, высочайше объявленного сумасшедшим. «В «Доме сумасшедших» В. Одоевский хотел собрать вместе героев, которые среди ординарной и пошлой толпы кажутся безумцами и которые на самом деле являются «избранниками духа»» (47; 261). Судя по всему, Воейков, перехвативший название своей сатирической поэмой21, заставил Одоевского переместить написанный для этого сочинения материал в задуманные параллельно «Русские ночи». Булгаков не пропустил этот выразительный момент — Мастер добровольно уходит в клинику Стравинского, предполагая найти в ней то, что подразумевал именно Владимир Одоевский. Согласно замыслу великого романтика, «трижды романтического» Мастера там уже должны ждать импровизатор Киприано, график Пиранези, Людвиг ван Бетховен и Иоганн Себастиан Бах. — Достойная компания!
Завершает гностический Булгаковский ключ заглавное G великого Гоголя22.
Когда на премьере «Дней Турбиных» во МХАТе появился лощёный господин с целлулоидным пробором и моноклем в глазу, публика мгновенно маркировала его определением «тот, кто ходит гоголем».
Каково же было удивление «советского полусвета», когда этот тип вышел раскланиваться в конце спектакля как автор! Пришлось первую букву в шепотке менять на заглавную — сразу всё прояснилось и встало на своё место.
С этих пор любая нужда «по линии Николая Васильевича» непременно заставляла обращаться к «писателю из Киева». Инсценировка для МХАТа, киновариант «Мёртвых душ» и переделка «Ревизора» в киносценарий — это наиболее очевидные «гоголевизмы» в творчестве Булгакова, а сколько точечных или скрытых! Только Гоголя и Салтыкова-Щедрина называл он впрямую своими учителями; прячась за их богатырскими спинами, пытался проскочить узкое место «волчьей ямы» судьбы, начав письмо Сталину от 30 мая 1931 года с обильных цитат из малоросского гения:
«Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для проведения большого и стройного труда.
Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру».
Подчеркнув последнюю фразу, т. е. усилив мысль Гоголя своей акцентировкой, и поставив в качестве подписей под письмом две фамилии — Николая Васильевича и свою, Булгаков пытается быть убедительным «во временной перспективе», подтверждая свой Гоголевский статус в современной литературе и справедливо полагая, что «кремлёвский горец» на этот счёт вполне в курсе. Ещё бы! — Потому и за границу не отпустил. Зато разрешил запрещённый было спектакль МХАТа.
«15-го около полудня девица (новая домработница лет 20-ти) вошла в мою комнату и, без какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твёрдо и пророчески:
— Трубная пьеса ваша пойдёт. Заработаете тыщу.
И скрылась из дому.
А через несколько минут — телефон.
С уверенностью можно сказать, что из Театра не звонили девице, да и телефонов в кухнях нет. Что же этакое? Полагаю — волшебное происшествие.
Далее — Театр. <...>
А далее плеснуло в город. Мать честная, что же это было! <...>
Московскому обывателю оказалось до зарезу нужно узнать: «Что это значит?!» И этим вопросом они стали истязать меня. Нашли источник! Затем жители города решили сами объяснить, что это значит, видя, что ни автор пьесы, ни кто-либо другой не желает или не может этого объяснить. И они наобъясняли такого, что свет померк в глазах. Кончилось тем, что ко мне ночью вбежал хорошо знакомый человек с острым носом, с большими сумасшедшими глазами. Воскликнул: «Что это значит?!»
— А это значит, — ответил я, — что горожане и преимущественно литераторы играют IX-ю главу твоего романа, которую я в твою честь, о, великий учитель, инсценировал. Ты же сам сказал: «в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях... вызначилась природа маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни». Укрой меня своей чугунной шинелью!
И он укрыл меня, и слышал я уже глуше, как шёл театральный дождь — и бухала моя фамилия и турбинская...
Ну, а всё-таки, что же это значит?» (2; 217—218)
А ларчик просто открывался.
Из дневника Ю. Слёзкина: «21-го февраля 1932 г. От нападок критики театры страхуют себя, ставя «Страх»23. МХТ I тоже «застраховал» себя... На просмотре «Страха» присутствовал хозяин. «Страх» ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: «Вот у вас хорошая пьеса «Дни Турбиных» — почему она не идёт?» Ему смущённо ответили, что она запрещена. «Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, её нужно ставить, ставьте». И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить постановку...» (16; 262).
Поражённый мистикой ситуации Павел Попов, к которому было обращено процитированное выше письмо, спрашивает Булгакова в ответной открытке: «А «Мёртвые души» — что, уже вымерли, как стали оживать Турбины?» (16; 262)
Продолжая диалог в письмах, Булгаков пишет Попову 7 мая 1932 года:
«Эх, рановато было ещё о «Мёртвых душах», дорогой Павел Сергеевич! Вы ломаете мой план. (В письме Булгакову Попов поставил множество вопросов по поводу постановки «Мёртвых душ» на сцене. — ОК) Но раз Вам угодно — извольте. <...>
Итак, мёртвые души... Через девять дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.
И вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого ещё мне придётся инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Ефрона? <...> Словом...
1) «Мёртвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существует 160 инсценировок. Быть может, это и неточно, но во всяком случае играть «Мёртвые души» нельзя.
2) А как же я-то взялся за это?
Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним своим шагом, а Судьба берёт меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введён в качестве режиссёра-ассистента в «М. Д.»... Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашённым инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге ещё Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу».
Ну просто — от осла мёртвого уши. Или демьянова ушица (по дедушке Крылову).
Хорош дебют?
И не рыпнешься — догонят и добьют.
«После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Коротко говоря (т. е. говоря как Коротков из «Дьяволиады». — ОК), писать пришлось мне.
Первый мой план: действие происходит в Риме. <...> Раз он видит её из «прекрасного далёка» — и мы так увидим!»
Ну, её — это то, что мы видим из «омерзительного близяка» ежедневно.
«Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose. И Рима моего мне безумно жаль!
3) Без Рима, так без Рима.
Именно, Павел Сергеевич, резать! И только резать! (Действительно, серп-то в гербе на что?! — ОК) И я разнёс всю поэму по камням. Буквально в клочья. <...>
Вот-с, какие дела.
* * *
На сцене сейчас чёрт знает что. <...>
* * *
Когда выйдут «Мёртвые души»? По-моему — никогда. Если же они выйдут в том виде, в каком они сейчас, будет большой провал на Большой Сцене.
* * *
В чём дело? Дело в том, что для того, чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссёрские таланты в Театре иметь.
Вот-с как, Павел Сергеевич!» (2; 239—241)
Премьера «Мёртвых душ» состоялась 28 ноября 1932 года. На обсуждении спектакля Булгаков говорил (конспективная запись Вс. Вишневского): «Каторжная работа режиссуры. Брался я с ужасом и болью. 160 инсценировок М.Д. уже есть. 8—9 я и сам видел. Что поставить М.Д. нельзя — я был убеждён. Надо эпическое течение громадной реки. А конец роли? Куда? Я думал об этом. А сцена требует «конца». Я убедился, что роман также сзади наперёд... герой сперва едет, потом объясняет зачем. Я — наоборот — идея, затем осуществление. Брал косвенную речь Гоголя... Попытка — обрамить Римом. Я сделал пять вариантов... Рима не вышло. Гоголь писал в Риме — я хотел дать эту точку зрения».
Ликоспастов-Слёзкин сладострастно приводит отзыв А. Белого о постановке, высказанный на выступлении во Всероскомдраме в январе следующего года: «И как радостно слышать настоящие, полноценные свои слова после тысячи казённых речей в литературе...
— Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка «Мёртвых душ» в МХАТе, — резюмировал Белый, — так не понять Гоголя! Так заковать его в золотые, академические ризы, так не суметь взглянуть на Россию его глазами! И это в столетний юбилей непревзойдённого классика. Давать натуралистические усадьбы николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью и не увидеть гоголевских просторов..., гоголевской тройки, мчащей Чичикова-Наполеона к новым завоеваниям... Позор!
Ушёл с печалью. Всё меньше таких лиц, как у Белого, встречаешь на своём пути...» (2; 242).
Белый относился к числу благополучных литераторов. Ни на одном из этапов своего ломаного пути он не переставал активно печататься, пожиная свою долю успеха и известности. Поразительно, что в вынужденном положении затравленного писателя он нашёл предмет для ревностной зависти, ведь именно после этой вдохновенно им «раздраконенной» мхатовской постановки однажды заявил с обидой:
«Булгаков стал режиссёром МХАТа, а я пойду в режиссёры к Мейерхольду!»24
Вроде как: что я — рыжий?
Да нет, не рыжий.
Всё тот же Слёзкин описал маэстро, всхлипывая от чувств: «Маленький, худенький, с сияющими прозрачными глазами; в чёрной мурмолке и детскими локончиками из-под неё, с пышным бантом вместо галстука — по былой романтической моде... Остался тот же жест..., то же экстатическое выражение святого» (2; 241—242).
Да нет, Белый — не рыжий. Вот если только в цирковом смысле...
На постановку Мейерхольдом Гоголевского «Ревизора» он откликнулся восторженной статьёй, ставшей основой целой книги25. Изломанный, вычурный символист26 оказался в одной связке с нагло холуйствующей перед новым режимом футурнёй, презиравшей его за интеллигентские выверты.
«Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд... Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза б мои не смотрели!
Всё что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.
— Я интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь, — я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном» (7; 239).
Да и сам Николай Васильевич, потерявший после смерти Пушкина духовную опору и сползший в трясину православного фанатизма и истерии, мало годился для прохиндейски-рационалистических игрищ, устраиваемых Чичиковыми в комиссарских кожанках. Умственная икота его предсмертного покаяния давала основание друзьям-современникам воспринимать Гоголя как законченный персонаж «Дома сумасшедших» Одоевского. Степан Шевырев сообщает в письме к Николаю Васильевичу: «Говорят иные, что ты с ума сошёл. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: «Скажите, пожалуйста, правда ли это, что Гоголь с ума сошёл?», «Скажите, сделайте милость, правда ли это, что Гоголь с ума сошёл?»»27
У Булгакова Гоголь, «уходящий в ночь», представлен трагически-пародийно в образе поэта Русакова в «Белой гвардии» и апологетически в образе Мастера в МиМ. И никогда — как предмет для собственных интеллектуальных спекуляций. Поэтому лапидарный мхатовский спектакль по «Мёртвым душам», превращённый в «визуальную хрестоматию для школьников» и сумму сольных выходов выдающихся актёров плеяды первого поколения, стал спектаклем «минус Булгаков», но никак не «минус Гоголь». Упрекать за это Булгакова было, по меньшей мере, странно. В конце 40-х годов я, тогда ещё школьник, видел на сцене этот спектакль с теми же исполнителями, и только спустя почти полвека выяснил, что автором известнейшей мхатовской инсценировки является Михаил Булгаков.
Близко положенный к Булгакову сексот передавал «наверх» мнение писателя о своей работе во МХАТе: «Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают всё, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставляли бы состязаться с молодёжью, а здесь всё затхло, почётно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушёл бы в другой театр, где наверное бы помолодел» (28; 333—334). Елена Сергеевна записывает в дневнике, что Станиславский, «портя какое-нибудь место, уговаривает М.А. «полюбить эти искажения»».
Поразительно, что идиосинкразию к Булгаковским концептуальным решениям проявили при работе над сценарием «Мёртвых душ» и киношники. Пырьев стал просто-таки «растопырьевым» по отношению к «Риму», и пришлось отказываться от него второй раз: «Люся утверждает, что сценарий вышел замечательный. Я им показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Всё, что больше мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздрёвской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, — всё это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но — Боже! — до чего мне жаль Рима!» (2; 303)
Собираясь за границу, супруги Булгаковы размечтались: «Наступило состояние блаженства дома. Вы представляете себе: Париж! памятник Мольеру... здравствуйте, господин Мольер, я о Вас книгу и пьесу сочинил; Рим! — здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я Ваши «Мёртвые души» в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идёт в театре, и даже совсем не похожа, но всё-таки я постарался... <...>
Мы покойны. Мечтания: Рим, балкон как у Гоголя сказано — пинны, розы... рукопись... диктую Елене Сергеевне... вечером идём, тишина, благоухание... Словом, роман!
<...> В список мхатчиков, которые должны были получить паспорта..., включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.
<...> Он привёз паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А. Булгакову отказано.
Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба, Елизавета Воробей! О ней нечего и разговаривать!
Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего всё происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда» (2; 308—309). Это из письма Вересаеву.
И снова Попову: «Люся прозвала меня капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, она первоклассна» (2; 299). Жаль, что Булгаков едва ли знал ещё один фактик, смеху было бы ещё больше: «В 1918 году крестьянское антисоветское восстание под Саратовом возглавлял капитан Копейкин» (28; 273, курсив мой. — О.К.).
Правда, и он ей «отплатил» не хуже: «... Революционные Чичиковы хлопочут, чтобы сбывать мёртвые души, да под шумок и Елизавету Воробей за мужчину спустить». Это из книги «На пиру богов» «философа из Киева» Сергея Николаевича Булгакова. Ну в общем, слово не Воробей.
И всё-таки Булгаков скромничает перед Гоголем насчёт одной инсценировки: в 1922 году он въехал, если не влетел, в русскую литературу фельетоном — иронической притчей «Похождения Чичикова», а потом выскочил из чичиковской брички, как воин из Троянского коня. Да и летал он — на Гоголевской шинели, и она, хоть и чугунная, легко поднимала вверх. Ещё бы! Ведь разогнал его «человек с бердянкой» в статье «Духи русской революции». «По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мёртвыми душами. <...> Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России. Иногда декреты революционной власти совершенно гоголевские по своей природе, и в огромной массе обывателей они встречают гоголевское к себе отношение. В стихии революции обнаруживается колоссальное мошенничество, бесчестность, как болезнь русской души. Вся революция наша представляет собой бессовестный торг — торг народной душой и народным достоянием. Вся наша революционная аграрная реформа... есть чичиковское предприятие. Она оперирует с мёртвыми душами, она возводит богатство народное на приграничном, нереальном базисе... Все хари и рожи гоголевской эпопеи появились на почве омертвения русских душ. Омертвение душ делает возможным чичиковские похождения и встречи». Ему, всхлипывая, вторит и Юрий Слёзкин: «Вокруг свиные рыла — хрюкающие, жующие, торжествующие...» (2; 242).
Но вот финал: по делу Чичикова опрашиваются свидетели (Петрушка, Селифан, Коробочка, Ноздрев); затем звучит «рассказ про капитана Копейкина, и приезжает живой капитан Копейкин, отчего прокурор умирает» (16; 274).
Любопытно, что прозвище «прокурор» было дано Булгаковым старшему из двух сыновей Елены Сергеевны, Евгению, после развода оставшемуся с отцом и лишь иногда навещавшему булгаковский дом. «Папенькин сынок» довольно небрежно и пристрастно относился к Булгакову, о чём свидетельствует надпись на подаренной им записной книжке: «Бедному Булгакину...» Юношеская неделикатность, смешанная с фанаберией «генеральского сынка», в общении со «свалившимся на голову» их благополучного семейства «Потапом» и привели к получению столь специфического прозвища, чем сам «Юджин-прокурор» очень гордился28. Считаясь с реальным положением вещей в настоящем и заглядывая в будущее, Булгаков всё терпел и слегка заискивал перед «пасынками». За несколько дней до смерти: «С утра приходил Женя, старший сын Лены; Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому что любил этого темноволосого очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, по-взрослому отвечающего за каждое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней — и благодарности» (9; 111). Удивительное дело, всё получилось «по Гоголю»: «Евгений Шиловский умер тридцати пяти лет от роду, в 1957 году, от той же гипертонической болезни, от которой скончался Михаил Булгаков» (4; 30).
Судьба преподнесла ещё один сюрприз: ответ на коан «Может ли капитан Копейкин рублём подарить?» — Вот он. «А теперь возможностей стало много, как никогда, потому что жизнь её (Елены Сергеевны. — ОК) феерически изменилась. Булгаков, при всём его воображении, не возомнил бы, что может оказаться «золотым» автором и так одарит её» (9, 123). Речь идёт о конце 60-х годов.
Погружение Булгакова в Гоголевскую стихию продолжалось всю жизнь, как и муки его в связи с «гоголевской испольщиной».
«N. в разговоре о «Ревизоре» говорил, что хочет, «чтобы это была сатира...»
Разговоры все эти действуют на Мишу угнетающе: скучно, ненужно, ничего не даёт, т. е. нехудожественно. С моей точки зрения, все эти разговоры бессмыслица совершеннейшая. Приходят к писателю умному, знатоку Гоголя — люди нехудожественные, без вкуса и уверенным тоном излагают свои требования насчёт художественного произведения, над которым писатель этот работает, утомляя его безмерно и наводя скуку» (28; 339). А чуть позже Елена Сергеевна записала: «Я чувствую, насколько вне Миши работа над «Ревизором», как он мучается с этим» (28; 340).
Другое дело вересаевский «Гоголь в жизни». За год до описанных мук Булгаков пишет ему: «Я... просидел две ночи над Вашим Гоголем. Боже! Какая фигура! Какая личность!» (16; 301) П.С. Попов методично внушал Булгакову мысль о сходстве — буквально реинкарнационном тождестве29 — его с гениальным предтечей. Продолжая любимую тему, «Патя» пишет в октябре 1939 года: «Да, нужно проездиться по России, как взывал Николай Васильевич. Между прочим покойный Венгеров доказывал, что Гоголь всего в пути по России провёл около 30 дней. Значит, сколько тут фантастики — т. е. подлинного творчества» (16; 526).
К концу жизни эта самоидентификация ещё более усилилась. В биографии Булгакова Попов добавляет: «Жизнелюбивый и обуреваемый припадками меланхолии при мысли о предстоящей кончине, он, уже лишённый зрения, бесстрашно просил ему читать о последних жутких днях и часах Гоголя» (2; 544). Дело в том, что склонный в своём сиротском (после смерти Пушкина) состоянии к летаргическому оцепенению, Гоголь предупреждает в первом же пункте своего «Завещания» об опасениях быть похороненным заживо. «Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности»30. Интерес к этой теме был подогрет слухами о том, что по вскрытии гроба при перезахоронении, Гоголя, якобы, нашли лежащим на боку. Отсюда вывод — Гоголя зарыли в землю живым, а через некоторое время он очнулся от летаргии... Ермолинский свидетельствует по поводу последней воли Булгакова быть сожжённым в крематории: «Он боялся того, что случилось с Гоголем! После захоронения об этом много говорили по Москве. И он не раз говорил: «Ты помнишь, что Гоголь перевернулся в гробу?.. Нет-нет — в крематорий! Там даже если очнёшься, не успеешь ничего почувствовать — пых, и всё!»» (22; 670)
Хроника последних часов Булгакова на земле:
«Ночь с 7 на 8 марта: Засыпал трудно. Когда его укладывали на постель... сказал: — Ну вот и готово... копейка!
8 марта: <...> Когда вечером доктор... вышел из комнаты, два раза позвал: Доктор!
Потом начал часто повторять: — Ножик... ножик...
Приподнимался, указывал на стол и снова говорил: — Ножик» (16; 543).
Это была последняя Гоголевская реминисценция: «Когда Плюшкин рассказывает Чичикову про капитана, то делает рукой жест, как будто нож держит (мысль: капитан, хотя и соболезнует, а готов зарезать за копейку)...» (4; 71).
Ермолинский подытоживает: «Его поразительная наблюдательность слишком часто переступала спокойные реалистические грани. Вокруг живой натуры, в основе своей всегда достовернейшей, бесом вертелась его фантазия и мысль обретала самые неожиданные формы. Недаром он любил Гоголя31, в котором била та же струя. Мы забыли, что не только гоголевский «Нос» был странен, но и «Шинель», великая прародительница русской социальной повести, в конце концов оборачивалась мистическими призраками. Тут почти как в «Носе»:
«Чепуха совершенная делается на свете... И однако же, при всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже... ну да, где не бывает несообразностей?.. <...> Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».
Эти гоголевские слова невольно вспоминаются при чтении «Мастера и Маргариты»» (8; 459—460).
Итак, монограммический эзотерический ключ Булгаковского творчества — вписанная в круг пентаграмма — позволяет представить гностическую первоматерию, из которой возник «манием руки» демиурга стройный собор Романа. Эта же схема может быть представлена — при использовании начальных букв русского написания фамилий перечисленных авторов — в виде египетской идеограммы звезды (иероглифа «человек») в динамическом вращении, образующем Г-образные ответвления-следы на концах лучей. Тогда два нижних Г — это базисная для мифологемы «Фауста» пара Гёте и Гуно; Гойя и Гофман образуют горизонтально-диаметральную пару; и Гоголь, вертикально стоящее Г, — Голгофу32. Четыре европейских духовных мастера оформляют наземно-подземную часть схемы, и только Голгофа Гоголя облекает собой силовую линию русской «божественной вертикали»33.
И возникает последний Гоголевский миф в судьбе Булгакова (приводим рассказ Елены Сергеевны в изложении Владимира Лакшина).
«До начала 50-х годов на могиле Булгакова не было... камня — лишь прямоугольник травы с незабудками да молодые деревца, посаженные по четырём углам надгробного холма (символа нижних лучей кемисвастики. — ОК). В поисках плиты или камня Е.С. захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними... Однажды видит: в глубокой яме среди обломков мрамора, старых памятников мерцает огромный чёрный ноздреватый камень. «А это что?» — «Да Голгофа». — «Как Голгофа?» Объяснили, что на могиле Гоголя в Даниловском монастыре стояла «Голгофа» с крестом. Потом, когда к гоголевскому юбилею 1952 года сделали новый памятник, «Голгофу» за ненадобностью бросили в яму.
«Я покупаю», — не раздумывая сказала Е.С. «Это можно, — отвечают ей, — да как его поднять?» — «Делайте что угодно, я за всё заплачу...» <...>
Камень перевезли, и глубоко ушёл он в землю над урной Булгакова, стёсанный верх без креста, со сбитой строкой из Евангелия, — он выглядел некрасиво. Тогда всю глыбу перевернули, основанием наружу. Камень гранильщики называли почему-то «черноморский гранит». По преданию, И. Аксаков сам выбрал его где-то в Крыму и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. <...>
Булгаков писал..., вспоминая Гоголя: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». По слову его и сбылось. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову» (8; 420).
К четырём существующим был добавлен пятый элемент — и пентаграмма была закончена.
Но этого мало.
Как и в творчестве, общим знаменателем стала иерусалимская, она же киевская (символически), Лысая Гора или Череп.
Камень «Голгофа», переходя от Гоголя к Булгакову, был перевёрнут, перевёрнутый череп — символ победы над смертью, прохождения далее, в жизнь вечную (направление движения кемисвастики).
Гоголь в момент захоронения не умер, что обнаружилось в 1931 году: 1 + 9 + 3 + 1 = 14; 14-й аркан Таро — Время.
Передача «Голгофы» началась в 1952 году, когда она была снята с гоголевской могилы: 1+9+5+2=17; 17-й аркан Таро — Звезда34.
Знаменательна смысловая схема трансмиссии: Аксаков → Гоголь → Булгаков. Переворачивание «Голгофы» есть символические «роды с переворотом»35 в религию Бога живого, и это «сальто мортале» длилось ровно сто лет. И только после переворота камень стал краеугольным, т. е. содержащим в себе смысловую полноту 15-ого аркана — Сатана (вокруг него и происходят главные символические события), 1-ого аркана — Маг и 8-ого аркана — Фемида. Аксакальное семейство Аксаковых, простёршее своих представителей от Гоголя до Булгакова (энергетически Булгакова вывел на орбиту выдающийся русский спиритуалист, пропагандист идей Сведенборга в России Александр Николаевич Аксаков36), доминировало в качестве родового феномена весь русский XIX век, а мистическая чуткость и Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича была общеизвестна. Она и заставила гоголевского приятеля тащить через всю Россию вулканический феномен.
В конце концов Гоголь «снял камень с души», а Булгаков получил стоящую на усечённой вершине «инволютивную» пирамиду. Главное, он посмертно и в бессмертии освоил, обжил и приручил чёрную лаву переворотов37. Дар и символ Чёрного моря, к которому Гоголь не имел никакого отношения, обрёл своего подлинного адресата. Гоголь оказался лишь передатчиком месседжа, его небесным транзитом. Клин клином — этот эзотерический смысл являет ныне булгаковская могила; смерть смертью; юмором, иронией и сатирой — сюрреализм бытия.
Мастерское посмертное посвящение пришло к Булгакову через Гоголя от «командора Ордена» Александра Сергеевича Пушкина, чьим Хлестаковым-пажом был Николай Васильевич. И Михаил Афанасьевич чувствовал всю жизнь это коренное авторство. «Мастером быть трудно, но им надо быть обязательно, если ты мнишь себя профессиональным литератором, нужно всё уметь! И любить материал. И отказаться в иных случаях от субъективного к нему отношения, чтобы постигнуть и передать зрителю совершенные образы произведения, которое по праву называется классикой. Молодец, если сумел» (8; 453).
«Хождение по мукам» 1930 — 1932 года было для Булгакова последней экзаменацией и «натаском» перед финальным рывком работы над Романом, перед восстановлением Феникса из пепла. Выход в свет высших духовных реалий был осуществлён с того «аэродрома фантасмагоричности», что, по существу, равен романическим принципам в искусстве. Стажировка у Станиславского и Немировича, корнями уходящих в русскую «натуральную школу» второй половины XIX века, была запрограммирована Высшими Силами не случайно. Речь не об условных, вкусовых, прихотливых оценочностях эстетики — об абсолютных, трансмиссионных, трансцендентальных ценностях этики. Ограниченность каждого из учителей-вдохновителей следовало преодолевать достоинствами другого. Узел Гофман-Гоголь в этом смысле был особенно остросюжетен.
Немирович писал в 1940 году по поводу предполагаемой постановки оперы-буфф Оффенбаха «Сказки Гофмана»: «... Сказки Гофмана читал мало и по правде сказать никогда ими особенно не увлекался. Помню, что всегда Гофмана литературоведы ставили рядом с Гоголем, Гоголем-мистиком, Гоголем гримасничающим, а эта сторона меня никогда в Гоголе не увлекала» (48; 291).
Такое отношение базируется на известной эксцентрической максиме Белинского: «Ничего нет легче, как сделаться Гофманом: стоит только дурным слогом пересказать в тысячу первый раз какую-нибудь ходячую простонародную нелепость»(цит. по 48; 291). Вторя ему, «Станиславский на репетициях «Мёртвых душ» только бегло упоминал Гофмана, искусству которого опасно подражать, потому что, по его мнению, не всякую нелепость можно считать фантастикой». «Попытки подтянуть Гоголя к Гофману на русской сцене» пресекались обоими руководителями МХАТа. Станиславский относился с настороженной подозрительностью к слову «гротеск», справедливо указывая на эстетическую неопределенность и этическую безразмерность этого понятия. Он выговаривал В.Г. Сахновскому, ставившему спектакль, что его гротеск «не оставляет просвета, не ведая пути к катарсису». «Безадресную фантастику и вненациональный гротеск он, быть может несколько своевольно, назвал гофманианой... и безжалостно вымарывал из режиссёрских разработок Сахновского то дьяволиаду с погоней в сцене бала, то таинственность допроса и заговора в «камеральной» сцене, то намёк на двойничество капитана Копейкина и пр.» (48; 292, оба курсива мои. — ОК).
Между тем компетентность Василия Сахновского в творчестве Гоголя не вызывала сомнений. «Он получил очень основательное историко-филологическое образование: три года проучился в Германии (на философском факультете во Фрейбурге), потом окончил Московский университет; вёл курсы литературы, сотрудничал в дореволюционных журналах «Студия» и «Маски», был профессором в университете Шанявского, в Брюсовском институте и т. д.» (48; 281). Когда, поступив работать во МХАТ, Булгаков был введён в качестве режиссёра-ассистента в забуксовавший спектакль, заниматься новой инсценировкой поэмы Гоголя он начал в сотрудничестве с Сахновским. В отличие от советских присяжных «распекателей», американская пресса по достоинству оценила ювелирный труд Булгакова. Нью-йоркский журнал «Вэрайети» 27/XII 1932 года: «Велика заслуга... Михаила Булгакова, переделавшего поэму для сцены. В течение всех четырёх актов ни одно из действующих лиц не произносит ни одного слова, которого бы не было у Гоголя. Потребовался бесконечный труд для того чтобы «расчленить» поэму на мелкие кусочки и затем опять собрать эти разрозненные части в пьесу. Булгаков применил систему каталога, занося на отдельные карточки все слова каждого из действующих лиц поэмы. Потом он их соединял — при написании отдельных картин. Но несмотря на эту «анатомическую» процедуру, в пьесе нет даже намёка на какую-либо искусственность» (цит. по 48; 218).
Хотя ориентация Булгакова в творчестве любимого писателя была значительной, потребовался подлинный энциклопедизм, и Сахновский (как Вересаев при создании пьесы о Пушкине) оказался для этого просто незаменим. Он обладал поистине всесторонним знанием Гоголя и его эпохи, а во время работы над спектаклем перечитал всю мемуарную и критическую литературу о Гоголе. «Сахновский как знаток Гоголя не имел себе равных в Художественном театре. Булгаков это ценил и не только обращался к нему за консультациями, но и заключил с ним договор с соблюдением необходимых формальностей, где предусматривалось, что одна шестая часть всех гонораров за инсценировку «Мёртвых душ» будет выплачиваться Сахновскому — за участие «в собирании и разработке материалов, как литературных, так и исторических», а также за работу «по установлению конструкции пьесы». Шестая часть не так много, но ведь сочинял Булгаков, а Сахновский лишь подсказывал и подчищал. На репетициях Сахновский читал целые куски из поэмы, не заглядывая в книгу, и видно было, как легко он управляет своей памятью и как она у него великолепно натренирована» (48; 230). Однако «рядом со Станиславским его многознание не всегда выручало и он не столько полагался на самого себя, сколько на авторитеты и прецеденты». Оттого-то после встреч со Станиславским по ходу постановки в черновых тетрадях Сахновского появляется запись, что «воздействие поэмы Гоголя можно сравнить с поэмой Данте». И уж если «Мёртвые души» ставятся на сцене как «комедия, то, по крайней мере, божественная».
Посылая в конце 1931 года восторженное письмо Станиславскому по поводу руководства спектаклем, Булгаков писал: «Я не беспокоюсь относительно Гоголя, когда Вы на репетиции. Он придёт через Вас. Он придёт в первых картинах представления в смехе, а в последней уйдёт, подёрнувшись пеплом больших раздумий» (2; 214). Булгаков имел в виду «скорбь итога, который предлагает нам Гоголь и вместе с ним театр, познакомив с похождениями Чичикова», — в аспекте знаменитых подытоживающих Гоголевских сентенций «скушно на этом свете, господа», «чёрт подери, гадко на свете» etc. Поэтому перехода действа в карнавал, ярмарку, комедию дель арте Станиславский тщательно избегал. Так, была безжалостно вымарана изумительная и по мизансценам, и по игре «камеральная» сцена спектакля — допрос Чичикова в кабинете полицеймейстера38.
Фантасмагоричность «камеральной» сцены с «комизмом, доходящим до гомерических степеней», и не устроила в конце концов Станиславского: театральное зрелище как работа души не должно было становиться забавой и развлечением. Фраза Коробочки, которая олицетворяла собой ларец Чичикова с купчими: «Мёртвых стали продавать, цены узнать надо» — стала ключевой для спектакля. Диалог Коробочки с председателем палаты во время репетиций показался Станиславскому «слишком вызывающим и эксцентричным, взвинченным до той степени преувеличения, когда фантасмагория переключает Гоголя в Гофмановский ряд». Вступая в спор с Сахновским, он вольно или невольно руководствовался философской сентенцией самого Гоголя: «В конце пятой главы «Мёртвых душ» он замечает, что «всякий народ, носящий в себе залог сил», своеобразно отличается «своим собственным словом», выражая им «часть собственного своего характера»; немец, тот «затейливо придумывает своё, не всякому доступное умнохудощавое слово»»39. Станиславский просит Булгакова «приглушить «европейскую броскость» и изощрённость» в пользу более простонародного, «бойкого и замашистого русского слова, не боясь при этом косноязычия Гоголя». Тяготение Булгакова к раблезианской карнавальности привело к конфликтной ситуации, из которой обоих участников постепенно вывело время: Станиславский помер, Булгаков возмужал — на том и помирились.
Поразительно, в это же самое время при постановке «Пиквикского клуба» (в инсценировке Н. Венкстерн, к чему Булгаков «руку приложил») Станиславский вполне допускал гротесковые преувеличения, и Булгаков-актёр в роли судьи смог вполне «отыграться» за аскетизм «Мёртвых душ». Оттого-то «Театральный роман» — ядовитая сатира на «опричную слободу» Ивана Васильевича — «кончается признанием в любви к тому, что Булгаков высмеивает и зло высмеивает». Справедливости ради надо сказать, что Станиславский не терпел рядом с собой равновеликих и самостоятельно мыслящих людей с оригинальной творческой позицией, ему нужен был обслуживающий его «систему» персонал; постепенно он утратил вкус не только к актёрской игре, но и к режиссуре — всему, кроме своих теоретических разработок. Пик конфликтности пришёлся на постановку Булгаковского «Мольера», когда исполнитель заглавной роли Станицын (и не только он) говорил о КаэС, что тот «выжил из ума», «чего его слушать — сумасшедший» и т. д. Неподатливость автора, не потерпевшего некорректного на себя давления погружённого в педагогические экспериментирования режиссёра, обозлила привыкшего к повиновению театрального диктатора, что привело к снятию пьесы и уходу Булгакова из МХАТа. «Когда он уговаривал Мишу, чтобы он вписал что-нибудь в пьесу, он всегда говорил: а вы полюбите это...» (4; 328).
3 мая 1939 года Елена Сергеевна записывает в дневнике: «Вчера было чтение у Вильямсов «Записок покойника». Давно уже Самосуд просил об этом, и вот наконец вчера это состоялось. <...>
Миша прочитал несколько отрывков, причём глава «Репетиция с Иваном Васильевичем» имела совершенно бешеный успех. Самосуд тут же выдумал, что Миша должен прочитать эту главу для всего Большого театра...
Ему так понравилась мысль, что он может всенародно опозорить систему Станиславского, что он всё готов отдать, чтобы это чтение состоялось. Но Миша, конечно, сказал, что читать не будет» (4; 256—257). А когда гости ушли, добавил: не могу предавать Константина Великого Самосуду на растерзание.
Это не значит, что Булгаков сдал свои позиции. Герой «Театрального романа», который является своего рода автопортретным приложением к МиМ, говорит о написанной им пьесе: «Ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина». А когда говорит истина — стили, системы и творческие методы молчат.
Очередное испытание на изгиб, на излом, на разрыв было выдержано. В чтении нелёгкого текста книги жизни был получен великий урок.
«И тут произошла интересная вещь: все прежние тёмные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь при свете лампы, ночью, в глуши я понял, что значит настоящее знание40». Так заканчивается рассказ «Крещение поворотом».
«И было по слову сему».
Так Булгаков подошёл к делу всей жизни.
Не следует скрывать — это обычный возрастной феномен, — что первую половину двадцати творческих лет Булгаковым двигало артистическое тщеславие и «желание отличиться». Садясь за написание своего первого романа, он уже предупреждает: «... смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко!»41
Ещё бы! «Сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого ни знаю» (16; 53). «Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература» (16; 81).
Дальше — больше.
«Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. И сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И всё время приходят люди и говорят:
— Пожалуйте обедать.
А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идёт вверх по деревянной лестнице и говорит:
— Иди. Вегетарианский обед.
И вдруг я рассердился.
— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.
Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:
— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?
— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошёл вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!
Скандал какой-то произошёл.
Проснулся совсем больной и разбитый» (16; 583).
«Лев Иванович» это, конечно, некий кошмарный Левиафанович, а битки сексотом Битковым оборачиваются, что вокруг Пушкина вертелся в «Последних днях».
«По полученным сведениям, драматург Булгаков, автор идущих сейчас в Москве с большим успехом пьес «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира», на днях рассказывал известному писателю Смидовичу-Вересаеву следующее (об этом говорят в московских литературных кругах), что его вызывали в ОГПУ на Лубянку и, расспросив его о социальном происхождении, спросили, почему он не пишет о рабочих. Булгаков ответил, что он интеллигент и не знает их жизни. Затем его спросили подобным же образом о крестьянах. Он ответил то же самое. Во всё время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. В заключение ему было сказано, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы. «Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мной идут».
Передавая этот разговор, писатель Смидович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: «Ничего», так как сейчас писать вообще ничего нельзя, иначе придётся прогуляться за темой на Лубянку».
Таково настроение литературных кругов.
Сведения точные. Получены от осведома. 13 января 1927 г.» (16; 161).
А 12 мая того же года в парижской газете «Возрождение» появилась заметка — письмо из оккупированной России: Кажется, ни в одной отрасли искусства не царит такого откровенного и грубого произвола, как в области театра. Авторы, актёры, режиссёры и директора театров совершенно беззащитны и нужно быть, по меньшей мере, Станиславским, чтобы вступить в борьбу с цензурным засильем.
Когда на последней генеральной репетиции новой пьесы «Дни Турбиных» (автора изумительной по остроте и глубине сатиры «Роковые яйца») пьесу собирались запретить, Станиславский пригрозил в случае запрета немедленно закрыть театр и распустить труппу. «Цензоры» струсили перед таким мировым скандалом и разрешили постановку пьесы... только театру Станиславского.
Но ведь Станиславский на всю Россию один...
Я уже говорил, что надо удивляться, как умственная и духовная жизнь ещё теплится в русском народе. Но именно то, что она всё ещё теплится, несмотря на десять лет советского владычества, доказывает, что ни приклад красноармейца, ни наган чекиста, ни цензурная дыба Главлита, ни жуткое всеобщее обнищание ничего не могли с этим поделать.
На разорённом, разворованном и заплёванном шелухой семечек кладбище русской культуры горят и будут гореть неугасимые лампады подлинного таланта в области науки, литературы и искусства... Они горят, и их жертвенный пламень никаким вихрям задуть не удастся. В ту тёмную, душную, тревожную, насторожившуюся ночь, которая сейчас накрыла своим зловещим пологом всю Россию, эти неугасимые лампады одни освещают крестный путь русского человека. И они говорят ему:
— Не падай духом. Мы ещё мерцаем...
Их мало, этих лампад. Их очень мало. Но они есть. А это — главное» (16; 160).
И снова из «Записок на манжетах»: «Ночь плывёт. Смоляная, чёрная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится. <...>
Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поёт хрустальным голосом...
Во тьме, над дверью, ведущей в соседнюю, освещённую комнату, загорелась огненная надпись:
1836
Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Николаи Яковлевич...
Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть всё. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного. <...>
Огненная надпись:
Чепуха совершенная делается на свете, иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чём ни бывало, вновь на своём месте...
Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее в голове.
Логически: всё же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число и как меня зовут...»
«Слухи о том, что Художественный театр поставил на своей сцене поэму Гоголя «Мёртвые души», следует признать по меньшей мере преувеличенными. На самом деле он поставил пьесу Булгакова, сработанную им при помощи Сахновского под явным «влиянием» поэмы Гоголя, но, однако, имеющую с ней столь же мало общего, как мало общего имел бы, например, с памятником Гоголю на Кропоткинском бульваре человек, который «под влиянием» этого памятника закутался бы в длинную шинель, выставил бы из-под неё свой более или менее длинный нос и, принеся с собой складное кресло, сел бы, сгорбившись, рядом с памятником, назвав себя при этом «памятником Гоголю»» (48; 297).
Это статья одного из рапповских заправил В.В. Ермилова, считавшего себя ведущим пролетарским спецом по Гоголю. «Батьке Сахно» тоже досталось, но главным объектом надругательств и подковырок (типа «способный драматург, взявшийся за непосильное для него дело») был — а плотину, казалось, прорвало — «человек в складном кресле». В этом потоке очутился и стенографированный доклад Андрея Белого, и цитировавшийся выше «Непонятый Гоголь». Пытались вытащить на ковёр и Станиславского, но хитрый лис сказался больным и велел отвечать по телефону, что он «не имеет никакой возможности вступать в дебаты».
Не то Булгаков. Ему в очередной раз пришлось «держать ответ», отвечая за Гоголя, как он уже это делал за Пушкина, Достоевского и Толстого. Да если бы один ответ! — Он вынужден был «держать удары», а тут одной выдержки мало.
Нужна была живая энергия шахматного игрока, который обязан играть, уж если сел за столик с доской, и не может пропустить ход, даже если у него цугцванг. Булгаков любил шахматы, понимал в них толк и часто ходил играть к знакомым: Н. Лямину, Б. Шапошникову, С. Топленникову. Шахматы как эзотерический ключ (насик) чрезвычайно часто задействованы в его произведениях. Так в «Белой гвардии» парадоксально появляется «третья сила на шахматной доске», нечто вроде ноздревской дворни с засученными на Чичикова рукавами. В «Великом канцлере» гонящийся за профессором Иванушка напарывается на такую сцену: «Швейцар выкинул какой-то фокус, который Иван так и не осмыслил. Именно: швейцар... сипло и льстиво сказал:
— Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. Сказали, что каждую среду будут ходить...
Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой Боря, какие шахматы, ...Иван... одним духом влетел42 etc.» (7; 43).
Заканчивается тема «дара Шамбалы» знаменитой партией между Воландом и Бегемотом. Такие концептуальные понятия, как гамбит, цугцванг, спёртый мат, рокировка, «ход конём», метаморфоза-превращение пешки на восьмой горизонтали, 64 клетки, соответствующие 64-м китайским гексаграммам и имеющие свою маркировку (цифровую по горизонтали и латинобуквенную по вертикали, что отразилось в гностической структуре произведения), и др. вошли в эзотерический арсенал Булгакова-концептуалиста, в образный язык Булгакова-прозаика. Оказывается, можно быть счастливым, наблюдая часы, но для этого надо быть игроком и героем, а не разнежившимся «Ромео в койке».
«Бытовая мудрость» и соответствующая ей профанная «афористика» очутились под прицелом сатирического пера автора МиМ. Особенно важным оказалось взламывание бытовых культовых клише, словесных и поведенческих, превративших некогда экстраординарное — в ординарное, вырывающее-из-мира — в спокойно с ним сосуществующее. Мещанское болото речевых условностей и оглушительная реальность появления живьём этих «условностей» в монотонной заурядности московской жизни 20-х годов — на этом контрасте построена основная драматургия Романа. «Учёная» ординарность Берлиоза и обывательская культовая ахинея Поротого (Босого) выступают на равных; и для партийного пристрастного взгляда не понятно, за кого же Булгаков. — Он ни за кого, он за что — за Истину; и в этом ответе альфа и омега всего. Самое нелепое, что появление Сатаны на московских улицах все держат за как фантастику, за невероятное и абсолютно невозможное. Т. е. все (в глубине) неисправимые материалисты и атеисты; а пропагандистское богоборчество Берлиоза не более чем часть «политической установки», соответствующее поведение государственного мужа — и ни на йоту сверх того. Пара Берлиоз-Поротый из первого варианта Романа задаёт поведенческую параметральность московских жителей, и выходящими за эту черту крайними точками являются Мастер и Аннушка-чума, держащие понятие диаметральности. Почему-то никто до сих пор не отметил того важного обстоятельства, что Дьявол на территории России появляется после того, как «... всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя». Причём через всё те же мистические семь декад лет.
Это Тютчевское Евангелие все, кроме Достоевского, восприняли как не более чем риторическую фигуру, литературную велеречивость, поэтический перебор. Люди, соблюдающие ритуальные обычаи в собственную меру ретивости, более непробиваемы для трансцендентного, чем обычные обыватели «без претензий». «Христиане-профессионалы» — самое чудовищное порождение Нового времени, монстры Босха или химеры Нотр-Дама — ласковые зверюшки рядом с ними. Каждый новый персонаж в нимбе на иконе «Всех святых» всё далее отодвигает живой образ Христа в область поэтически-необязательного, сферу «лирических излишеств»; их компания давно стала самодостаточна. Нагло и самодовольно утверждая, что Он приходил на землю ради них, что Он сам и Его распятие утилитарно-необходимы для нужд человеческой истории и, даже партикулярнее, региональных «своих»; представить Его нерастерзанным — оскорбительно для них; Он явился, чтобы «взять грехи наши на себя», — а «мы» отвечаем свечечками и горлопанством... Он не может уже постоять за себя — Ему разрешено только повисеть; и они решают за Него, что для «Него» (читай: них) хорошо, что плохо. Присвоив себе название православных и надменно считая других таких же левославными, они всерьёз полагают, что «Легенда о Великой инквизиторе» — это не о них; партийная фанаберия позволяет им не моргнув внушать невежественным и пытающимся использовать их в своих целях политикам, что «кафолики это совсем не то, что католики». И после этого утверждать, что вся эта бодяга имеет хоть какое-нибудь касательство к Христу, — это, воистину, конец света!
Давно уже выяснено, что Иисус к христианству не имеет никакого отношения43. Это ещё более контрастная картина, чем взаимоотношение Толстого и толстовцев. И Булгаков по пунктам разъясняет ситуацию: «сны» о вахмистре Жилине, о Леной Поляне и духоборах, «сны» «Бега» и МиМ, связывающие воедино оба мира, дают ясную и недвусмысленную позицию автора по этим вопросам.
«— Полон я скверны был, — мечтательно заговорил Поротый, строго и гордо, — людей и Бога обманывал, но с ложью не дорогами ходишь, а потом и споткнёшься. В тюрьму сяду с фактическим наслаждением. <...>
— Так. Прочтите, подпишите. Только на суде потом не извольте говорить, что подпись бесовская и что вы не подписывали.
— Зачем же, — кротко отозвался Поротый, овладевая ручкой, — тут уж дело чистое, — он перекрестился, — с крестом подпишем.
— Штукарь вы, Поротый. Да вы прочтите, что подписываете. Так ли я записал ваши показания?
— Зачем же. Не обидите погибшего» (7; 201).
«Деда-штукаря» прорвало на откровенность и прямо-таки понесло по волнам вдохновения.
«— ...Откуда они у вас? Такая большая сумма?
— Зародились под подушкой.
— Предупреждаю вас, гражданин Поротый, что, разговаривая таким нелепым образом, вы сильно ухудшаете ваше положение.
— Ничего. Я пострадать хочу.
— Вы и пострадали. <...> Вы взятки брали?
— Брал. <...>
— Так. Правду говорите?
— Христом Богом клянусь.
— Что это вы, партийный, а всё время Бога упоминаете? Веруете?
— Какой я партийный. Так...
— Зачем вступили в партию?
— Из корыстолюбия.
— Вот теперь вы откровенно говорите.
— А в Бога Господа верую, — вдруг сказал Поротый, — верую с сего десятого июня и во диавола» (7; 200).
Это столь же смешно, сколь и достоверно. От сцены веет древним, замшелым, фундаментальным идиотизмом, а не чистенькой швейцарской бедностью князя Мышкина44. Недаром французское кретин означает именно христианин.
Люком в информационный резервуар становится странная фамилия персонажа. Специфичность её не случайна. Кто же великий поротый русской истории? — Ба, да ведь это Александр I! Сымитировав смерть и уйдя в бега из-за нестихающих мук совести по поводу пассивного участия в убийстве папаши, Александр Павлович превратился в простого странника Фёдора Кузьмича и после нескольких лет скитаний был изловлен и высечен за бродяжничество. История, передававшаяся в печати прикровенно, имела, однако, многих излагателей: литература о «старце» Фёдоре Кузьмиче составляет целую библиотеку. В конце концов этим «сюбжетом» заинтересовался Лев Толстой, создал свою версию и в аспекте личных «религиозных исканий» закрепил её за собой. Поэтому Поротый в Романе уступил место Босому, утратив по смеху, но расширив философские функции. Опрощенческий маразм и императора, кротко претерпевшего «отъетым» филеем своё новое социальное аутсайдерство, и графа, бесконечно рефлектировавшего на возможные для него последствия подобного ответственного шага, получил у Булгакова достойное сатирическое освещение. В этом случае он величественно ироничен, не более того.
Другое дело — поклёп на Планетарного Логоса.
«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены» (16; 87).
И тогда рыцарь встаёт на защиту. Он грудью преграждает сальный поток патоки прихлебателей, он пресекает сознательный поклёп злобных ненавистников Иисуса и инсинуации наглых холуёв режима. Он доходит в расчистке Образа до оригинала; и как всегда в таких случаях, понадобилась гностическая сумма, а не одни личные усилия.
Для начала в судилище Синедриона он становится на сторону обвиняемого. Это рождает «кипение чувств» и «желание мести» (бывшее пушкинское «желание славы»).
«Большинство заметок в «Безбожнике» подписаны псевдонимами.
«А эту сову я разъясню»» (16; 87).
Такова реакция Банги, Шарика и Анубиса-Христофора. Это патетика подмастерья-пажа в отстаивании достоинства Учителя-Мастера.
Булгаков — в возрасте Христа. Время заглянуть под покрывало Изиды. Летом того же 1925 года такая возможность ему предоставляется. Он едет в Коктебель. Далее события развиваются так. В 1928 году пишет вторую часть трилогии — «Бег» и сразу садится за третью. Он начал собирать для неё материал тотчас по возвращении с юга. Речь шла только об исторических и лингвистических реалиях, ибо фундаментальный принцип, вокруг которого стал создаваться каркас будущего строения, был ему абсолютно ясен: он заключён в эзотерике Нового Завета. Несмотря на слабость фиксации (она зависела от гностического уровня фиксаторов), на исковерканность текста наглыми ножницами редакторов, на многочисленные сознательные перевирания и умолчания политиканов в рясах ставшего государственной религией нового культа, сохранившегося в канонических текстах и многочисленных апокрифах оказалось достаточно для эзотерической реконструкции личности Великого Аватара.
И как всегда, во всех религиозных структурах всё решает правильная демонология.
Если у Божества есть некий конкурирующий с ним противобог, то это профанный политеизм, не имеющий никакого отношения к истине. Если перед нами гармонический монотеизм, то непонятно, кому могут быть «вручены» отрицательные функции, например, наказания, выполняемые в пределах бытия. Христос говорил, что Он «принёс в мир не мир, но меч», что Он пришёл разделять», «отделять зёрна от плевел» и предавать огню эти самые «плевелы» и «неплодные смоковницы». Представить себе, что людей, или (шире) живые существа вообще наказывает огнём и мечом Иешуа Га-Ноцри — невозможно. Должен быть помощник, исполняющий вместо Него все отрицательные деяния, которые не могут остаться пустой угрозой. Эти функции взял на себя Его Старший Брат — Люцифер, по условиям игры выступающий в специальной, соответствующей «драматургии» маске (др.-русск. харе) и действующий как Его своеобразный оппонент (сатана др.-евр. — противоречащий) на шахматной доске Мира. Разнополярность сотворённой Вселенной должна воплощаться в равновеликих Архангелах, они — «противники» только в игровом смысле и только перед лицом лежащего (иерархически) ниже них мира.
Эта фундаментальная тайна Сатанаила открыта лишь штучному человечеству, человечество массовое — для сдерживания его звериных инстинктов — должно быть дисциплинируемо страхом, страх — единственное, что быстро доходит до сердца зверя. «Доводы разума» — это всё для «благополучных» и «сытых», всем остальным — не до жиру, быть бы живу. Вследствие этого беспрекословное повиновение вожаку, следование выработанным нормативам и обычаям — и никаких вольностей, новаций и экстравагантностей! Это — стадный биологический закон, связанный с проблемой выживания в конкурирующей и альтернативной среде. «Благие пожелания» инициатив в расчёт не берутся.
И верно, пока речь идёт об экосистеме и биомассе, этот закон абсолютно справедлив. Точнее, его медленные изменения обусловливаются брюхом, а не ухом.
Как только на Земле появляется Человек Разумный, пасти его призывается Планетарный Логос, а аккомпанировать Ему и помогать (блюсти справедливость, наказывать, тщательно экзаменовать) — Люцифер-Сатанаил. Этот важнейший момент зафиксирован в тексте Нового Завета. После так называемого «искушения в пустыне», т. е. проверки на прочность соединения абсолютного духа с материей, Иисус, выдержавший с честью испытание, говорит экзаменатору: «Иди за мной, сатана» (а не «изыди», как подтасовали в своё время политиканы от религии). С момента вступления на путь мессианского служения (т. е. существования в виде Христа) Иешуа Га-Ноцри действует только вместе с Сатанаилом. Воланд присутствовал (как он утверждает сам) на балконе у Понтия Пилата во время допроса арестованного Иешуа, и это было не его своеволием, а делалось сугубо с согласия и по воле Иешуа, как и во всех других эпизодах, предшествующих и последующих45. Оставить Планетарного Логоса при одном милосердии, лишив Его возможности осуществлять (через посредников) справедливость, значило бы для Высших Сил сделать ситуацию не работающей, а малейшие волевые побуждения Мессии не обретающими статус действия и поступка. Невозможно одной рукой — аплодировать, птице — летать на одном крыле, свету — не отбрасывать тени. То, что Старший Брат нежно опекает Младшего, транслируя любовь Небесного Отца, волю которого Они оба исполняют, — есть главное содержание тайного знания, его величайшее сокровище. Только при постижении этой тайны мировая история не выглядит вздорной и противоречивой, а «контакт с Небом» — скудоумно вымучиваемым снизу абсолютно бескрылыми существами.
И если профанное псевдознание привыкло учитывать на карте мира только события массовые, значит то, что мы называем «историей человеческой культуры», на самом деле является историей попкультуры. Нынешняя попса, ревущая в коллективном угаре во время рок-концертов на стадионах, брезгливо не принимает в расчёт точечное вяканье «жалких клистирников» в консерваториях, музеях и лекционных залах. Вот к чему приводит узаконенный в народоугоднических целях примат количества имеем приматов. Количество — демократично, качество — элитарно и иерархично. «Восстание масс» прежде всего угрожает уничтожением избранных. Из-за этого уже несколько тысячелетий они находятся в глубоком подполье. Лишь иногда оттуда — на неминуемую смерть — выходят на поверхность глашатаи. Тогда-то и раздаётся: Имеющий уши — да слышит! Многие ли услышали? — Единицы.
Одним из них был Михаил Афанасьевич Булгаков.
С подачи Волошина, Флоренского, а потом и Мережковского вцепился он в произнесённое раёшным кукареком (как и всё в первой части «Фауста») известное выражение Мефистофеля: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»46. Ярмарочный тон связан с недостаточной высотой объекта, к которому он направлен; кроме того, это, судя по смыслу слов, речь Фагота, а не самого Воланда. Только в начальных вариантах Романа Булгаков изображает часть «той силы»: то как некоего гастролёра Азазелло, то как некоего ёрника, изгиляющегося и хохмящего в стиле Фагота, — уже Воланда, но ещё не Мессира. Этой части вполне хватает для «прищучивания» мелкой московской шушеры. Однако едва возникает герой (одно время он изъясняется даже через авторское я), масштабы присутствия «той силы» возрастают, пока, наконец, не появляется сам Глава Ведомства; да и он поначалу ещё карнавален и рекомендуется юмористически: Велиар Велиарович Воланд... Как только «событийная трещина» начинает проходить через сердце, деликатное и чрезвычайно осторожное на велеречивость перо Булгакова поднимает «планку» высказывания на пророческую высоту. Действительно, «что может быть несноснее заезженной патетики? Затыкаешь уши от стыда!..» (Здесь и Гоголь с «Выбранными местами», спародированный Достоевским в Фоме Опискине, и Лев Толстой, и Тургенев, и множество других, менее известных). «Только гений может спасти патетику, и то не всегда» (9; 71). Поэтому на четыре евангельских главы приходится двадцать восемь глав сатирически-мениппейных; Булгаков «снижает» образы всех, даже самых лучших, чтобы нормальная мерность Иешуа выглядела гигантской. Толстой, Волошин, Берлиоз, Стравинский, Мастер и Маргарита, не говоря о других, выглядят хороводом гномов рядом с богатырской фразой Иешуа «Все люди добрые». Именно категорически нормальные параметры Иешуа более всего обескураживают христианствующих снобов. Тем не менее Булгаковский герой это не «праведник Иисус» Льва Толстого, заведовать Ведомством Милосердия Ему абсолютно с руки. И это главный верификаторский феномен Романа. Ни у кого, кроме Данте и Достоевского, литературный (вроде бы) текст с такой естественностью не входил в сакральное пространство высших религиозных откровений. Ни у кого, нисходя на землю, он не приносил таких великих плодов.
Особенно важны стадиальные превращения текста, которых, по тщательному подсчёту текстологов, было восемь. Октавное совершенство модифицирующей градуальности соответствует здесь полноте каждой из трёх посвятительных процедур Тарота: нисхождению божества на землю (инкубации), хтоническим преобразованиям (стратификации) и восхождению в гору, к Гору, (экзальтации). В силу того, что все стратификационные арканы собираются последовательно в «гармошку наложений», соединяя в одно целое 8-й аркан Справедливость с 15-ым Сатанаилом, и становятся двусторонней восьмиступенчатой нисходяще-восходящей лестницей в Небо, постфактумная мистика этапов Булгаковской работы над Романом приобретает особое значение. Поскольку общее количество лет, затраченных на написание произведения, — 12, разумно было бы расположить их на Зодиакальном круге47.
Первая (I) редакция Романа о дьяволе носит условное название «Чёрный маг», выбранное из нескольких других: «Гастроль [Воланда]», «Сын В[елиара]», «Копыто...». Знаменательно, что было написано 15 глав (15-й аркан — Сатанаил), из которых 10 имели название (10 — число сефирот Кабалистического древа). У дьявола ещё нет настоящего занятия в Москве («выведение на чистую воду» Берлиоза с Иваном носит всего лишь шутейно-карнавальный характер), победы даются слишком легко, чтобы получать от них удовлетворение. Как экзаменатор Сатанаил (или его представитель) не может научить (это делает Учитель), он может лишь выявить незнание (Иван) или разоблачить ложное знание (Берлиоз). Зато когда дело сделано, начинаются «вариации на тему» в стиле классического музицирования. Правда, появляется крайне серьёзная нота: дьявол выступает свидетелем абсолютной достоверности личности Иисуса Христа и подлинности Евангельских событий, т. е. как евангелист.
Работа стартовала в 1928 году, к началу следующего года первая редакция уже имела вид законченного произведения.
Булгаков на этом не успокаивается.
В 1929 году в родном и даже, можно сказать, вотчинном месяце мае он начинает вторую (II) редакцию Романа, озаглавленную «Копыто инженера». Эпоха Рыб Большого Миротворного Круга, когда имеет место погружение Земли в новый виток космической эволюции, — это эпоха разделения; она стартовала две тысячи лет назад приходом на землю Планетарного Логоса, и XX век завершает её (с вытекающим отсюда финапистским характером современных откровений). 1929 год символически соответствует эпохе Водолея: согласно семантике Дендерского зодиака — базисной для мифологии и графики Миротворного Круга — Водолей, поливая из двух сосудов раскалённой лавой рыбу Сета, добивается активного вхождения её в эволюционное становление и образования внутри рыбы животного, некоего копытного (козла), который в следующую эпоху примет самостоятельное существование.
1930 год — «самосожжение» Булгакова, носило, в отличие от гоголевского, камуфлирующий перед властями характер и было следствием некоего предательства, зафиксированного в художественной форме в истории Алоизия Могарыча и — с ещё большим обобщением — Иуды из Кириафа. Булгаков рассекретил «свои секретные мифы»48, сделал вид и даже заявил письменно, что отказывается от них, и затаился. И было из-за чего.
Ещё после «Роковых яиц» он записал в дневнике: «Боюсь, как бы не саданули меня за все подвиги «в места не столь отдалённые»» (16; 81). Теперь же дело приобрело ещё более серьёзный оборот. «Описывая Воланда, Булгаков — не вскользь, а подчёркнуто — сообщал, что на ноге его необыкновенного иностранца были сросшиеся пальцы. В народе эту аномалию называют «копытом дьявола». Отсюда и первое название романа («Консультант с копытом»). Во всех последующих редакциях я этой детали уже не встречал. Однако разговор по поводу неё у меня с Булгаковым произошёл (через несколько лет после первого чтения).
— А помнишь, раньше у тебя было... — начинал я.
— Ни к чему деталь, — сердито перебил он. — Не хочу давать повода любителям разыскивать прототипы. Думаешь, не найдётся человека «с копытом»? Обязательно найдётся. А у Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду.
Название «Консультант с копытом» исчезло, а страницы, где упоминались сращённые пальцы, были тщательнейше выдраны из тетрадей, сохранивших обрывки первых вариантов «Мастера».
Сейчас вряд ли помнят, что в середине двадцатых годов зашелестели по Москве шепотки, что у Сталина «копыто дьявола». Это случайное совпадение ошеломило Булгакова не потому, что он опасался, что рукопись раньше срока попадёт куда не надо и её перетолкуют как злободневный намёк. Такое толкование исказило бы замысел романа и образ Воланда» (9; 52—53, курсив мой. — О.К.). Многие исследователи без обиняков полагают, что прототипом Алоизия Могарыча послужил друг Булгакова, драматург С.А. Ермолинский (напр. 5; 15). На основании этого становится понятно, почему именно Ермолинскому Булгаков настойчиво внушает прямо противоположную мысль. И только послевоенная близость к Елене Сергеевне, у которой он даже некоторое время жил, возвратясь из ссылки, поколебала эту прямую и недвусмысленную идентификацию. Однако, вызывает вопросы запись Елены Сергеевны в дневнике 5 марта 1940 года: «18.30 Приход Фадеева. Разговор (подобрался сколько мог).
Мне: «Он мне друг».
Сергею Ермолинскому: «Предал он меня или не предал? Нет, не предал!»» (16; 542)
Конечно, умирающий Булгаков не анализировал, он заговаривал судьбу. Фадеев навещал больного по приказанию («рекомендации») Сталина, а Ермолинского органы могли обязать присматривать за опальным литератором и информировать о результатах наверх. Возможно, как раз с этим связано его настойчивое присутствие в доме Булгаковых до самых последних минут жизни опекаемого. В этом аспекте особую окраску приобретает сцена, зафиксированная в воспоминаниях «сторожа»: «10 марта в 4 часа дня он умер...
На следующее утро — а может быть, в тот же день... — позвонил телефон. Подошёл я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:
— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?
— Да, он умер.
Тот, кто говорил со мной, положил трубку» (9; 111).
«Человек с копытом»49 не дремал: интерес к умирающему был огромен. Не иначе, как в связи с этим присутствие своего человека «на месте событий» было нормативно-обязательным. Впрочем, это не спасло Ермолинского от ареста; причиной могла послужить дарственная надпись на повести «Роковые яйца» (экземпляр, изъятый у Ермолинского, сохранился в архивах НКВД): «Дорогому Серёже Ермолинскому. Сохрани обо мне память! Вот эти несчастные «Роковые яйца». Твой искренним М. Булгаков. Москва 4.IV.1935 г.» (курсив мой. — О.К.). «На допросе в НКВД 14 декабря 1940 г. Сергей Александрович назвал её «наиболее реакционным произведением Булгакова» из всех, ему известных, поскольку там проявилось неверие в «созидательные силы революции». По утверждению Ермолинского: «Сам Булгаков считал, что «Роковые яйца» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе: он стал рассматриваться как реакционный писатель»» (5; 19—20). После таких разоблачений связист отделался лёгким испугом: «Без сомнения, я счастливчик, чудом спасшийся,» — говорил он о себе.
Две ранних редакции (I и II) содержали ряд оригинальных элементов, исчезнувших из поздних вариантов. Так первая редакция начиналась с предисловия; от названия его осталось только начало первого слова: «Божеств...» (возможные реконструкции: «Божественная комедия с Патриарших» и «Божественная трагедия», что более оправдано, поскольку главное действующее лицо — «гражданин Азазелло», действие происходит в районе Козихи и завершается человеческой трагедией Берлиоза). Рассказ ведётся от первого лица и начинается словами: «Клянусь честью...», что чрезвычайно знаменательно в характеристике МиМ как «рыцарского романа». «Описание появившегося «незнакомца» взято автором повествования из следственного дела «115-го отделения рабоче-крестьянской милиции», в котором была рубрика «Приметы». И приметы эти составляют 15 (!) страниц Булгаковского текста». — Ну ещё бы, таково сатанинское число Тарота, и Булгаков начинает с его гностической манифестации. «Любопытно также, что «незнакомец», прежде чем подойти к беседующей паре, покатался по воде на лодочке». Лодочка, архетипически ладья Ра; скольжение по зеркалу вод сильнее подчёркивает магическую функцию зеркала как предмета, удваивающего пространство. Зазеркалье — тот мир, или мир Тота, и именно из него появляются Воланд и его свита. Есть в этой лодочке и издевательский подтекст: сатана демонстрирует, что ему вполне уютно на Патриарших. И набирая заоблачную эзотерическую высоту, сразу, ещё только в разметке глав, Булгаков записал: «Евангелие от дьявола». Эта ныне хорошо известная вторая глава, обычно называемая «Евангелие от Воланда» (Евангелие от меня, — говорит он в позднейшем варианте), «начинается с рассказа «незнакомца», который «прищурившись... вспоминал», как Иисуса Христа привели «прямо к Анне». По обрывкам слов можно понять, что Иисус подвергся допросу, при этом его обвиняли в самозванстве. В ответ Иисус улыбался... Затем состоялось заседание Синедриона, но в этом месте пять листов обрезаны почти под корешок. <...> Из текста, следующего после обрыва листов, можно легко разобрать, что Синедрион принял решение казнить самозванца, а убийцу Вараввана выпустить на свободу. Это своё решение Синедрион и препроводил Пилату» (7; 507—508).
Вторая редакция — «Копыто инженера» — знаменита тем, что главу «Мания фурибунда» из неё Булгаков пытался опубликовать в издательстве «Недра» в 1929 году, прикрывшись псевдонимом К. Тугай (опять-таки в мае!). Попытка не увенчалась успехом, тем более что незадолго до того, 28 февраля, в ОГПУ поступило донесение неизвестного осведомителя о работе Булгакова над романом о сатане. Как мы уже знаем, через неделю последовало решение Главреперткома о снятии всех пьес Булгакова с репертуара, он остаётся без средств к существованию и в июле пишет письмо Сталину с просьбой разрешить выезд за границу. Несколькими годами ранее при первой публикации «Белой гвардии» один из цепных псов режима, некто Г. Горбачёв, «докладывал»: «Автор великодержавной шовинистической «Белой гвардии» Булгаков и автор контрреволюционных сказок Замятин... открыто издеваются над коммунизмом» (49; 14).
Теперь два друга, соревнуясь, выжали рубильник до упора: Замятин пишет «Мы», Булгаков — МиМ. Булгаков по ходу дела успел ещё неосторожно растревожить-разозлить гнездо швондеров-кальсонеров, так что «Заседание синедриона» было написано «по горячим следам». Для восстановления содержания этого «криминального» текста может послужить фрагмент из романа Густава Даниловского «Мария Магдалина», пользовавшегося после выхода в 1911 году шумным успехом и переизданного в новом переводе в 1923 году. Предисловие к советской публикации написал просвещённейший еврей-литературовед Аркадий Горнфельд, и под бранчливое сетование на то, что текст Даниловского иногда слишком близок к «Протоколам сионских мудрецов», он сладострастно приводит огромную цитату, почти полностью содержащую концептуальный монолог Анны в тайных покоях Каиафы: «Миновали для нас времена Маккавеев, мечом Израиль уже ничего не добьётся... Наше золото, которым надо опутать весь свет, крепче железа. Как паук, ловя мух, снуёт свою паутину по всем углам, так мы раскинем нашу сеть по всем углам Земли, пока опутанные ею народы не подчинятся нашей власти. Они будут считать себя властелинами, — глупые, они будут действовать согласно нашей воле, подобно мельнице, работающей по воле потока. Их колесницы станут на месте, как зачарованные, когда мы откажемся дать мазь наших кошельков для их осей, и двинутся в путь лишь тогда, когда мы того захотим, ибо вожжи будут в наших руках... Но делать всё это нам надлежит тайно, разумно, планомерно и с внешним смирением, дабы они постоянно считали себя владыками и не замечали ничего до последней минуты»50. Да, люди заняты серьёзным и важным делом, а тут сунулся какой-то со своими юродствами.
Булгаков, испытывавший со стороны синедриона (он же «кабала святош») адское давление, просто-таки травлю, прописывает эту сцену не менее яростно.
Реакция Пилата на решение синедриона была ужасной. «Впервые в жизни..., — продолжает рассказ Воланд, — я видел, как надменный прокуратор /Пилат/ не сумел... сдержать себя... /Он/ резко двинул рукой... /и опроки/нул чашу с ордин/арным вином. Вино/ при этом расхле/сталось по полу, чаша разбилась/ вдребезги и руки /Пилата обагрились/... Я слышал, к/ак Пилат прошипел:
— O gens scele/ratissi/ma, taeterrima /gens!/51 Затем повернулся /лицом к/ Иешуа и сказал, /гневно сверк/нув глазами:
— /Благодари т/вой язык, друг, а /не ужасного/ человека председателя Синедриона/ Иосифа Каиафу...»
Прокуратор вынужден осудить Иешуа на смерть.
«Таким образом, Пилат/вынес/ себе ужасающий пр/иговор/...
— Я содрогнулся, — пр/одолжал незнакомец/... всё покатилось...» (7; 509; акцентировка и курсив мои. — ОК).
Вторая глава первой редакции Романа содержала все иерусалимские события, и по существу, Воланд тратит свой евангельский пыл на двух неказистых московских обывателей, тогда как драматургическая острота и сатирическая соль заключается только в той пикантной ситуации, что сам сатана беседует с двумя «атеистами». Ситуационное напряжение сцены поддерживается не гем, что звучит, а тем, что рассказывается это тоном очевидца. Поэтому в первой редакции есть сцены, затем исчезнувшие из произведения: и искушение в пустыне, и заседание Синедриона, и шествие Иисуса Христа на казнь, и некоторые другие (с упоминанием таких известных персонажей, как Вероника и Симон Киренеянин, помогавший Иешуа Га-Ноцри нести крест).
Достаточная традиционность в изложении «божественной» линии оборачивается столь же привычным по устоявшемуся канону образом сатаны. — Он всем знакомый искуситель: Ивана он подзадоривает растоптать начерченный им на песке лик Христа, а Берлиоза — сдержать подопечного от опрометчивого шага. Берлиоз, естественно, «умыл руки»; Иванушка, разумеется, оказался дурачком и «разметал» сапогами рисунок... В общем, шкодник-одиночка теребит понемножку москвичей, не испытывая никакого «чувства морального удовлетворения». Так длится до тринадцатой главы, когда соответственно «чёртовой дюжине» в виде свиты в окружении Воланда появляются новые персонажи: рожа с вытекшим глазом и провалившимся носом, маленький человечишко в чёрном берете, рыжая голая девица и два кота, Бегемот и Бонифаций. Это абсолютно Гойевский набор: рожа — из «Дома глухого», человечишко — оттуда же, остальные — из «Капричос». А поскольку нет Коровьева, гаерские функции Воланд раннего образца берёт на себя.
«— Тогда вынужден я буду в суд заявить, — твёрдо сказал буфетчик. <...>
— Не погубите сироту, — сказал плаксиво Воланд и вдруг встал на колени».
Впрочем, он и не ломает из себя Главного.
Бегемот! <...> Ты у канцлера был? — спросил Воланд. <...> Кот молчал.
— Когда же он успеет? — послышался хриплый сифилитический голос из-за двери, — ведь это не ближний свет! Сейчас пошлю» (7; 205—206; курсив мой. — О.К.).
Конечно, выражение «не ближний свет» обыграно совершенно раблезиански. Другое дело, что смысловая антитеза — непостижима: не то это тьма, которая располагается за повествовательной зоной; не то это не ближний и не свет, а нечто принципиально идеографически-дальнее, и тогда компания дальнозорких оказалась волею Высших Сил в «мире близоруких», контрастно проявляя среди тупиц и межеумков своё естественное качество — дальновидность. Булгаков действует методом проб и ошибок, движется на ощупь, но сердце его настроено в унисон с лабиринтностью. Постоянно он молит Бога о лоции, и лишь однажды, при перепечатывании текста, сетует на неимоверную сложность материала. Правда, к тому времени стало ясно, что он выдюжил до конца.
Следующий, 30-й, оказался годом «смены кожи, сброса молочных зубов». Самоубийство Маяковского, смена профессии (он стал режиссёром сразу в двух театрах), телефонный разговор со Сталиным оформили этот период как перевал, переход через смертный рубеж (1930 = 1 + 9 + 3 + 0 = 13, 13-й аркан Смерть-и-Преображение). Накануне была создана знаменитая шестая глава «Чёрного мага» («Копыто инженера») — «Марш фюнебров», абсолютно гофманиаская как по форме, так и по содержанию. В ней рассказывается о похоронах Берлиоза. «Бежавший из больницы Иванушка («Дежурившие в больнице санитары заметили убегающего чёрного пуделя в шесть аршин. Это был Иванушка Бездомный».) появляется на процессии в виде трубочиста (цветовое соответствие превращения чёрного пуделя. — ОК), внеся в её ряды дикую сумятицу. Затем, овладев повозкой и телом друга, он мчится по Москве, сея вокруг ужас и панику. От такой езды покойник вылез из гроба, и у очевидцев сложилось впечатление, что он управляет колесницей. В конечном итоге колесница вместе с гробом сваливается на Крымском мосту в Москву-реку, но Иванушка чудом остаётся жив, упав до этого с козел» (7; 510; курсив мой. — О.К.). За гротесково-карнавальной формой изложения сюжета скрывается серьёзнейшее изъяснение мистики событий жизни автора повествования. Метания Булгакова вдоль черноморского побережья с желанием эмигрировать и железная рука судьбы, помешавшая ему это сделать, — вот подлинный предмет «символического описания» в этой главе. Иванушка-дурачок — это, конечно, по-ершовски добродушный и простоватый «русский народный герой», который «чудом остаётся жив», ибо ему милосердно подыгрывают Высшие Силы, каждый раз удерживая на краю. И... неудивительно, что мост Крымский, но обратите внимание, что упал дурачок с азазелловских козел, а это выстраивает уже недвусмысленный семантический ряд. В последующих главах Булгаковская демонография приводит к демонологу Фесе, о ком уже было упомянуто в связи со Львом Николаевичем Толстым.
Булгаковский кладбищенский тематизм этим не исчерпывается: в год «самосожжения» он пишет нечто вроде стихотворения, подводя итог прожитому и пережитому. Ненавистная ему стихотворная форма не далась, набросок далёк даже от черновой завершённости. Перед вами его реконструкция:
Надо честно сознаться,
Подбивая итог,
Там нам сны не приснятся,
Это верно, мой Бог.Пью судьбы я царскую водку,
И веригами на раменах,
Чёрной сотней в сердце воткнутый,
Меня обнимает монах52.Почему ж ты жесток так, Господи,
Почему ты меня не берёг? —
Поперёк вдохновения госпиталь.
Почему он меня подстерёг?Вспомню ангелов, тут же разом
Жизнь предстанет наоборот,
И ударит мне газом
В позолоченный рот.В тот же миг подпольные крысы
Прекратят свой флейтовый свист,
Я уткнусь головой белобрысою
В недописанный лист.Вероятно, собака завоет,
Задымится отброшенный ствол...
Утром лужу замоют,
Пожалеют испорченный стол.Почему ты явился непрошенный,
Почему ты тогда не кричал,
Почему твоя лодка брошена
Раньше времени на причал?Да, не раз я поганой ложью
Необдуманно пачкал уста,
Совесть сделалась неосторожно
И темна и нечиста.Да и впрямь, есть достойная кара ли
Для меня, о мой Бог? —
Под твоими ударами
Я, Господь, изнемог.
Листок с набросками датирован 28 декабря 1930 г., а опус озаглавлен «Funerailles» («Похороны»). Это поздний отклик на смерть Маяковского, в похоронах которого Булгаков принимал участие. Он не испытывал неприязни к старшему53 собрату по перу. Вот воспоминания Марики Чимишкян. В сентябре 1926 года «она приехала из Ленинграда в Москву, и на вокзале её встречали Маяковский, хорошо знакомый ей по Тифлису, и Булгаковы. «Булгаков и Маяковский отошли в сторону, о чём-то тихо переговорили, и Маяковский отобрал у меня билет (у меня был бесплатный железнодорожный билет) — сказал, что это потом решим, когда я поеду в Тифлис! — и записал телефон Булгакова, а Булгаков подхватил мой чемодан и повёл меня в машину — она уже ждала»» (22; 379—380). И только выпады Маяковского в оставшиеся несколько лет омрачили их отношения. — Смерть «горлана» поставила точку в склоке. На следующий день после похорон Лиля Брик говорила: «Он не понимал абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб, похороны. Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что не застрелился» (цит. по 22; 647). Маяковский своим выстрелом снял булгаковский палец с курка, поскольку Булгаков и сам был близок к самоубийству. Так что перед нами не литературная реминисценция, а острейший психологический документ.
Вернёмся к Роману.
Мистически, в аспекте тематизма «Марша фюнебров», год заканчивался работой над «Мёртвыми душами» — фарсовая трагедийность ситуации говорит сама за себя. Но Булгаков на следующий, 1931 год, решил, что «кажись пронесло» — и принялся за старое. На наброске, озаглавленном «Полёт Воланда», сверху написано, как молитва: Помоги, Господи, кончить роман. 1931 год. В эпизоде со свистом звучит знаменательная реплика: «Вы не возражаете? — вежливо обратился Воланд к Маргарите и ко мне» (курсив мой. — О.К.). Авторская самоидентификация с Мастером (Поэтом) здесь почти абсолютна. Однако вынужденный разрыв с Еленой Сергеевной, ставшей уже подругой, помощницей и тайной женой, слишком кровоточил, чтобы заниматься лирикой. После окончательного воссоединения (нужна была живая Маргарита для «письма с натуры») в 1932 году прямо в период свадебной поездки в Ленинград работа над Романом возобновляется активно и вдохновенно. Год Стрельца, едва не кончившийся пулей для Булгакова (роль фрейшютца сыграл киноактёр Маяковский), сменился годом Скорпиона со скандалами, которые устраивал бывший муж, и угрозами пистолетом (за своего рода «неотработку» в год Стрельца), квартирными проблемами и прочим.
Недаром знаки Скорпиона и Девы почти тождественны: к концу года страсти улеглись и последовало кардинальное изменение судеб, работа потекла как по маслу и три года подряд повторялась со сверхъестественным постоянством. Так началась третья (III) редакция, озаглавленная «Великий канцлер»54. Глава Ведомства Справедливости назван Великим (вспомним, что в первой редакции он поименован просто канцлером с маленькой буквы) потому, что в результате происшедших событий выяснилось — есть справедливость на свете. В тексте появляется размах: Поэт вырастает до величественной монументальности Фауста, а Петербург, город искусственный, умышленный и «выстроенный», как бы визуализирует вторую часть Гётевской поэмы. Возникают контрастные пары: Маргарита и Фауст, Маргарита и козёл. Божественной комедии, по обстоятельствам, не получается; получается только Божественная трагедия. Т. е. «козлиная песнь».
«Ты не поднимешься до высот. Не будешь слушать мессы», — записывает Булгаков план будущего текста новой редакции. Он переживает, что для собственного счастья пришлось разрушить счастье чужое, и заранее лишает себя «высшего проходного балла» — если бы он знал (хотя догадывался), какую страшную цену потребует с него подвиг жизни. Он ещё мнит помощь со стороны Сатанаила греховной, и только Маргарита — «забойщица» в этом деле — настойчиво убеждает его в обратном. Проскальзывают даже фальшивые ноты: «Чёрная месса (будущий бал у Сатаны). — Ты... не будешь слушать романтические...» — Булгаков налагал на себя епитимью, не помышляя о трансцендентальном благополучии. Он был согласен претерпевать... Он — но не «Маргарита». Елена Сергеевна не моргнув узнала о смерти первого мужа, сына великого Мамонта Дальского. Затем спокойно встретила известие о расстреле отца её младшего сына, маршала Тухачевского; в этот день они только засобирались навестить Серёжу, отдыхавшего с няней в Подмосковье. Как видим, мужества ей было не занимать. Да и женственности — тоже. Вероятно, это и есть колдовская смесь: чувственность без сентиментальности, восторженность пополам с осторожностью, капризность — и выносливость под ударами судьбы. — Ба, да она ведьма! Булгаков подтверждает это Гоголевское определение: «Тут и я понял, что ты ведьма! Присушила меня!»
Год Скорпиона (1932) начался с милостивого разрешения «самого» на возобновление «Дней Турбиных» на сцене МХАТа55. В этой ситуации уже можно было работать. В три приёма Булгаков заканчивает более или менее полную версию Романа, но обрывает на полуслове последнюю главу, делает новую разметку глав и, «существенно изменяя структуру» целого, тут же садится за написание этого нового варианта. В процессе работы над третьей редакцией акценты сместились на Поэта (Мастера) и его возлюбленную, причём аналогия Гётевской паре становится всё менее уловимой. Из сатирического фарса произведение превращается в мистическую трагикомедию с мощной лирической сердцевиной. Булгаков восходит на новую ступень, с неё открывается столь величественная гностическая панорама, что на тетради для окончательного (по основным элементам) варианта Романа Булгаков выводит: «Дописать раньше, чем умереть». Это приказ-установка не только себе, но и Высшим Силам.
И Они не посмели ослушаться.
Год Девы приходит с доминацией Маргариты в Романе, именно этот унисон делает наше наложение на Зодиакальный круг достоверным. Два года пишется четвёртая (IV) редакция, пока, наконец, в июле 1936 года, закончив главу «Последний полёт», Булгаков поставил в её конце лихо чиркнутое это самое слово. Не забудем, что год Льва (1935) был отмечен встречей с Экзюпери, рыцарской подпиткой от великого тамплиера.
С начала 1937 года Булгаков было взялся за спокойное переведение текста в беловик, да родились новые идеи, и он приступает к пятой (V) редакции, поставив в начале рукописи заголовок «Князь тьмы». Неудивительно, что было написано всего тринадцать глав, причём последняя глава «Полночное явление» обрывается на фразе: «Имени её гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...» Это узел подмонтировки намертво Мастера и Маргариты — ещё бы, такова смысловая доминация года Близнецов56. На Дендерском зодиаке Изида изображена ведущей за руку своего повзрослевшего сына Гора; матриархат уступает место ещё героической, в силу молодости, патриархальности: мужское начало начинает доминировать в событийной панораме человеческой истории. Роман Булгакова не просто иллюстрирует это эзотерическое значение, но и художественно манифестирует его. Ибо именно Маргарита вводит Мастера в круговорот событий.
23 октября. «У Миши назревает решение уйти из театра... Выправить роман (дьявол, мастер, Маргарита) и представить».
12 ноября. «Вечером М.А. работал над романом о Мастере57 и Маргарите».
Значит, стартовала шестая (VI) редакция, на титульном листе первой её тетради Булгаковым торжественно начертано: «М.А. Булгаков. // Мастер и Маргарита. // Роман. // 1928—1937». Близнецы МиМ остались в названии Романа навсегда. Повествование можно было начинать. Андрогинная полнота оказалась достигнутой.
В течение полугода было написано шесть толстых тетрадей. На последней автором помечено: «Конец. // 22—23 мая 1938 г.» Эпоха Тельца — эпоха библейских праотцов и патриархов. Столь же солидным оказался и год Тельца58. Через несколько дней началась перепечатка Романа. Работу вела сестра Елены Сергеевны — Ольга Бокшанская. Булгаков диктовал по тетрадям, шлифуя и корректируя текст. Сосредоточенность и мозговая атака дали возможность свести воедино, циклизировать линейную структуру повествования. 25 июня работа была завершена. Так появилась седьмая (VII) редакция текста МиМ, его машинописный оригинал.
Восьмой (VIII) стала последняя правка.
Он успел. Он обогнан смерть59.
Аватарный год Овна ушёл на редактирование готового текста. Эта окончательная правка длилась до 13 февраля 1940 года. «Лишние» полгода Булгаков получил в подарок за героизм. Великое рондо завершилось в том же знаке, где и началось: Булгаков отбыл с земли вместе с рыбой Гора. Альфой и омегой двенадцатилетнего подвига оказалось созвездие Христа. Он принял в Царствие Своё своего верного рыцаря. Он упокоил его в Свете, ибо Ему он служил, Ему поклонялся. Да и возможно творчество лишь при Свете Истины.
Мистика генезиса и модификационного становления Романа содержит в себе два фундаментальных принципа: непрерывное обращение к Богу за вдохновением и поддержкой и непрестанное взаимодействие с Сатанаилом при воплощении божественного задания. Структура такого творческого процесса является беспрецедентной в панораме «дневной культуры» и ординарного мышления. Выясняется, что только так создавалось всё экстраординарное на земле, ибо всё великое в зоне человеческой креативности — воплощение творческих замыслов Планетарного Логоса, который и есть подлинный Автор гениальных произведений. Именно стартовая интенция, а затем бесконечно длящаяся «сатаническая поэма» при воплощении являлись свидетельством божественной высоты прицела Булгакова.
Так, уже в первом варианте повествования было написано 15 глав, составивших 160 листов. (Напоминаю, что 15-й аркан Тарота — Сатанаил, а его числовое значение — 60, что было фиксировано названием Чёрный маг.)
Затем шло вступление, где объявлялось, что автором «записок» является «очевидец», ни в малейшей степени не претендующий на писательские лавры: «Клянусь честью, страх пронизывает меня, лишь только берусь я за перо, чтобы описать чудовищные происшествия. Беспокоит меня лишь то, что не будучи по профессии писателем я не сумею все эти невероятные происшествия сколько-нибудь связно передать. Бог с ними, впрочем, со словесными тонкостями... за эфемерною славой писателя я не гонюсь, а меня мучает...»60 Пять61 раз (перевёрнутая пентаграмма тоже символ Сатанаила — такова форма его козлинообразной маски-хари) переписывалось вступление, чтобы затем исчезнуть вовсе.
Далее шёл «Пролог», ставший в дальнейшем известной Первой главой. Слово это, от которого Булгаков вынужден был в конце концов отказаться, переведя из текста в подтекст в силу его невероятной клишированности, содержит между тем, важнейшую в «случае Булгакова» информацию: разговор пойдёт про Лог(ос), о Планетарном Логосе — в земном воплощении Иисусе Христе (автор называет его то Иисус, то Ешуа, то Иешуа).
Центром сцены, занимающей три первых главы Романа, становится «Евангелие от Воланда», неслыханное, громоподобное, невероятное, причём Булгаков настойчиво — чтобы его не приняли за шутейную дерзость и хохму — подчёркивает, что это «Евангелие от дьявола», а не просто некоего сомнительного и непонятного иностранца. И хотя фантомность персонажа фиксирована как его ниоткуда-появлением, так и столь же сверхъестественным побегом-ретировкой, достоверность свидетельства — евангелия, звучащего из его уст, — обладает такой неимоверной силой, что зыбко-сомнительными начинают выглядеть бытовые «реальности» Москвы и её жителей, являющиеся обыденной картиной экспозиции. Берлиоз, весь будто бы воплощение этой «железобетонной» данности и её охранитель, первым подвергается проверке реальностью трансцендентного, представляемой и защищаемой «иностранцем». Результат столкновения этих двух правд известен. Владимир Миронович Берлиоз (так звали этого персонажа в первой редакции Романа с намёком на овладение всем посюсторонним миром62 своим плоским позитивизмом), маленький лысоватый крепыш, выступает в борцовском единоборстве «Володья contra дьяволо» «от имени и по поручению» главного российского Володи первой четверти века. С той же целью носили бородки клинышком и брились наголо, кто был лохмат.
Самоуверенный и торжествующий здравый смысл с хитрым прищуром «подкованных» нагловатых63 глаз встречает в качестве оппонента следующее вроде бы вполне человекообразное существо: «Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, а с левой — золотые. Одет он был так: серый дорогой костюм, серые туфли заграничные, на голове берет, заломленный на правое ухо, на руках серые перчатки. В руках нёс трость с золотым набалдашником. Гладко выбрит. Рот кривой. Лицо загоревшее. Один глаз чёрный, другой зелёный. Один глаз выше другого. Брови чёрные. Словом — иностранец». Это описание взято из третьей редакции Романа, когда огненная лава сюжета стала немного остывать, а ткань повествования упорядочиваться и уточняться. Более половины приведённых определений соответствуют портрету Антуана де Сент-Экзюпери (особенно высокий рост и смуглота) и ничего — оперному условному Мефистофелю. Ещё бы! Речь идёт о феномене внутренней структуры (она обнаруживается во время рассказа-евангелия о Христе), а отнюдь не внешней. Внешность же никак не противопоставлена интеллигентности, деликатности, воспитанности, характерных для «образованных слоёв населения».
И всё же начитанный самозванец Берлиоз64 имеет очную ставку с подлинным Владыкой Знания, в том числе знания о невидимом, являющимся прямым продолжением видимого. Поднахватавшийся пустышек-слов редактор, цинически не числящий за духовными понятиями ничего реального, вдруг сталкивается нос к носу с этой «невозможной» реальностью. Жрецы и пресвитеры «культа личности», повторявшие как заклинание знаменитую абракадабру «учение марксизма-ленинизма непобедимо, потому что оно верно», привыкли не иметь себе серьёзных оппонентов, ведь для таковых были созданы «чистилища» Лубянки; они оттачивали свой «острый ум» на простофилях типа Ивана Бездомного, паразитируя на общественной темноте, безграмотности и невежестве. Их галопирующее холуйство перед режимом, особенно выпукло видимое на судьбе таких небездарных людей, как Луначарский, Мейерхольд и Маяковский, стимулировалось созданием для них привилегированных условий, недоступных для «простых смертных». Из-за особого положения у окружающих возникало ощущение почти бессмертности, «вознесённости» этих персон над условиями земного существования. Так что маэстро Воланд не на Берлиоза бедного (даже — демьянобедного) ополчается; он экзаменует принцип и выводит на чистую воду ритуальную фальшь. Булгаков, пообещав «разъяснить эту сову» в дневниковой записи, осуществляет своё намерение: в Берлиозе разоблачается «сова» — совковая власть, в Иване Бездомном — русский авось, против коего он выступал настойчиво и постоянно. Исследователь отмечает: «Булгаков ненавидел в русских духовную размагниченность и бездеятельность, желание положиться на волю судьбы, на авось, и относил это к «страшным чертам» русского народа» (49; 39). И только Сатанаил знал, чем набита «сова», даже без вспарывания её брюха.
Сожжённый было Роман-феникс возрождается вновь: «В меня вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатёнках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадёт в Лету! Впрочем, я, наверное, скоро брошу это» (16; 301; курсив мой. — О.К.). Значит, чтоб написать новое откровение о Христе, нужно чтоб в человека вселился бес! Impossible, but the fact is. Как и всё из духовной сферы, это нелогично только для земных мозгов, живущих по законам посюсторонности. Г.К. Честертон высказал однажды справедливую мысль: «Безумен не тот, кто потерял рассудок; безумен тот, кто потерял всё, кроме рассудка». Совсем как Мастер, недооценивая свои волевые качества, Булгаков ещё в 1923 году записал в дневнике: «Я, к сожалению, не герой». Через восемь лет в письме Вересаеву он ещё больше сгустил краски: «...я стал беспокоен, пуглив, жду всё время каких-то бед, стал суеверен». На следующий год Павлу Попову: «Пасмурно у меня на душе». «Вот новая напасть. В последние дни, как возьмусь за перо, начинает болеть голова. Устал». И главное: «Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло» (курсив мой. — О.К.). Шутливо: «Дьявол какой-то меня заколдовал».
Но — Роман не бросил.
Беса (дьявола) — заставил помогать себе в делах многотрудных.
Выдюжил — несмотря на нечеловеческое нервное напряжение 1937 года и последующих.
Творил — на краю могилы, заглядывая в неё не раз.
После снятия «Бега» Л. Белозерская вспоминала: «Ужасен был удар... Как будто в доме объявился покойник» (49; 43).
После отмены постановки «Батума». Из дневника Елены Сергеевны: «Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил — покойником пахнет» (4; 277).
И наконец, автопортретный «Театральный роман» назван «Записки покойника».
Когда Экзюпери нашёл Гийоме после аварии в Андах, измученного и обмороженного, шедшего в никуда, только чтобы не замёрзнуть, тот сказал ему всего одну фразу: «Я вынес то, чего не вынесло бы ни одно животное».
Таково достоинство человека.
Оно потребовалось в полноте от замученного, больного человека, поскольку он был призван.
И работа пошла. Как Гийоме в Андах, спотыкаясь и падая. Не могла не идти.
Потому что — «в меня вселился бес». Тот самый, бис-302.
Этот бес излагает Новозаветные события.
«— Должен вам сказать, — заговорил Владимир Миронович, — что у вас недурные знания богословские. Только непонятно мне, откуда вы всё это взяли.
— Ну так, ведь... — неопределённо ответил инженер, шевельнув бровями.
— И вы любите его, как я вижу, — сказал Владимир Миронович, прищурившись.
— Кого?
— Иисуса.
— Я? — спросил неизвестный и покашлял, — кх... кх..., — но ничего не ответил.
— Только, знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, — всё не сводя глаз и всё прищурившись, говорил Берлиоз.
Инженер улыбнулся.
— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней.
Опять оба писателя уставились на инженера.
— Так вы бы сами и написали евангелие, — посоветовал неприязненно Иванушка.
Неизвестный рассмеялся весело и ответил:
— Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...»
Затем идёт раззадоривание Ивана насчёт затаптывания рисунка с обзыванием его «интеллигентом». Тот рассвирепел.
Так смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.
— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант, — стойте!
Иванушка застыл на месте.
— После моего евангелия, после того, что я рассказал о Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — и острый палец инженера вонзился в небо».
Берлиоз «умывает руки» — и Иван растаптывает портрет Христа.
«— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил:
— Ну, вот, всё в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить».
Берлиоз направляется к злополучному турникету.
«Псы во главе с Бимкой вереницей вдруг снялись и побежали не спеша за Владимиром Мироновичем. Бимка неожиданно обогнал Берлиоза, заскочил впереди него и, отступая задом, пролаял несколько раз. Видно было, как Владимир Миронович замахнулся на него угрожающе, как Бимка брызнул в сторону, хвост зажал между ногами и провыл скорбно.
— Даже богам невозможно милого им человека избавить!.. — разразился вдруг какими-то стихами сумасшедший, приняв торжественную позу и руки воздев к небу».
Какая грандиозная гностическая панорама: Христос и Таро, Дьявол и Гомер! И собака, предупреждающая странника из 21-го аркана Дурак, старается сослужить добрую службу мистически глухому «атеисту» (правильнее, аутисту Небес).
На наших глазах протекает пробный «сеанс белой магии» с разоблачением (Берлиоза). После этого маг приступает к организации, а потом и проведению большого публичного выступления в «Варьете»65 (или «Цирке», как называлась — в соответствии с дневниковой записью Е.С. от 26.XII.1937 — одна из глав ранних редакций Романа). Интересно, что (для связки с Ершалаимскими главами) в ранних вариантах персонажи этого заведения носят фамилии Благовест и Библейский, ставшие в конце концов Варенухой и Римским. Кто известен ныне как Жорж Бенгальский, претерпел две любопытные модификации: Мелунчи (Мелузи) и Чембукчи с аккуратным намёком на известного в те годы конферансье Гаркави, жившего, кстати, неподалёку в Ермолаевском переулке. Там же обитал и другой не менее известный представитель жанра — Смирнов-Сокольский, на его фамилию в последней редакции похожа фамилия эстрадного халтурщика. Гарася Педулаев, позже Стёпа Лиходеев, соединил в себе смешное имя не то Гарик, не то Герасим с фамилией булгаковского соавтора № 1 Пензулаева, с кем на пару (и на пару) они сляпали «пиэссу» «Сыновья муллы» во Владикавказе в 1920 году. Так вот, этот Гарася, оказавшись в «родном городе» забрасывает подчинённых странными телеграммами, почти «телего-рамами», чудного содержания, например, «Маслов уверововал. Освобождён». — И так далее. Но начинает он ещё более громоподобно: «Христом-Богом-Господом прошу спасти погибаю Педулаев». Это почище Маслова. Да только освободить его «от всего этого кошмара» некому. Таким образом, сеанс белой магии (в поздних вариантах чёрной) «с разоблачением», то есть низвержением с заоблачных высот всяких «дутиков», вроде «акустика» Семплеярова, начинается с первой минуты появления «специалиста по белой магии и жонглёра» в Москве. Гротесковость достигает «гомерических степеней», когда «русский народный герой», дурак Иванушка, организует свою трагикомическую погоню за Воландом с желанием разоблачить. Для начала Булгаков максимально выясняет его «весовую категорию».
«Необходимо быть последовательным... докажите мне своё неверие, — Воланд говорил вкрадчиво, — наступите на этот портрет, на это изображение Христа. (На песке был изображён «безнадёжный, скорбный лик Христа», к которому Иван — по более поздней версии — пририсовывает издевательское пенсне, всё равно не уменьшая сходства. — ОК) <...>
— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.
— Боитесь, — коротко сказал Воланд. (В предшествующем варианте было: «А если он разгневается на вас? Или вы не верите, что он разгневается?» — ОК)
— И не думаю. (К предыдущему «боитесь» это добавляется как «& не думаю» — ну, дурак, одно слово. — ОК)
— Ну так вот, — сурово произнёс Воланд, — позвольте вам заявить, товарищ Безродный, что вы врун свинячий. Да нечего, нечего на меня глаза таращить!
Тон Воланда был так внезапно нагл, что Иванушка растерялся. По теории нужно было бы сейчас дать в ухо собеседнику, но русский человек, как известно, не только нагловат, но и трусоват66.
— Да, да, нечего глаза таращить, — продолжал Воланд, — и тоже мне, незачем было трепаться! Безбожник тоже, подумаешь! Тоже богоборец, борется с Богом!» (22; 393—394) И далее — оскорбление названием «интеллигент», абсолютно незаслуженным. На самом деле: «...Мне бы у Василия Блаженного на паперти сидеть...
И точно, очутился Иванушка на паперти. И сидел Иванушка, погромыхивая веригами, а из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах. В трясущейся руке держал посох, острым концом его раздирал плиты. Били колокола. Таяло.
— Студные дела твои, царь, — сурово сказал ему Иванушка, — лют и бесчеловечен, пьёшь губительные, обещанные диаволом чаши, вселукавый мних. Ну, а дай мне денежку, царь Иванушка, помолюся ужо за тебя.
Отвечал ему царь, заплакавши:
— Почто пужаешь меня, Иванушка. На тебе денежку, Иванушка-верижник, Божий человек, помолись за меня!
И звякнули медяки в деревянной чашке» (7; 242).
Эти былинно-зеркальные переборы (они же — провалы в памяти) предшествуют погоне за Воландом. Милосердный Маг гуманно подсказывает Берлиозу «путь отступления», выдвигая «предположение», что у того «начальник атеист, ну, и понятно, все равняются по заведывающему, чтобы не остаться без куска хлеба». «Эти слова задели Берлиоза. Презрительная улыбка тронула его губы, в глазах появилась надменность. — Во-первых, у меня нет никакого заведывающего, — с достоинством сказал он, — и вполне резонно сказал: Владимир Миронович достиг в жизни уже такого положения, что приказывать ему никто не мог, равно как не мог давить на его совесть — никакого начальства над собой он не имел» (22; 395).
Поразительно, что при этом достаточно чётко обозначенном адресате его никак не могут найти, «прикладывая» людей соподчинённых, а потому и сразу не годящихся в претенденты. Единственный человек в совке, над которым не было начальства, был Ленин. Он не имел орденов, наград, почётных званий, ибо всё это заменяли псевдоним и подпись. «Лысый всюду был первый, и без него ничего не могло произойти». Нет, это не эмигрантский памфлет на «вождя революции» — это произносит в дурдоме Иван о Берлиозе. Если б Роман при жизни автора был опубликован, не сносить бы ему головы: ищейки режима были проницательней булгаковедов. Недаром, приведя цепь расшифровок-разоблачений, Булгаков, смело подняв забрало, писал в письме Правительству: «И я заявляю, что пресса СССР совершенно прав а». К мелким «Владленам» это относилось по типологической аналоговости. Так как внутри каждого амбициозного фюрера сидел безродный, бездомный, беспризорный, покинутый Попов-Понырёв-(неу)Тешкин, с которого позолота хамской независимости слетает в одночасье. Писатель, журналист и «общественный деятель» Пончик-Непобеда из пьесы «Адам и Ева» произносит следующий монолог: «Господи! Господи! Прости меня за то, что я сотрудничал в «Безбожнике». Прости, дорогой Господи! Перед людьми я мог бы отпереться, так как подписывался псевдонимом, но тебе не совру67 — это был именно я! Я сотрудничал в «Безбожнике» по легкомыслию... Воззри, о Господи, на погибающего раба твоего Пончика-Непобеду, спаси его! Я православный, Господи, и дед мой служил в консистории...»
Пасует и твердокаменный Берлиоз-Мирцев в последние мгновения жизни: «Луна сбоку прыгнула и разлетелась в куски, чей-то голос в мозгу крикнул «О Боже! Неужели!»» (6; 38). Мысль эта перескакивает и в голову Ивана: «Вспоминая, как голова подскакивала в сумерках по мостовой, Иван несколько раз укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что, только что он говорил с этим человеком и через минуту... голова... голова... О Боже, как же это может быть?» (6; 38)
А это из «Великого канцлера»: «Шатаясь, с мёртвыми глазами, налитыми тёмной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка «Безбожник», положил на себя крестное знамение и прохрипел:
— Никогда валюты в руках не держал, товарищи, Богом клянусь!
И тут супруга Босого, что уж ей попритчилось, кто её знает, вдруг воскликнула:
— Покайся, Иваныч!
Чаша страдания... Босого... переполнилась, и он внезапно ударил свою супругу кулаком по лицу, отчего та разроняла битки по полу и взревела» (7; 68; курсив мой. — О.К.).
Это ещё и окончание сна о Ясной Поляне. Битки уже изготовлены, поданы, а Лев, резв — бац Софью Андреевну по зубам по поводу «покаянного псалма» кулаком-мироедом!.. Вот вам и Филемон и Бавкида!
Иван, хоть с него почти нечего взять по причине его дураковатости, «член того же кружка», что и Босой, тоже при первом ударе судьбы переходит на язык прозелитизма и истовости. В Савёловском переулке близ Остоженки он увидел Воланда, вошедшего в подъезд. Иванушка — за ним. «Швейцар вышел из-под лестницы и сказал:
— Зря приехали, граф Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаёк... Каждую субботу будут ходить.
И фуражку снял с галуном.
— Застрелю! — завыл Иванушка, — с дороги, арамей!»
Тут уже «Николай Николаевич» приобретает графское достоинство и становится как бы братом знаменитого Льва. Но Иван, не найдя в пустой квартире ничего кроме «совершенно голой дамы с золотым крестом на груди и мочалкой в руке», выскакивает вновь на улицу.
««Так его не поймаешь», — сообразил Иванушка, нахватал из кучи камней и стал садить ими в поезд. Через минуту он забился трепетно в руках дворника сатанинского вида.
— Ах, ты, буржуазное рыло, — сказал дворник, давя Иванушкины рёбра, — здесь кооперация, пролетарские дома. Окна зеркальные, медные ручки, штучный паркет, — и начал бить Иванушку не спеша и сладко.
— Бей, бей! — сказал Иванушка, — бей, но помни! Не по буржуазному рылу лупишь, по пролетарскому. Я ловлю инженера, в ГПУ его доставлю.
При слове «ГПУ» дворник выпустил Иванушку, на колени стал и сказал:
— Прости, Христа ради, распятого же за нас при Понтийском Пилате68. Запутались мы на Каланчовской, кого не надо лупим.
Надрав из его бороды волосьев, Иванушка скакнул (как бы на невидимом коньке-горбунке. — ОК) и выскочил к Храму Христа Спасителя. Приятная вонь поднималась с Москвы-реки вместе с туманом. Иванушка увидел несколько человек мужчин. Они снимали с себя штаны...» (7; 243—244).
А до этого в «домовой погоне» происходит вот что:
«Он сел, чтобы отдышаться на табурет, и тут ему особенно ясно стало, что, пожалуй, обыкновенным способом такого, как этот иностранец, не поймаешь.
Сообразив это, он решил вооружиться свечкой и иконкой. Пришло это ему в голову потому, что фонарь осветил как раз тот угол, где висела забытая в пыли и паутине икона в окладе, из-за которой высовывались концы двух венчальных свечей... Под большой иконой помещалась маленькая бумажная, изображающая Христа. Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку, нашарил замок в двери и вышел на чёрный ход, оттуда в огромный двор и опять в переулок».
Соблазнённый полночной пролетарской купелью, среди людей, которые «по-лягушачьи прыгали в воду», Иван разделся и ласточкой сиганул вслед за ними. Когда он вылез на парапет, одежды своей он уже не нашёл. «Из вещей, принадлежащих Ивану, некурящий похититель оставил лишь свечу, иконку и спички» (7; 467). «Вместо оставленной им груды платья находились на берегу вещи, виденные им впервые. Необыкновенно грязные полотняные кальсоны и верхняя рубашка-ковбойка с продранным локтём» (7; 46). Иван надевает это всё на себя и озабоченный государственной важности происшествием направляется в Кремль, причём чувствует себя спасителем «отечества в опасности».
...«Сусанин в кальсонах», Кремль, ГПУ и...
«Над Храмом в это время зажглась звезда, и побрёл Иванушка в одном белье по набережной, запел громко:
В моём саду растёт малина...
А я влюбилась в сукиного сына...
— Готов, — сказал чей-то бас» (7; 244). Как Павлик Морозов. Между тем уже за полночь Иван вдруг оказался не в Кремле, а в Грибоедове.
«...Показался маленький тёпленький огонёчек, а затем от решётки отделилось белое привидение. <...> Через минуту-две в аду наступило молчание, затем это молчание перешло в возбуждённый говор, а затем привидение вышло из ада на веранду. И тут все ахнули и застыли, ахнув. «Шалаш» многое видел на своём веку, но такого ещё не происходило ни разу. Привидение оказалось не привидением, а известным всей Москве поэтом Иванушкой Безродным, и Иванушка имел в руке зажжённую церковную свечу зелёного воску. Огонёчек метался на нём, и она оплывала. Буйные волосы Иванушки не были прикрыты никаким убором, под левым глазом был большой синяк, а щека расцарапана. На Иванушке надета была рубашка белая и белые же кальсоны с тесёмками, ноги босые, а на груди, покрытой запёкшейся кровью, непосредственно к коже была приколота бумажная иконка, изображающая Иисуса...
Иванушка оглянулся тоскливо, поклонился низко и хрипло сказал: — Здорово, православные.
От такого приветствия молчание усилилось. <...> — Друзья, — вдруг вскричал Иванушка, и голос его стал и тёпел и горяч, — друзья, слушайте! Он появился!
Иванушка значительно и страшно поднял свечу над головой.
— Он появился! Православные! Ловите его немедленно, иначе погибнет Москва!
— Кто появился? — выкрикнул страдальчески женский голос. <...>
— Слушайте, кретины! — завопил Иванушка. — Говорю вам, что появился он! <...>
Народ загудел... И лицо приятное, мясистое, лицо в огромных очках в чёрной фальшивой оправе, бритое и сытое, участливо появилось у Иванушкина лица.
— Товарищ Безродный, — заговорило лицо юбилейным голосом, — вы расстроены смертью всеми нами любимого и уважаемого Антона... Нет Антоши Берлиоза. Мы это отлично понимаем. Возьмите покой. Сейчас кто-нибудь из товарищей проводит вас домой, в постельку...
— Ты, — заговорил Иван и стукнул зубами, — понимаешь, что Берлиоза убил инженер! Или нет? Понимаешь, арамей?
— Товарищ Безродный! Помилуйте, — ответило лицо.
— Нет, не помилую, — тихо ответил Иван и, размахнувшись широко, ударил лицо по морде» (7; 250—52).
В первой редакции сцена была развёрнута подробнее:
Тише, товарищи, — таинственным шёпотом произнёс Иванушка, — надо бы тёмного воску. <...>
— Он появился! — объявил Иванушка, и глаза его стали совсем уж безумные». Он уговаривает кого-нибудь бежать «к Алексею Иванычу. Скажите, что я, мол, сказал, чтоб Алексей Иваныч распорядился, чтоб послал стрельцов69 на мотоцикле инженера ловить. Так они его нипочём не догонют! <...> Предупредите только, чтобы иконочки нацепили на грудь, непременно с иконками, а если иконок не будет хватать, пущай крестное знамение кладут так... эдак... — и сумасшедший широкими крестами стал крыть высунувшуюся в это время физиономию человека в гольфовых брюках и в шутовском песочном пиджаке, и молодой человек, махнув рукой, исчез, будто в асфальт провалился.
— Я вот иконку булавочкой прицепил к телу... Так и надо мне... Так мне! — кричал Иванушка. — Кровушку выпустить... Я Господа нашего Христа истоптал сапожищами... Кайтесь православные! — возопил Иванушка, — кайтесь! Пробил час — он в Москве!
— Товарищ Бездомный, — сказала ласково рожа в очень коротких штанах, — вы, видимо, переутомились.
— Ты... — заговорил Иванушка и повернулся к нему, и в глазах его вновь загорелся фанатический огонь. — Ты, — повторил он с ненавистью, — распял Господа нашего Христа, вот что!
Толпа внимала.
— Да, — убедительно и твёрдо проговорил Иванушка, сверкнув глазами. — Узнал. Игемона секретарь. На литостратоне протокол игемону подсунул! Ты секретарь синедрионский, вот кто! — Физиономия любителя гольфа меняла цвет в течение этого краткого монолога Иванушки как у хамелеона... — Бейте, граждане, арамея! — вдруг взвыл Иванушка и, высоко подняв левой рукой четверговую свечечку, правой засветил неповинному в распятии любителю гольфа чудовищную плюху.
Краска вовсе сбежала с бледного лица, и он уселся на асфальте.
Вот тогда только на Иванушку догадались броситься... Воинственный Иванушка забился в руках.
— Антисемит! — истерически прокричал кто-то.
— Да что вы, — возразил другой, — разве не видите, в каком состоянии человек! Какой он антисемит! С ума сошёл человек!» (22; 396—397)
Иван оказывается в клинике Стравинского. Не Сербского, а именно Стравинского, ведь балеты «Петрушка» и «Жар-птица» написал отнюдь не Сербский. К приезду Ивана там уже всё было приготовлено. Профессор с внимательными глазами и поговоркой Славно, право, славно! («Всё у него славно!» — раздражённо подумал Иван.) неожиданно сказал: Я вас не держу. Я не имею права задерживать нормального человека в лечебнице. <...> И я вас сию же секунду выпущу, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, поймите, а только скажете. Итак, вы нормальны? <...>
— Я нормален.
— Вот и славно. Ну, если вы нормальны, так будем же рассуждать логически. Возьмём ваш вчерашний день, — тут Стравинский вооружился исписанным листом. — В поисках неизвестного человека вы вчера70 произвели следующие действия, — Стравинский стал загибать пальцы на левой руке. — Прикололи себе иконку на грудь английской булавкой. ...Явились в ресторан в одном белье. Побили там одного гражданина. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили дать стрельцов, которых в Москве, как всем известно, нет! Затем бросились головой в окно и ударили санитара. Спрашивается...: где очутится человек, произведший все эти действия? Ответ... может быть только один: он неизбежно окажется именно здесь! — и тут Стравинский широко обвёл рукой комнату. — Далее-с. Вы желаете уйти. Пожалуйста. Я немедленно Вас выпущу. Но только скажите мне: куда вы отправитесь?
— В ГПУ!
— Немедленно?
— Немедленно.
— Так-таки прямо из лечебницы?
— Так-таки прямо!
— Славно! И скажите, что вы скажете служащим ГПУ, самое важное, в первую голову, так сказать?
— Про Понтия Пилата! — веско сказал Иван, — это самое важное.
— Ну и славно, — окончательно покорённый Иванушкой, воскликнул профессор и, обратившись к ординатору, приказал: — Благоволите немедленно Попова выписать в город. Эту комнату не занимать, бельё постельное не менять, через два часа он будет здесь. Ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках.
Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы.
— На каком основании я опять буду здесь?
— На том основании, — немедленно усевшись опять, объяснил Стравинский, — что, как только вы, явившись в ковбойке и кальсонах в ГПУ, расскажете хоть одно слово про Понтия Пилата, который жил две тысячи лет назад, как механически, через час... будете привезены туда, откуда вы уехали, к профессору Стравинскому, то есть ко мне и в эту же самую комнату!
— Кальсоны? — спросил смятенно Иванушка.
— Да, да, кальсоны и Понтий Пилат! Бельё казённое. Мы его снимем. Да-с. А домой вы не собирались заехать. Да-с. Стало быть в кальсонах. <...>
— Так что же делать? — спросил потрясённый Иван.
— Славно! Резонный вопрос, вы действительно нормальны. Делать надлежит следующее. Использовать выгоды того, что вы попали ко мне, и прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут, примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге изложить всё, что вы считаете обвинительным для этого таинственного неизвестного.
— Понял, — твёрдо сказал Иван. — Прошу бумагу, карандаш и Евангелие».
Теперь пора послушать Булгаковскую
«Балладу о кальсонах»71.
Тема эта началась в творчестве Булгакова давно. Уже в ранних рассказах и фельетонах мелькал этот элемент как обыдённо-комический и снижающе-вагантский штрих его образного хозяйства. Он существовал параллельно с «арамейской мелодикой», пока не объединился с ней в фигурах братьев Кальсонеров «Дьяволиады». Наивным образом герой повести (большого рассказа) Коротков недоумевает по поводу сходства фамилии Кальсонер со словом «кальсоны» и даже считает это почти наваждением. Между тем демиург Михаил Булгаков уже вывел в «Белой гвардии» колоритную фигуру «революционера Абрама Пружинера», так что до Кальсонера было рукой подать. Он (в двух лицах-штанинах, символизирующих множественное число этого своеобразного слова) не замедлил появиться. Так началась «баллада о кальсонах».
Далее последовали лимонного цвета кальсоны генерала Чарноты. Это уже поэтика, а не деталь.
«Корзухин. Прости пожалуйста... мне кажется, что вы в кальсонах?
Чарнота. А почему тебя это удивляет. Я ведь не женщина, коей этот вид одежды не присвоен.
Корзухин. Вы... Ты... генерал, так и по Парижу шли? По улицам...
Чарнота. Нет! По улице шёл в штанах, а потом их в подъезде снял! Что за дурацкий вопрос!
Корзухин. Пардон, пардон...»
Где и как Чарнота потерял, пропил или проиграл свои штаны, остаётся неизвестно, а при том, что весь путь из Константинополя в Париж он проделал вместе с Голубковым, и мало мотивированно, тем более, что сохранилась черкеска, хотя и без газырей. Булгакову было так важно довести рыцаря и героя до этого лимонного цвета, что он пошёл на «крайние меры».
В прозаической «Жизни господина де Мольера» тема вместе с раблезианской ярмарочностью приобретает и гассендианскую глубину:
«Боже мой! Боже мой! — говорил однажды про эту ярмарку калека-поэт Скаррон. — Сколько грязи навалят всюду эти зады, незнакомые с кальсонами!»
Затем автор подхватывает: «Столица мира, ешь, пей, торгуй, расти! Эй, вы, зады, незнакомые с кальсонами, сюда, к Новому Мосту! <...> Незнакомые с кальсонами режут дорогу, жмутся к седлу с пистолетами...»
«Знакомый с кальсонами» (хоть и по принуждению) Иван уже являет высокую степень цивильности и окультуренности, и когда он, сидя в дурдоме, сетует, что его, «спасителя», заключили в узилище, мы, читатели, не только понимаем его, но и сопереживаем ему. Спаситель в кальсонах — луч света в беспросветной российской действительности 20-х годов. Сбежав от Стравинского в виде пуделя, в сцене похорон Берлиоза Иванушка имеет вид даже парадоксальный: к Новодевичьему кладбищу он является неожиданно «в непристойно разорванной белой рубахе и весь с ног до головы вымазанный сажей» (22; 398). Вероятно, «непристойность» заключалась в том, что дыра обнажала те самые места, которые кальсоны должны были бы скрывать. Иван в кальсонах, благовествующий по Москве, что, мол, «он явился», уподобляется, набирая всё более иудейского мессианизма, изначальному Кальсонеру. Круг замыкается, излюбленное Булгаковым семантическое рондо завершает свой циклический бег.
«— Причём здесь кальсоны? — спросил, смятенно оглядываясь, Иван.
— Главным образом, Понтий Пилат. Но и кальсоны также» (7; 270, курсив мой. — О.К.).
В комедийной структуре МиМ посредством образа Ивана-дурака Понтий Пилат намертво прикреплён к кальсонам. Quel son! Почти упомянутое кольцо. Дурдомовская ночная рубаха Ивана, в какой он появляется на похоронах, является фольклорным дубликатом грязноватой ночной сорочки Воланда, когда он принимает Маргариту и проводит бал. Воистину, человек человеку — фолк.
«Кальсонное» снижение «народного героя» происходит недаром: Иван в бредовом алогизме животного паникёрства съезжает в болото суеверного культового бульканья. Действительно, бороться «за честь и достоинство» атеиста и холодного скептика Берлиоза при помощи иконки Христа по меньшей мере странно, а по здравом рассуждении (недоступном для тупого «совейского» менталитета) дико; первое, что должно было прийти Ивану в голову в результате происшествий на Патриарших: Берлиоза Бог покарал, о чём намекали все реплики иностранца. Более того, если «инженер» способствовал осуществлению этого справедливого божественного возмездия или даже участвовал в нём, то каким, спрашивается, образом он «провинился»? И за что его вылавливать гэпэушным стрельцам с мотоциклами? Значит, речь идёт о мести за мафиозного кореша, и тогда Христос и крестное знамение уж точно ни при чём. Булгаков медленно и терпеливо расплетает эту бытовую «мочалку».
«— Вот и славно! — заметил покладистый профессор, — Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие.
— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно отвечала толстая женщина.
— Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор...»
И Иван начинает свой апокалипсис.
«Несколько исписанных листов валялись перед Иваном, клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно всё запутывалось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании фурибунда, да и вообще всё это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об Аннушке и её полкиловой банке в сущности нисколько ещё не служила к обвинению неизвестного.
Кот, садящийся самостоятельно в трамвай, ...вдруг показался даже самому ему невероятным. И единственно, что было серьёзно... это знакомство [консультанта] с Понтием Пилатом. А в том, что знакомство это было, Иван теперь не сомневался.
Но Пилат уже тем более ни с чем не вязался. Постное масло, удивительный кот, Аннушка, квартира, телеграмма дяде — смешно, право, было всё это ставить рядом с Понтием Пилатом. <...>
Несмотря на то, что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате и неизвестном.
Но Матфей мало чего сказал о Пилате, и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука утверждал, что Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа не получил.
В общем мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось. <...>
Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту, нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались так: во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай?
— Да ну его к чёрту... — тихо прошептал Иван, сам слегка дивясь своему приятному цинизму, — что я сват ему, кум? <...> Почему я так взбесился? Тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на Патриарших. А между прочим, он и пальцем действительно не трогал Берлиоза, и очень возможно, что совершенно неповинен в его смерти, но, но, но... — сам себе возражал тихим сладким шёпотом Иван, — а постное масло? А фурибунда?..
— Об чём разговор? — не задумываясь отвечал первый Иван второму Ивану, — знать вперёд хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить!
— В таком случае, кто же я такой?
— Дурак, — отчётливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной и как будто знакомый.
Приятно почему-то изумившись слову «дурак», Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет.
— Дурак! — снисходительно согласился Иван, — дурак, — и стал дремать поглубже. <...>
— Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы пораспросить его хорошенько о Пилате. Да. А с дикими воплями гнаться за ним по Садовой и вовсе не следовало! А теперь дело безвозвратно потеряно! Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем...
— Ну что же, я — здесь, — сказал тяжёлый бас.
Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел.
В кресле перед ним..., положив ногу на ногу, и руки скрестив, сидел незнакомец с Патриарших прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат, такой же, как у профессора Стравинского.
— Да, да, это я, Иван Николаевич, — заговорил неизвестный, — как видите, совершенно не нужно за мной гоняться. Я прихожу сам и как раз, когда нужно, — тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слипшись, стояли вертикально — полночь!
— Да, да, очень хорошо, что вы пришли. Но почему вы в халате? Разве вы доктор?
— Да, я доктор, но в такой же степени, как вы поэт72.
— Я поэт дрянной, бузовый, — строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину.
— Когда же вы это узнали? Ещё вчера днём вы были совершенно иного мнения о своей поэзии.
— Я узнал это сегодня.
— Очень хорошо, — сурово сказал гость в кресле» (7; 106—110).
Всё стало на свои места. Душа Ивана вышла в надземное, и сразу сделались отчётливо видны подлинные реалии, размеры и пропорции; даже суд над собой Иван производит сам. И когда высвечиваются настоящие ценности и выстраивается «до горних» их истинная иерархия, такая слякоть, как Берлиоз, становится просто невидима. Как и собственные пустые амбиции. Некий «как бы антихрист», окружённый двенадцатью «какоапостолами» массолитовского правления, нагло рассуждающий о сакральном и трансцендентном как плодах человеческого измышления, вдруг «пукает», как лопнувший пузырь, и размётывается по ветру, как прах. «Луна сбоку прыгнула и разлетелась в куски, чей-то голос в мозгу крикнул: «О, Боже! Неужели!»» И вторя ему, через несколько секунд после происшедшего, подпевала антихриста, хам и наглец Иван растерянно старался уразуметь одно, «как это может быть, что вот только что, только что он говорил с этим человеком, и через минуту... голова... голова... О, Боже, как же это может быть?» (6; 38)
Между тем всё очень просто: человечество на Земле, словно зародыш в яйце скорлупой, окружено атмосферой, верхние слои которой экранируют «жизнь вселенскую» от микроклимата яйца-хризалиды. Сложнее представить аналогичное развитие отдельного человека, внутри коего (бывшего на предыдущей стадии зверем) созревает ангел. Таковы ступени иерархического движения вверх Большой Космической Школы. Зато индивидуальное совершенство (святость-героизм-гениальность) легче представимо, чем общечеловеческая стадиальная модификация, ну, скажем, превращение (по Циолковскому) в «лучистое» человечество.
Метаморфозы внутри плаценты, яйца, хризалиды происходят абсолютно автономно, согласно своим, отличающимся от внешних, внутренним законам, и достаточно подросшему внутри «цыплёнку» возомнить, что мир внешний (по отношению к яйцу) есть фикция и миф, его наглое и своевольное поведение становится отрицающим макроскопическую очевидность, иерархию реальностей и самоубийственным, ибо рано или поздно в эту внешнюю пока и потому для невежд сомнительную реальность неизбежно придёт время родиться. Автономность существования внутри яйца, вокруг которого бродят как дружественные (мать-наседка), так и враждебные (хищники) стихии — последних во много раз больше — является до комизма относительной.
Что и стало постепенно для Булгакова пронзительно ясно.
Нравственный и гностический релятивизм Берлиоза, хозяина жизни, властителя, господина над судьбами людей в пределах земного законодательства (берём пороговый символизм образа), оказывается с включением мира иного73 не просто относительным, но прямо-таки трагикомической пустышкой, волдырём, «дутиком». Философски-мениппейному осмыслению превращения Александра Македонского в затычку для бочки посвящён знаменитый кладбищенский пассаж Гамлета. Амбициозное рационалистическое богоборчество, потакающее, если оно доминирует в качестве государственной идеологии, звериному началу в человеке, языческим силовым принципам, становится воистину отвратительным. В XX веке в связи с распространением тоталитарных режимов оно делается и крайне актуальным, и Булгаков предаёт его достойному демиургическому посрамлению на страницах своего великого Романа.
В главе «Марш фюнебр» подробно описано, как отрезанную трамваем голову Берлиоза — «почему-то с высунутым языком» — в морге прозектор с большим трудом приводит в благообразный вид, причём значащая и жестокая деталь — высунутый язык заставит его зашить Берлиозу струною74 губы, запечатав его красноречивые уста «печатью вечного молчания»».
Теперь самое время выслушать ещё одну замечательную Булгаковскую балладу,
«Балладу о языке».
Здесь, манифестируя тему, первым стоит вестовой Крапилин — «человек, погибший из-за своего красноречия», как заявлено в списке действующих лиц «Бега». Числящийся при Чарноте, он появляется в первом же действии, когда блестящий командир гусарского полка маркиз де Бризар, отбив в монастыре у красных своего генерала, пытается уговорить Серафиму ехать с ними:
«Де Бризар. Поймите, сударыня... Впрочем, я говорить не мастер, Крапилин, ты красноречив, уговори даму!
Крапилин. Так точно, ехать надо!!»
Сцена повторяется дважды, чтобы — не дай Бог — она не показалась случайным эпизодом и хохмой. Несмотря на частое присутствие на сцене, произносит Крапилин исключительно рявкающие реплики, краткие донельзя: «Слушаю, ваше превосходительство!» (1 д.); «Так точно, тифозная!» (о Серафиме, опекаемой им всю дорогу. 2д.) И кульминация: человек, которого, казалось, издевательски называли «красноречивым», вдруг заговорил как знаменитая валаамова ослица. Более того, библейский пророческий дух и космический размах оправдывают дразнящее прозвище. Послушаем, как это было.
Тифозная Серафима впервые видит Хлудова.
«Серафима. Из Петербурга бежим. Всё бежим да бежим! Куда? К Хлудову под крыло! Всё снится: Хлудов... (Улыбается.) Вот и удостоились лицезреть. Дорога и, куда не хватит глаз человеческих, всё мешки да мешки! (Тишина.) Зверюга, шакал!..»
Серафиму хватают.
«Ах, Крапилин, красноречивый человек. Что же ты-то не заступишься? И ты отречёшься? <...>
Крапилин (встав перед Хлудовым). Точно так! Как в книгах написано — шакал! Только одними удавками войны не выиграешь! За что ты, мировой зверь, порезал солдат на Перекопе? Попался тебе, впрочем, один человек, женщина, пожалела удавленных! Но мимо тебя не проскочишь, нет. Сейчас ты человека — цап! В мешок! Стервятиной питаешься? <...>
Хлудов. ...Поговори, солдат, поговори! <...> Солдат, как твоя фамилия?
Крапилин (заносясь в гибельные выси). Да что фамилия? Фамилие у меня неизвестное. Крапилин-вестовой! А ты пропадёшь, шакал, пропадёшь, оголтелый зверь, в канаве, вот только подожди здесь на твоей табуретке Будённого! (Улыбаясь.) Да нет, убегишь, убегишь в Константинополь! Храбёр ты только женщин вешать да слесарей!
Хлудов (убедительно). Ты ошибаешься, солдат, я на Чонгарскую Гать ходил с музыкой и на Гати два раза ранен.
Крапилин. Да все губернии плюют на твою музыку и на твои раны. (Вдруг проснулся, вздрогнул, опустился на колени, говоря жалко.) Ваше превосходительство, смилуйтесь над Крапилиным, я в забытии!
Хлудов. Нет, плохой солдат. Ты хорошо начал, а кончил как свинья! Валяешься в ногах? Доску! Я не могу смотреть на него!»
Забавный момент, ускользнувший от внимания исследователей. Крапилин действительно «красноречивый»: в этом первом и последнем монологе он говорит как красный, что и усугубляется упоминанием фамилии Будённого. Накликали цвет, шутейники!
Дальнейшие диалоги с Хлудовым Крапилин ведёт уже из своего потустороннего состояния, что соответствует заданной им самому себе высоте. И Хлудову некуда деться от вестового, тем более что новое «ангелическое» состояние точно отражает его земное «амплуа» (по-гречески ангел значит вестник).
Заканчивается баллада огненным протуберантным выплеском Пилата из ранней редакции Романа: «Слушай ты, царь истины!.. Ты, ты, великий философ, но подати будут в наше время! И упоминать имени великого Кесаря нельзя, нельзя никому, кроме самоубийц!
Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, убил себя сегодня...
Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другое — помути разум Каиафы сейчас. Но только не будет, не будет этого. Раскусил он, что такое теория о симпатичных людях, не разожмёт когтей. Ты страшен всем! Всем! И один у тебя враг — во рту он у тебя — твой язык! Благодари его! А объём моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как всё на свете! Ограничен! — истерически кричал Пилат...» (7; 222).
Но... Как может Логос заткнуть свой голос?
Да и о беседах именно с Ним мечтает в конце концов всхлипывающий во сне, как мальчишка, Понтий Пилат. А слово Его оказалось золотым.
Итак, собирая в «прозрачную» гармошку стратификационные арканы, таротная пирамида становится посвятительной лестницей, а 8-й (Справедливость) и 15-й (Сатанаил) арканы, соединяясь, образуют гностическую полноту того странного, но невероятно естественного существа, которого Булгаков прикровенно назвал «Воланд». Сатанаил, держащий в руках весы Фемиды, аккуратно и строго выполняющий не всегда бескровные, но всегда педагогичные кармические установления Планетарного Логоса, оставляет Ему, во избежание малейшей деструкции Его ускользающе-нежного образа, только милосердно щадить, миловать и прощать. — Таков «специалист по чёрной магии» и такова его не менее исполнительная свита. «Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором осведомился субъект. — Вы аккуратны, секунда в секунду, и хорошо... Ваш срок истекает, гражданин... Сюда пожалуйте! Прямо попадёте, куда надо... С вас бы за указание на четверть литра, — кривляясь, кричал субъект, — бывшему регенту!..» (6; 37). Это Коровьев. И остальные: «Милый барон, — говорил Воланд, расплываясь в улыбке радости, — был так очарователен, что, узнав о моём приезде, тотчас позвонил мне, предлагая мне свои услуги по ознакомлению меня с достопримечательностями столицы. Я счастлив пригласить его. Кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она превосходит всё до сих виданное в этом направлении и равняется вашей разговорчивости (это маленький addition к «Балладе о языке». — ОК). Параллельно с этим дошёл до меня страшный слух о том, что именно ваша разговорчивость стала производить неприятное впечатление и не позже чем через месяц станет причиной вашей смерти. Желая избавить вас от томительного ожидания скучной развязки, мы решили придти вам на помощь...
Тут Воланд перестал улыбаться, а Абадонна вырос перед Майгелем и, подняв очки на лоб, глянул барону в лицо.
Барон сделался смертельно бледен, вздохнул и стал валиться на бок. <...> Что-то сверкнуло огнём в руках Азазелло, оказавшегося рядом с Абадонной, что-то стукнуло или как будто в ладоши хлопнуло, и алая кровь хлынула из груди барона, заливая белый жилет» (7; 396).
Кстати, Иуду в Ершалаиме тоже прирезал Азазелло.
Так что команда «санитаров леса» работает исправно.
В круговой поруке человеческих несовершенств, ставшей комфортной нормой разнузданного, но тёплого взаимностью посюстороннего бытия, приход требовательного и жёсткого экзаменатора вызывал всегда потоки клеветы и брани. Между тем зло на земле действительно существует, но не вынесенное за пределы людского сообщества, а гнездящееся в самой его глубине. И главными эвилмейкерами всегда были жрецы и священники, вцепившиеся в возможность манипулировать человеческим сознанием со свирепостью бульдогов. Их конформизм, беспринципность и демагогическая лживая изворотливость, употребляющая как подтирку любую сакральную формулу, не прошли мимо внимания Булгакова.
Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп — умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.
Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и, даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнёс красивым голосом:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!
Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повёл с исключительным искусством проповедь.
...Отец Аркадий был мастером своего дела. Первым же долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но кесарево, что бы ни было, принадлежит кесарю.
Возражать против этого не приходилось. Но тут же, сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял ныне существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя неуместность сравнения. Но надо полагать, что блестящему риторику — отцу Аркадию — дали возможность говорить, что ему нравится.
Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от Бога. А если так, то нарушающий постановления власти выступает против кого?..
Говорят же русским языком — «сдавайте валюту»» (7; 317).
Но небеса не разверзаются (к удивлению Босого), это свидетельствует лишь, что экзаменатор со своей командой, куда входят и экзекуторы, не работает по человеческим вызовам. Их «быстрое реагирование» не происходит в визуальной логике обыдённости, как причинно-следственная связь на уровне животных рефлексов по Павлову. Поэтому «дурак» даже в народе остаётся бранным словом и в этом смысле — самобичеванием и взаимным смирением гордыни, что особенно актуально «в стране тщеславных нищих», как называл Россию Достоевский. Иногда идиотизм или дураковатость — это отторжение человеческой доброты (изначальной по Иешуа) от постижения науки хитросплетений злокозненности мира сего, которая титулуется заурядностью «искусством жить» и «бытовой мудростью». Хотя Сатанаил использует органично свойственные ему трансцендентные особенности (несмотря на полную визуальную достоверность его фантомного присутствия: возможность исчезновения и появления в любом месте, в любое время и в любом виде, неуязвимость, всезнание, всемогущество, ничем не ограниченную трансформационность, переносимую, по желанию, и на объекты «этого мира», включая людей и т. д.), никаких хитрых каверз ни он, ни его помощники не применяют:
Простота наш девиз! Простота!
— Великий девиз, мессир, — чувствуя себя просто и спокойно, ...ответила Маргарита.
— Именно, — подтвердил Воланд...» (6; 193).
Девиз этот и был авторской позицией Булгакова. Рецензируя присланную ему рукопись, он писал молодому ленинградскому литератору Савину: «Книга усеяна вычурными, претенциозными оборотами... И главное, всё нарочно, всё как похитрей и почудней. А там, где просто, так и хорошо» (51; 24, курсив мой. — О.К.).
Тонкая, хотя вполне различимая грань между простотой и примитивизмом, бесхитростностью и идиотизмом, детскостью и инфантилизмом не только исследовательски занимает Булгакова — мыслителя, но и становится предметом страстного обсуждения в диалогах его героев.
Его авторский голос: «Быть интеллигентным вовсе не значит обязательно быть идиотом» (9; 22).
А вот беллетристическое пространство Романа.
В одном из зачинов Романа Иван Бездомный75 описывается как человек «в кепке, блузе, носящей идиотское название «толстовка», в зелёной гаврилке и дешёвеньком сером костюме. Парусиновые туфли». Слово парусина, несомненно, должно было появиться, намекая на парусию — нисхождение божества на землю. Далее для обозначения «всесветной» популярности великого пролетарского малограмотного, добавляет Булгаков, поэта — «особая примета: над правой бровью грандиозный прыщ».
Происшествие в аспекте милицейского дознания излагается как «чудовищная история», дьяволиада (№ 2), и поэтому первостатейное значение имеют свидетели.
«Свидетели? То-то, что свидетелей не было, за исключением одного: домработницы Анны Семёновой, служащей у гражданки Клюх-Пелиенко. Впоследствии на допросе означенная Семёнова Анна показала, что: а) у Клюх-Пелиенко она служит третий год, б) Клюх — ведьма. Семёнова собиралась подавать в народный суд за то, что та (Клюх) её (Семёнову) обозвала «экспортной дурой», желая этим сказать, что она (Семёнова) не простая дура, а исключительная... Что на Патриарших Прудах она оказалась по приказанию Клюх, чтобы прогулять сына Клюх Вову. Что Вова золотушен, что Вова идиот (экспортный). Велено водить Вову на Патриаршие Пруды.
Товарищ Курочкин, на что был опытный человек, но еле избавился от всего этого потока чепухи и поставил вопрос в упор: о чём они говорили и откуда вышел профессор на Патриаршие? По первому вопросу отвечено было товарищем Семёновой, что лысенький в пенсне ругал господа Бога, а молодой слушал, а к тому времени, как человека зарезало, они с Вовой уже были дома. По второму — ничего не знает. И ведать не ведает. И если бы она знала такое дело, то она бы и не пошла на Патриаршие. Словом, товарищ Курочкин добился только того, что товарищ Семёнова действительно дура, так что и в суд, собственно, у неё никаких оснований подавать на гражданку Клюх нету. Поэтому отпустил её с миром».
Это на одном конце диаметра. На другом:
Но ты, конечно, не говорил фразы, что податей не будет?
— Нет, я говорил это, — сказал светло Га-Ноцри.
— О мой Бог! — тихо сказал Пилат.
Он встал с кресла и объявил секретарю:
— Вы слышите, что сказал этот идиот!..
И остались одни. Подошёл Пилат к Иешуа. Вдруг левой рукой впился в его правое плечо, так что чуть не прорвал ветхий таллиф, и зашипел ему прямо в глаза:
— ...Что ты наделал?! Ты... вы... когда-нибудь произносили слова неправды?
— Нет, — испуганно ответил Иешуа.
— Вы... ты... — Пилат шипел и тряс арестанта так, что кудрявые волосы прыгали у него на голове.
— Но, Бог мой, в двадцать пять лет такое легкомыслие! Да как же можно было? Да разве по его морде вы не видели, кто это такой? Хотя... — Пилат отскочил от Иешуа и отчаянно схватился за голову, — я понимаю: для вас всё это не убедительно. Иуда из Кариот симпатичный, да? — спросил Пилат, и глаза его загорелись по-волчьи. — Симпатичный? — с горьким злорадством повторил он.
Печаль заволокла лицо Иешуа, как облако солнце.
— Это ужасно, прямо ужас... Какую беду себе наделал Искариот. Он очень милый мальчик... А женщина... А вечером!..
— О, дурак! Дурак! Дурак!» (7; 263—264, 221—222, курсив мой. — О.К.).
Пилатово «вы» и общая модальность разговора подсоединяют Иешуа к эзотерике романа Достоевского «Идиот», а Булгаковский орденский Гнозис — к пророческим откровениям русского светоча духа. Содержательная глубина 21-го аркана Тарота до конца проявляет догадки Ершова, доведённые Фёдором Михайловичем до библейских высот. «Религиозные изуверы, которые затравили великого философа» (он же «юродивый младенец Иешуа»), являют тот вид расчётливого и холодного ума, противление коему делает человека автоматически «безумным» (Грибоедовское масонское: «Безумным вы меня ославили всем хором»), или в аспекте смысловых значений 21-го аркана дураком, шутом, сумасшедшим. Обращаю особое внимание на второе слово в наборе значений аркана — именно в этом ключе ведут себя, стараясь обходиться «без членовредительства» (согласно распоряжению Воланда), Коровьев и Бегемот. Это значит, что от Иешуа их отделяет только шаг в сторону иронии, игры, амплуа76, хотя бескорыстие, беззаботность и правильность (абсолютно карнавальные в случае Коровьева и Бегемота) выглядят ещё более фантастично, чем неординарное поведение.
«Теория о симпатичных людях», становящаяся утверждением, что «все люди — добрые», встречает такую лютую ненависть со стороны синедриона, что даже в русле Булгаковской логики возникает естественный вопрос, как мог их носитель выжить до двадцати шести лет, а не был уничтожен при первом же высказывании подобных убеждений. Ответа на это недоумение нет, как нет ответа на вопрос, куда девается после восшествия на престол Ершовского Ивана конёк-горбунок. Трудно представить его мирно перерабатывающим в стойле овёс на навоз... — нет! — просто невозможно.
Миф — т. е. трансцендентное («чудесное»), проявляющееся на Земле, — ситуационен; как шахматная партия, он существует определённое время. В Ершовском сюжете это особенно видно: на каждое задание даётся ограниченное количество дней, уложиться в срок надо во что бы то ни стало. Поэтому миф в качестве невероятного земного происшествия начинается вдруг и кончается вдруг, и только в русском языке эта пугающая обывателя внезапность показана как дружественная человеку стихия, а значит, речь идёт о Человеке с большой буквы. Русский созерцатель чувствует себя комфортно на земле только в экстремальной физике чуда. Жаль, что на поверку в Москве 20-х годов таких находится только двое: Маргарита и Мастер (именно в такой последовательности). Лёгкий летучий «шмон», какой производят при извлечении этой пары по ходу дела Сатана и подручные демоны, это незапланированный, дисциплинирующий показательный урок, правда, никому, кроме Ивана Бездомного, так и не пошедший впрок. У него единственного, несмотря на «чудовищное невежество», оказалось хорошее сердце, и поэтому он остаётся единственным учеником Мастера с весьма проблематичным выходом — в силу отсутствия учителя в живом общении — даже на уровень подмастерья. А самодеятельно мастерами не становятся; самодеятельно можно стать лишь находящим сбыт своей продукции дилетантом.
Единственный шанс — при пресечении преемственности — выйти на уровень Христа.
Так становились мастерами избранные одинокие души. Судя по всему, так стал мастером и автор романа о Пилате. Во всяком случае, Воланд, а потом и сам Иешуа, принимающие у него роман в качестве «отчёта о проделанной работе», подтверждают этот высокий статус. Представляясь Ивану в лечебнице, он не оказался самозванцем. И за это получает Маргариту, к сожалению, только в посмертное «пользование».
Итак, земной сатанизм религиозных фанатиков — вот подлинное лицо зла, его изуверская физиономия.
«Шаррон. Какой-нибудь особый тяжкий грех за собой знаешь?
Мадлена. Не помню, архиепископ.
Шаррон (печально). Безумны люди... И придёшь ты с раскалённым гвоздём в сердце, и тогда там уж никто не вынет его. Никогда. Значение слова «никогда» понимаешь ли?
Мадлена (думает). Поняла! Ах, боюсь.
Шаррон (превращается в дьявола). И увидишь костры, а меж ними...
Мадлена. ...ходит, ходит часовой...
Шаррон. ...и шепчет: зачем же ты не оставила свой грех на земле... и тогда...
Мадлена. А я заломаю руки... Богу закричу!
Орган загудел.
Шаррон. И тогда не услышит Господь... И заплачешь, обвиснешь на цепях, ноги погрузишь в костёр... И так — всегда. Слово «всегда» понимаешь?
Мадлена. Я боюсь понять. Пойму — умру. (Вскрикивает слабо.) Поняла!.. А если оставить грех?
Шаррон. Взлетишь с лёгким сердцем и будешь слушать вечную службу.
Далеко со свечами проходит прозрачная процессия, запели нежные голоса детей, потом всё исчезло.
Мадлена (шарит во тьме, как слепая, руками). Где вы, отец, мой?
Шаррон. Я здесь, я здесь, я здесь!
Мадлена. Вечную службу?
Шаррон. Вечную. <...>
Арманда входит в исповедальню. Орган загудел.
Шаррон (возникает, страшен, в рогатой тиаре. Крестит обратным дьявольским крестом Арманду). Скажи мне, кто был сейчас у меня?
Арманда (ужасается, вдруг всё понимает). Нет, нет!..» (6; 313—315).
Во время словесного единоборства Каифа предупреждает прокуратора: «Ты... всё же выбирай слова. Может кто-нибудь услышать тебя, Понтий Пилат.
Пилат улыбнулся одними губами и мёртвыми глазами посмотрел на первосвященника.
— Разве дьявол с рогами... — и голос Пилата начал мурлыкать и переливаться, — разве только что он, друг душевный всех религиозных изуверов, которые затравили великого философа...»
До полной ясности доводит картину «умный и любознательный Великий Конде. В то время, когда возник «Тартюф», итальянцы сыграли фарс «Скарамуш-отшельник», в нём в крайне отрицательном свете изображён монах. Король, не перестававший недоумевать по поводу истории с «Тартюфом», сказал Конде, посмотрев «Скарамуша»:
— Я не понимаю, почему они так набросились на «Тартюфа»? Ведь в «Скарамуше» содержатся гораздо более резкие вещи.
— Это потому, ваше величество, — ответил ему Конде, — что в «Скарамуше» автор смеётся над небом и религией, до которых этим господам нет никакого дела, а в «Тартюфе» Мольер смеётся над ними самими. Вот почему они так разъярились, сир!» (50; 125—126, курсив мой. — О.К.).
Булгаков, которому принадлежит авторский голос в «Жизни господина де Мольера», поясняет: «Я буду краток! В этой пьесе был изображён полнейший и законченный мошенник, лгун, негодяй, доносчик и шпион, лицемер, развратник и соблазнитель чужих жён. Этот самый персонаж, явно опасный для окружающего общества, был не кем иным, как... священнослужителем. Все его речи были переполнены сладкими благочестивыми оборотами, и, более того, свои пакостные действия герой на каждом шагу сопровождал цитатами из... священного писания!» (50; 123)
Пустая порода вечно будет ревновать к драгоценным металлам, из неё добываемым; поскольку песок по отношению к золоту всегда в «подавляющем большинстве», рождается искушение: «принципы большинства» и «законы больших количеств» сделать нормативными для всего человечества. Чрезвычайно удобно положить идеал человека в настоящем, увенчав им некоего «среднего человека», чем полагать его в будущем, пеняя людям на их несовершенства и понукая к бесконечным изменениям в сторону улучшения. Первый вариант, стезя всех демагогов и политиканов, какие бы социальные роли они ни разыгрывали, — есть псевдогуманизм, человекоугодничество; второй — путь пророков, учителей и благодетелей человечества, встречаемых толпой во все времена с ненавистью и отторжением, ибо лень и самодовольство в соединении с охлократией позволяют ей не сдерживать своих эмоций вплоть до самосуда и уничтожения неприятных раздражителей.
И только космический отклик на это подлое самоуправство, соединённое с индивидуальной якобы безответственностью при участии в действиях масс, несколько урезонивает человечество, не давая ему вернуться в прежнее скотообразие. Это тот самый «гром небесный», что заставляет «перекреститься» мужика. Правда, на сегодняшний день этого сучения ручонкой в качестве «адекватной реакции» оказывается явно недостаточно. Жест этот, намекающий на полную завершённость случившейся почти две тысячи лет назад истории и на возможность как бы поставить на ней крест, есть трусливое желание этой самой толпы увильнуть от ответственности за свои в исторической перспективе деяния. Хамский принцип «здесь и сейчас», нелогично сочетающий малодушную визготню, что, мол, «дети не отвечают за отцов», с амбициозным традиционализмом, т. е. желанием жить «по заветам дедов», категорически не может быть согласован, увязан и примирён с честной, ясной, ответственной позицией и идеологической программой Великих Посвящённых и Аватаров во главе с Иешуа Га-Ноцри.
Устроил этот якобы несправедливый мир и управляет им один Высокий Дух, который только выступает в двух лицах. Два Ведомства сосуществуют в мировом пространстве абсолютно гармонично, как ветви единого ствола, хоть и тянущие, вплоть до диаметральности, в разные стороны, но заставляющие дерево расти. Поделённость мира — одно из тех относительных несовершенств, отличающих его от самодостаточного и абсолютно совершенного Божественного Пространства. Умение схватывать картинку стерео — главное свойство, отличающее Человека разумного от остальных существ. Борьба за существование животного состояния сменяется постепенно борьбой за самосовершенствование — борьбой, а не статическим «позированием» перед лицом столь же статических Небес. Борение определено относительным несовершенством Вселенной, что и есть космическое бытие.
Воистину, фундаментален изначальный земной принцип: ЗЛО НА ЗЕМЛЕ НЕУНИЧТОЖИМО, ИБО БОРЬБА С НИМ — ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ. В этой борьбе и достигается индивидуальный «алмазный закал» — необходимое качество для перехода на следующую ступень космической эволюции. В связи с этим русский суперэтизм XIX века, заквашенный на общинном принципе «как все», является абсолютно утопическим, а его насильственное проведение в жизнь (из самых лучших побуждений) обернулось кровищей и концлагерем. «Много званных, но мало избранных» — завет Христа, который превзойти невозможно. «Не все, — сказал Финдлей, — не все!» — подтвердил мудрый шотландский масон Бёрнс.
Поучительно, что если первые десятилетия после публикации события МиМ оценивались от Мастера, ибо писали о Романе в основном интеллигенты77, то последнее время — с позиции «обиженных» Варенухи, Берлиоза и Стёпы Лиходеева (и даже барона Майгеля!), так как за перо взялись дети лавочников и «коммерсантов из черты оседлости», а с творчеством «критиков» Ракитина и Лямшина нас познакомил ещё Достоевский. И что удивительно: не все («избранные» Иисуса) им так же ненавистно, как все («симпатичные» Иешуа). Их принцип — все свои, за этот принцип они будут распинать бесконечно. Первое что делает заступающий управлять самодержец (неважно, царь или вождь) — создаёт для «подданных» образ врага: без этого не работает «технология власти». А технология власти — слишком серьёзное дело, чтобы позволять «всовываться» в него всяким романтикам, как Тот, Кто стоял на допросе у Великого инквизитора. Вероятно, и Каифа был озабочен интересами народа и нации, именно покушение на «образ врага» показалось ему чудовищным по своей еретичности. Стараясь уразуметь мотивацию заключённого, постоянно «увязает» в её невероятности даже «сын короля-звездочёта». Оказалось, что он может стать «за», но не рядом (это осуществляется только через «дважды двенадцать тысяч лун» с уже атрофированной «дискуссионной железой»), а что за радость идти да поддакивать? — «Радость!.. Радость!.. — всхлипывает бывший прокуратор, размазывая сопли по щекам, — лишь бы не прогнал...»
Так кончаются ситуации, упёртые в «однобортность» бытия.
Недаром полётность, т. е. свободное сообщение между мирами и измерениями, — любимая тема Булгакова. Испытав в молодости опыт наркотического транса (слово «транс» является латинским аналогом русской «полётности»), он использовал его в творчестве с таким знанием дела, что переход от «осёдлости» мира сего к «весям нездешним» осуществлялся им без малейшего напряга, не оставляя ни «выхлопных газов», ни «шва» в органической текстуре повествования. По Булгакову штучный человек летуч изначально и, в отличие от тех, кто «рождён ползать» (или рождён к пользе), очень даже «может летать». Выход в пространство сна происходит мгновенной и естественной потерей гравитации, отчего «Бег» на самом деле есть «полёт в осенней мгле» (см. 49; 632); обитая в «иррациональном» (с точки зрения Высшего Разума) пространстве совков тоталитарного бытия, штучники постепенно вытесняются победившим гегемоном («пёс Гегемон» contra кот Бегемот) из наземного пространства (читай: «жилплощади») в надземное, свободное от этого самого гегемона ввиду его полной бескрылости. День принадлежит подпевалам режима, шустрикам и «партейцам»; «беспартийным» попутчикам, «недобиткам» и вообще непутёвой братии остаются сумерки, предутренний туман и ночь. Им по необходимости, из чувства самосохранения надо быть бесшумными, не оставляющими следов, максимально не подающими признаков жизни. «Божий» Голубков и «шестикрылая» Серафима могут только незаметно висеть под потолком, как летучие мыши. «Я хочу опять на Караванную, я хочу опять увидеть снег! Я хочу всё забыть, как будто ничего не было! — Ничего, ничего не было, всё мерещилось! Забудь! Забудь! Пройдёт месяц, мы доберёмся, мы вернёмся, и тогда пойдёт снег и наши следы заметёт...» Так-то оно так, да ни одного нового следа впредь, никакого самообнаружения, ни малейшего присутствия, кроме присутствия духа. Это остаётся единственным и вечно актуальным. Соединяясь с последней и самой любимой, Булгаков предупреждает о скорой смерти и пишет, как заклинание: Ты совершишь со мной последний полёт. Перед этим он исповедуется Попову (не Иванушке): «Совсем недавно один близкий мне человек78 утешил меня предсказанием, что когда я вскоре буду умирать и позову, то никто не придёт ко мне, кроме Чёрного Монаха. Представьте, какое совпадение. Ещё до этого предсказания засел у меня в голове этот рассказ. И страшновато как-то всё-таки, если уж никто не придёт. Но, что же поделаешь, сложилась жизнь моя так. Теперь уже всякую ночь я смотрю не вперёд, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять79 роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговора о Монахе...» (16; 268).
Кстати, об ошибках. Имеет смысл хотя бы приблизительно смоделировать их на апрель 1932 года — это многое бы прояснило в мистике Булгаковского бытия и рисунке его поведения.
Ошибка № 1. Колебания в момент, когда ещё можно было эмигрировать с отступающими белыми.
Ошибка № 2. Развод с Татьяной, лёгший камнем на душу. Люба оказалась лишним эпизодом в жизни. На это прямо указывает: «Не будь их, не было бы разговора о Монахе...»
Ошибка № 3. Колебания в том, чтобы забрать рукопись «Белой гвардии» у Лежнева и передать в «Недра» Ангарскому, как он о том просил. Можно было ситуацию «дожать».
Ошибка № 4. Недостаточная твёрдость в разговоре со Сталиным о категорическом желании эмигрировать.
Ошибка № 5. Нерешительность в разговоре с Е.А. Шиловским по поводу отношений с Еленой Сергеевной, приведшая к потере 15 месяцев в совместном житии-сотворчестве. Правда, при достижении — нумерософийно — пятнадцатого аркана Таро, где Сатанаил соединяет влюблённых узами брака, эта последняя ошибка была исправлена, но потеря времени и, отчасти, лица остались саднящей раной в душе Булгакова.
Поэтому и «полёты» оказались подгажены «похабным» использованием слова палачами от культа.
«Шаррон. И я, недостойный архиепископ, властью мне данной тебя развязываю и отпускаю. (Снимает епитрахиль.)
Мадлена (в восторге, прижимаясь к нему). Свободна я? Могу теперь лететь?
Орган запел мощно.
Шаррон (плачет счастливыми слезами). Лети! Прощена бедная скорбная дочь, лети!» (6; 314)
Через два года уже умиротворённого (после исправления пятой ошибки) бытия: «Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита, и кот, и полёты... Но я слаб и разбит ещё. Правда, с каждым днём я крепну» (16; 343).
Да и не в пример лучше культового зомбирования оказывается простой и сермяжный крем Азазелло, палиндромно входящий в излюбленные Булгаковым сумерки. Джентльменская честность «начальника воландовской охраны» противопоставлена лживой риторике попов абсолютно недвусмысленно. Лунатическая истерия Мадлены и птичья свобода воли, возможность владеть собой в полёте Маргариты даны автором МиМ контрастной и яркой парой. Мастер, как и Булгаков, уходит «в свой последний полёт» собственным произволением (если не считать «вмешательством» распоряжение самого Планетарного Логоса), без всякого крема. Это более напоминает выход в «хрональное поле», безынерционный переход в иное измерение, утрату гравитации в замкнутом зеркальном пространстве («эффект термоса»); мужчина пассивен и женствен в полёте, женщина — активна и мужественна. Так, ещё не обладая магической силой, Маргарита мечтает увезти из мира юдоли своего возлюбленного на аэроплане, причём в этом случае Булгакову даже не приходит в голову употребить слово «полёт». От неё после натирания даже не требуется наготы — непременного ведьминского атрибута легенд. Забавно, что события Романа разворачиваются на фоне бытовой осатанелости жителей Москвы, в частности движения «Долой стыд!», которое обсуждалось и на правительственном уровне. Булгаков подводит эту тему под своё сатирическое перо; вот как этот мотив подан в «Великом канцлере»: «Ба! Гляньте! Ах, какой город оригинальный, — вдруг воскликнул Фиелло и пальцем указал на Каменный мост.
Маргарита Николаевна глянула туда и рот раскрыла. По набережной, стыдливо припадая к парапету, вприпрыжку бежал исступлённый человек, совершенно голый, а за ним, тревожно посвистывая, шла милиция. Потом сбежалась оживлённая толпа и скрыла голого» (7; 142).
Это как бы видение «неудачной конструкции летательного аппарата», который и одежду скинул, и разбежался, а оторваться от земли не смог. Таких иногда подхватывает «мистический смерч» и переносит по воздуху на значительные расстояния, как это случилось со Стёпой Лиходеевым.
Товарищ директор, — вдруг заговорил козлиным голосом длинный клетчатый, явно подразумевая под словом «директор» самого Стёпу, — вообще свинячат в последнее время в Москве. Пять раз женился, пьянствует и лжёт начальству.
— Он такой же директор, — сказал за плечом у Стёпы гнусавый сифилитический голос, — как я архиерей. Разрешите, мессир, выкинуть его к чёртовой матери, ему нужно проветриться!
— Брысь! — сказал кот на коленях Воланда.
Тут Стёпа почувствовал, что он близок к обмороку.
«Я вижу сон», — подумал он. Он откинулся головой назад и ударился о косяк. Затем все стены ювелиршиной спальни закружились вокруг Стёпы.
«Я умираю», — подумал он в бешенном беге.
Но он не умер».
Он оказался вдруг в городе Владикавказе, в парке.
«...Стёпин вид был ужасен. Среди белого дня в сказочной аллее стоял человек в носках, в брюках, в расстёгнутой ночной рубахе, с распухшим от вчерашнего пьянства лицом и с совершенно сумасшедшими глазами. И главное, что где он стоял, он не знал» (7; 59—60).
Отчётливо видно, что быстрый бег «стремглав» почти равен полёту, поэтому сослуживцы обсуждают вариант сомнамбулического Стёпиного авиапутешествия:
«Зажмурившись, Близнецов представил себе Стёпу в ночной сорочке сегодня в полдень влезающим в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, а через час, стало быть, он — Стёпа — стоит... и горы, покрытые снегом... и чёрт знает что! <...>
Опять представился Близнецову Стёпа в носках посреди Владикавказа...
— Сколько километров до Владикавказа? — спросил вдруг Близнецов, щурясь в окно.
Варенуха прекратил беготню по кабинету и заорал:
— Думал! Думал! До Минеральных по воздуху тысяча шестьсот километров!
Истребитель? В какой истребитель, кто пустил Стёпу без сапог? Сапоги пропил, прилетев? Истребитель тоже не покроет в один час. в сапогах ли, без сапог будет Стёпа, полторы тысячи километров!!» (6; 80)
Ночная рубаха — это не кальсоны, но тоже ничего себе. Жалкий пародийный отсвет Воландовского «ритуального» одеяния на балу у Сатаны. Пародийность возникает ещё в самом разговоре членов свиты с Мессиром. Что значит в устах демона выражение «к чёртовой матери» (есть и бабушка, но о ней речь впереди) и почему бытовое речевое клише, претендующее на статус трансцендентного заклинания, воспринимается самими адресатами как пустозвонная болтовня, обладающая нулевой действенностью, исключая мелкую шкоду речевой неопрятности? Бесконечный карнавал с неувлекательной для самого Воланда и его свиты педагогикой элементарного не доставляет им радости, пока дело не доходит до Мастера и Маргариты. Только здесь их ожидают сюрпризы слов, неординарные поступки и действия подопечных, только от общения с ними получают они «чувство глубокого удовлетворения». Пошлость мирских хитростей, подлостей и козней выступает во всём своём убожестве только перед лицом их всеведения и всемогущества. Справедливость продуктивна лишь для высоких и совершенных; остальные, как галька, улучшают форму трением друг о друга. Таковы «условия человеческого существования», и рыцари абсолютно лояльны к несовершенству персонажей этой огромной мастерской.
«— Так... так... так... — загадочно протянул Воланд, — я, надо признаться, давненько не видел москвичей80... Надо сказать, что внешне они сильно изменились, как и сам город... Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и... прочая... сколько более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне, э?
— Важнейший вопрос, мессир, — озабоченно отозвался клетчатый».
Чрезвычайно характерна эта озабоченность в море разнузданной гаерности Кота и Коровьева.
Затем по просьбе публики надоедливому Чембукчи отрывают голову в буквальном смысле, чего по трепологическому легкомыслию никто не ожидал81.
«Две с половиной тысячи человек, как один, вскрикнули. Песня про самовар и Машу прекратилась.
Безголовое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками побежала по засаленному фраку.
Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял её и показал публике, и голова вдруг плаксиво на весь театр крикнула:
— Доктора!
В партере послышались истерические крики женщин, а на галёрке грянул хохот.
— Ты будешь нести околесицу в другой раз?
— Не буду, — ответила, плача, голова.
— Ради Христа, не мучьте его! — вдруг на весь театр прозвучал женский голос в партере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо.
— Так что же, граждане, простить, что ли, его? — спросил клетчатый у публики.
— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор вместе с мужскими.
— Что же, всё в порядке, — тихо, сквозь зубы, проговорил замаскированный, — алчны, как и прежде, но милосердие не вытравлено вовсе уж из их сердец. И то хорошо.
И громко сказал:
— Наденьте голову!» (7; 288—292, курсив мой. — О.К.).
«Замаскированный гигант», этой второй арлекинской маской себя полностью демаскируя, максимально подсказывает — насколько это позволяет ему роль экзаменатора — публике своё подлинное иерархическое достоинство. Имя Христа его особенно задевает и заставляет вглядеться в восклицавшего. И однако «всё в порядке» настолько расшифровывает Мессира, что Булгаков убирает его из окончательного варианта, оставляя прямой отсыл к Ведомству Иешуа репликой о милосердии. Только — пусть остаточное — наличие милосердия примиряет его с жителями Москвы и обнадёживает в нахождении сначала Маргариты, хозяйки готовящегося Бала, а затем и Мастера. К тому же, ославленный всем миром «отцом лжи» особенно нетерпимо реагирует на её проявления, не только не радуясь, но и не пропуская без доходчивого внушения провинившихся. Выведение всех (попавших под руку) на чистую воду82 является прямой обязанностью Воланда и его свиты перед Главой Ведомства Милосердия. Забавно и парадоксально карнавальной наоборотностью, что сам «выводила» и становится объектом анекдотического шмона на эту тему. Как только отзвучало «Евангелие от Воланда», «первым очнулся Владимир Миронович и пытливо поглядел на своего собеседника». Тут же Иванушка отзывает его на «пару словечек» и шепчет ему на ухо: «Знаешь, Володька, хорошо было бы узнать, что это за птица?» (22; 393, курсив мой. — О.К.)
Так выходит на поверхность и предстаёт в полный рост любимейшая Булгаковская «птичья» тема, примыкающая к теме полётов. Уже в «Белой гвардии» наиболее шутовской из центральных персонажей, Ларион Суржанский, развивает целую «птичью философию», явившись с клеткой в турбинский дом:
«Николка. Вы так всегда и живёте с птицей?
Ларион. Всегда. Людей я, знаете ли, как-то немного боюсь, а к птицам я привык. Птица лучший друг человека. Птица никогда никому не делает зла».
Исследователь определяет его как человека с птичьими мозгами, канареечным мировоззрением (52; 77). Любопытно, что в пародийно-игровом домашнем собрании (последняя картина пьесы) при председателе Алексее Лариосика выбирают секретарём (т. е. птицей-секретарём).
В сценическом памфлете «Багровый остров» для говорящего попугая написана целая роль с холуйскими выкриками: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» и «Рукопожатия отменяются!».
В «Беге» Булгаков анаграмматически зашифровал в Голубкове83 самого себя, возводя своего Небесного Патрона к символизму Духа Святого («Голубков-божий»). Благодаря этому становится ясно по ходу пьесы мифологическое соответствие «привата» аллегорическому прочтению имени его возлюбленной Серафимы. Это подчёркнуто и в ремарке к первому действию, происходящему в монастыре: «Неверное пламя выдирает из тьмы конторку..., широкую лавку возле неё, окно, забранное решёткою, шоколадный лик святого, поднявших крылья серафимов, золотые венцы» (49; 454, курсив мой. — О.К.).
Появившись в «Собачьем сердце», прошла через всё остальное творчество Булгакова «сова, которую следует разъяснить», пока, наконец, в одной из редакций Закатного Романа она из чучела (оно так раздражало Шарика) не становится живой и зрячей среди обстановки «нехорошей квартиры».
Две назойливые птицы заявлены в текстовой структуре «Театрального романа»: одна из них — эмблематическая мхатовская чайка (Максудов в финале его «романа с театром» кончает самоубийством, бросаясь с Цепного моста в Киеве, пародийно перевторяя мельника из Пушкинской «Русалки» и уподобляясь чайке и одновременно до конца избывая её из себя); вторая — фамилия вездесущего и везде-свой-нос-сующего режиссёра Фомы Стрижа, по-гоголевски брутального молодого дарования, кого, как стригущего лишая, боятся все мхатовские «старики». Булгаков еле «вытащил» перемену фамилии оригинала, поскольку все во МХАТе боялись Страшного Судакова, кто «испепелял» всё вокруг своей неуёмной энергией.
Важную роль в жизни Булгакова сыграл А.М. Дроздов, пригласив его сотрудничать в «Накануне»; фамилия эта, перекликаясь с фамилией знаменитого белого генерала, отсылала к выражению «дать дрозда», в птичьей идиоматике занимающему одно из первых мест.
Есть у Булгакова и «часы с кукушкой», а в раннем «Евангелии от Воланда» читаем: «Копейный лес взлетел у литостратона, а в нём засверкали римские, похожие на жаворонков, орлы».
Под пару главе МиМ «Слава петуху!» подстраивается фамилия терпеливого следователя «товарища Курочкина», который допрашивал бестолочь Анну Семёнову, стараясь у неё выудить сведения о том, «откуда вышел профессор на Патриаршие?»
Всем памятен автомобильный водила чёрный грач, почему-то в полёте не пользовавшийся крыльями. Московское небо в Романе часто пересекают стаи галок и ворон. Вот как воспринимает пейзаж остывающее сознание Берлиоза: «Он понял, что это непоправимо, и не спеша повернулся на спину. И страшно удивился тому, что сейчас же всё закроется и никаких ворон больше в темнеющем небе не будет. Преждевременная маленькая беленькая звёздочка глядела между крещущими воронами» (7; 37).
Особого внимания Булгакова-Голубкова удостоились две птицы: воробей и ласточка.
Первый мифологически внятно прозвучал в фамилии Гоголевской курьёзной Елизаветы Воробей, которая была дана Чичикову в придачу и не посчитана всерьёз за мёртвую душу. Булгаков несколько раз обращается к этому жупельному для всех феминисток персонажу. Иронизирует даже над тем, что Елена Сергеевна не упомянута при отказе в выдаче иностранных паспортов, сравнивая её с этой Гоголевской птичкой (в документе). Но обессмертил он воробушка в написанной незадолго до смерти сцене у профессора Кузьмина84. «42 градуса!.. работа над романом. Пришёл Ермолинский в валенках, читал кусочек романа — воробушек. Мишин показ воробушка». Если учесть, что речь идёт о «приплясывании фокстрота», то булгаковский показ становится ещё выразительнее: это средневековый фарс на краю могилы. Воробушком обернулся Коровьев, и вдруг оказалось, что жвачная стать воробьиным повадкам не помеха. Семейство воробьиных вообще мифологически привязано к Сатанаилу; об этом свидетельствует и корень вор в наименовании многих его представителей85. Неудивительно поэтому, что прощание с Москвой происходит на Воробьёвых горах, хотя Булгаков воспользовался готовой возможностью, существовавшей, кажется, специально для него.
Не менее важная роль в произведениях автора МиМ отводится ласточке, выполняющей, правда без хулиганства ту же функцию, что и воробей. Ласточки — вестницы судьбы, ласточки — феи, ласточки — точки над i, ласточки, передающие атмосферическое волнение, ласточки перед грозой — все эти выразительные возможности образа были использованы Булгаковым неоднократно, но особенно много — в МиМ. Описание «искушения Христа» в первой (уничтоженной) редакции: «Ведь он же на закате стоял на крыле храма. <...> Он захлопал ладонями точно крыльями и закричал: — Закат догорает! Ласточки кружатся где-то далеко! И стоящего так и тянет нырнуть вниз, послушав тех, кто шептал ему на ухо: [Ну, смелее!] Прыгни с крыла! Риску нет никакого, потому что в двух шагах вытянувшись во фронт уже стоят [внимательные (заботливые)?] ангелы и ждут, чтобы подхватить смелого экспериментатора...».
В следующей редакции («Копыто инженера») после комплиментов Иуде со стороны Иешуа, когда Пилат проорался на тему «дурака», последовало: «О, дурак! Дурак! Дурак! — командным голосом закричал Пилат и вдруг заметался, как пойманный в тенета. Он то попадал в золотой пилящий столб, падавший из потолочного окна, то исчезал в тени. Испуганные ласточки шуршали в портике, покрикивали: «Искариот, искариот»...» (7; 222).
В редакции 1937 года («Князь тьмы») этот эпизод выглядит так: «В зале с золотым потолком остались вдвоём Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Караван — караван».
— ...Веришь ли ты в богов?
— Я верю в Бога, — ответил арестант.
— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум Каиафы. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешенным взором проводил ласточку, которая выпорхнула»
(6; 32).
В последней редакции: «Ласточкин из программного отдела зрелищ клялся и божился, что никакой программы, никакого Воланда он не разрешал и не подписывал и ровно ничего не знает о приезде мага Воланда в Москву. И уж по глазам Ласточкина можно было смело сказать, что он чист как хрусталь» (7; 446).
При окончательной правке текста Булгаков этого Ласточкина отменил, зато Иван, подойдя к Москве-реке, прыгает в воду ласточкой, вобрав семантически сцену искушения на крыле храма из первого варианта Романа.
Ласточки МиМ в жизни Булгакова оказались не последними. Незадолго до смерти он рассказал в общих чертах о плане новой пьесы Елене Сергеевне, та — П.С. Попову, и оба по памяти зафиксировали фабульное развёртывание сюжета86. Сам Булгаков успел написать только несколько строк: «Задумывалась осенью 1939 г. Пером начата 6.I.1940 г.
Пьеса
Шкаф, выход. Ласточкино гнездо. Альгамбра. Мушкетёры. Монолог о наглости. Гренада, гибель Гренады.
Ричард I.
Ничего не пишется, голова как котёл!.. Болею, болею».
Действительно, по сохранившимся записям видно, что у него произошла какая-то «деформация смыслов», а саморастормаживающееся сознание стало хаотично выдавать не пошедший ранее в дело материал. Сталин, политические процессы, театр, актёрская и писательская среда, обрывки Шекспировских и Серавантесовских реалий — всё закружилось в беспорядочном вихре, как сценический мусор после спектакля. Единственным более-менее связным куском является сцена с «писателем»: «Писатель стоит у окна и смотрит на расстилающийся перед ним город. Он говорит: «Хочешь, я всё это покорю и прославлю своё имя? Дело в счастии и нужно найти своё счастье». Он смотрит на двор и вспоминает, как в его детстве водили по дворам попугаев. При них были заклеенные конверты, и попугай клювом раздавал желающим конверты с пожеланиями, «с счастьем». «И вот такой конверт у меня должен быть, и я с ним прославлюсь». Счастливый случай приносит желаемое. В руки писателя попадает письмо одной женщины, матери чрезвычайно влиятельного человека, который в пьесе должен был называться всесильным человеком. При помощи этого письма писатель получает возможность проникнуть к всесильному человеку. В одном из действий представлен кабинет этого всесильного человека, до которого добрался и в который с великими трудностями попадает писатель с письмом матери. Писатель недоумевает, что в кабинете никого нет, как вдруг стоящий в кабинете шкап с книгами начинает двигаться, распадается и перед писателем оказывается всесильный человек. Писатель чувствует себя в величайшем смущении. Язык прилипает к гортани, и писатель начинает бессвязно лепетать что-то о попугае, о своём счастье, о письме — и смущённый совсем умолкает. Всесильный человек долго смотрит на него и разражается градом оскорбительных слов выговора. Миша это называл монологом о наглости. Всесильный человек должен был говорить: «Много я безобразий видел на своём веку, много нахальства, которое приходилось обрывать, но такой наглости я не встречал. Откуда вы взялись, что за попугай, что за ерунду вы несёте?»».
Здесь автореминисценции на свои прежние писательские амбиции и «желание славы», попсовую жажду счастья, которое раздаёт, естественно, попугай. Всё это выскакивает из подкорки призванного на служение истине и на обладание ею. Вызывающедерзкое стремление к свободе и независимости подразумевало этот самый «монолог о наглости», в конце концов разразившийся. Булгаковская исповедь, записанная Ермолинским в том же 1939 году: «Именно тогда я и подложил себе первую свинью... Молодость! Молодость! Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка — я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачёсаны назад. Редактор смотрел на меня потрясённо. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлёк дедовскую «луковицу», нажал кнопку, и мой фамильный брегет проиграл нечто похожее на «Коль славен наш Господь в Сионе». «Ну-с? — вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествляя его. «Ну-с, — хмуро ответил мне редактор. — Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек». Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция закончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: «Не наш человек». Без сомнения, это относилось ко мне».
Тщетная — для людей такого масштаба — жажда славы привела Булгакова и в театр.
«Что привело... в театр? — Жажда денег и славы. Затаённая мечта выйти на аплодисменты публики владела мною с детства. Я во сне видел свою длинную шатающуюся фигуру с растрёпанными волосами, которая стоит на сцене, а благодарный режиссёр кидается ко мне на шею и обцеловывает меня буквально под рёв восторженного зрительного зала» (9; 97—98). В стране абсолютной взаимной зависимости такая независимость, конечно, должна была выглядеть наглостью. А желание счастья — заносчивым молодёжным идиотизмом.
Реальность времени завершения МиМ была совсем иной. 24 февраля 1936 года Елена Сергеевна записывает в дневнике: «Участь Миши мне ясна, он будет одинок и затравлен до конца своих дней» (50; 202). Через год Булгаков пишет Ермолинскому: «Сидим с Люсей до рассвета, говорим на одну и ту же тему — о гибели моей литературной жизни. Перебрали все выходы, средства — спасения нет.
Ничего предпринять нельзя, всё непоправимо» (16; 441).
Так и подступил этот самый конец дней.
«17 января 1940 г.
Сегодня днём в открытую в кухне форточку влетела синичка. Мы поймали её, посадили в... корзину. Она пьёт, ест пшено. Я её зову Моней87, она прислушивается».
«И тогда по белой лестнице
Поведут нас в синий край...»
То вестница этого синего края.
И за два дня до смерти — Елене Сергеевне: «Го-луб-ка».
Синь и голубизна двух последних в его жизни птиц уводят его — Голубкова — куда-то за грань бытия, в бараташвилиеву синеву вечности.
Символика цветов и эзотерика цветообозначений также играют огромную роль в Булгаковских текстах.
В «Белой гвардии» петлюровская карикатурная «Сыняя дывызия» мобилизует в свои ряды Алексея Турбина. Кое-как ему удаётся сбежать; дома новоявленный дезертир рассказывает: «Вы знаете, — медленно ответил Турбин, — они, представьте, в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В чёрных...» (49; 438).
Столь же эмоционально обыгрываются и другие цвета. Особенно — контрастная по цветовому кругу пара: фиолетовый и жёлтый. У них есть «благородные» оттенки — фиалковый и золотистый и пародийные к ним мещанские — сиреневый и канареечный. Все зафиксировали тревожные жёлтые цветы в руках у Маргариты при первой встрече с Мастером (судя по всему, речь идёт о мимозе); однако мало кто помнит, что во время встречи с Азазелло в Александровском саду у неё в руках были два букетика фиалок: «В память мастера и встречи с ним она купила два букетика фиалок, завёрнутых в зелёные листья. «Один — мне, другой — ему...» — думала Маргарита. Но ей мешали сосредоточиться две спины, которые всё время толкались перед нею: одна широкая, другая щуплая с выпирающими из-под ткани толстовки лопатками. Шептуны приценивались к горшкам с бледно-фиолетовыми гиацинтами. Наконец, Маргарита покинула лавку, но, обернувшись, видела, как двое суетились у приступочки автобуса, хватаясь одной рукой за поручень, а другой прижимая к животу по два горшка с тощими гиацинтами». Густая, виолончельная фиоль в её руках и «тощая» гиацинтовая немощь так же контрастны, как «сиреневый» гражданин из Торгсина и фиолетовый рыцарь. «В задней части дрог на подставке стояли в горшках цветы, и Маргарита тотчас разглядела четыре бледно-фиолетовых гиацинта. «Те самые» — подумала она».
«Букетики лежали у неё на коленях, черная сумочка рядом на скамье».
Начинается действо.
««Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключилась из жизни?»
Она совсем запечалилась, пожурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула её.
«Да, случится!» — Маргарита шевельнулась, букетик упал на песок, и тотчас же волна донесла до неё сквозь шум города удар барабана и звуки фальшивых труб».
Появляется Азазелло и начинает эту самую сову «разъяснять».
«Маргарита, не заметив, что упал на землю и второй букетик, стояла и не спускала глаз с процессии, которая в это время колыхнулась и тронулась».
Процессия проходит. «Маргарита подняла фиалки и села на скамейку».
Азазелло комментирует увиденное: «И вообще я многого не понимаю... Зачем, к примеру, гиацинты? В чём дело? Почему? Почему понаставили в машину эти вазоны? С таким же успехом клубнику можно было положить или ещё что-нибудь... Наивно это как-то, Маргарита Николаевна!»
Затем он вручает ей губную помаду, крем в золотом футляре и золотой коробочке, и гармоническая полнота даёт возможность нам сопоставить Булгаковскую живопись с Гойей и Веласкесом.
Ядовитый жёлтый, опозоренный лимонными кальсонами Чарноты, становится угрожающим серным наваждением в отворотах сапог Лариосика. Младший Турбин спросонья принимает его за видение.
«Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с жёлтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и жёлтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на неё чёрным платком и распечатанное голубое письмо...
«Это я ещё не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья. В чёрной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистела, и затарахтела».
Желтизной, серостью и серными аллюзиями видение было абсолютно инфернально, а реакция птицы только подтверждала это.
Это канарейка? — спросил он.
— Но какая! — ответил неизвестный восторженно, — собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенар. Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук»(49; 298—299, курсив мой. — О.К.).
Сатанинское число серного цвета пичуг — уже целая дьяволическая оратория, да ещё происходящая из своего рода столицы (Жидо-мир) «сатанинского» же этноса, который обрисован на страницах «Белой гвардии» с исчерпывающей полнотой. Наповерку, сатанинской является только его активная, «пассионарная» часть; она представлена двумя монументальными монструозными фигурами — Шполянского и Троцкого. Михаил Семёнович Шполянский выступает как капризный баловень судьбы и обстоятельств, укротитель толпы и поработитель маргиналов, циник, растлитель душ и тел, своеволец и себялюбец, «мелкий бес» провинциального болота. Обалдуй и распустяй Иван Русаков (с безусловно манифестирующими именем и фамилией), упивающийся кощунственными виршами графоман, наркоман и сифилитик, полностью находится во власти небрежно покровительствующего ему шустрика и везунчика Шполянского. Поскольку эта пара с новыми именами вновь появляется в первых же фразах МиМ, имеет смысл исследовать киевскую предысторию этого насыщенного символизмом дуэта.
«Михаил Семёнович был чёрный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семёнович стал известен немедленно по приезде своём из города Санкт-Петербурга. Михаил Семёнович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна»88 и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный Триолет». Кроме того, Михаил Семёнович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и ещё одну даму, имени которой Михаил Семёнович, как джентльмен, никому не открывал, имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам «Магнитного Триолета»;
пил белое вино,
играл в железку,
купил картину «Купающаяся венецианка»,
ночью жил на Крещатике,
утром в кафе «Бильбокэ»,
днём — в своём уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь»,
вечером — в «Прахе»,
на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя».
Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семёнович второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка «Магнитного Триолета») следующее:
— Все мерзавцы. И гетман и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, ещё и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.
По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил Михаил Семёнович, его, Михаила Семёновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь «Магнитный Триолет» и пятый — некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нём Шполянскому было известно немного: во-первых, что он болен сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семёнович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников, и, в-третьих — что он — Русаков, сын библиотекаря.
Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарём Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил:
— Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниёт так же, как я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твоё жуткое сходство с Онегиным! Слушай, Шполянский... Это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Вот я гнию и горжусь этим... Ты слишком здоров, но ты силён, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так...
И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зелёных, красных, чёрных и белых шапочках, красивые как куклы и весело бормотали винту:
— Занюхался, т-твою мать?
Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семёнович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.
— Иди спать, — говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него, — иди. — Он толкнул концами пальцев козье пальто в грудь. Чёрные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семёнович подозвал извозчика, крикнул ему: «Мало-Провальная», — и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол».
Как видим, баловень успеха Шполянский позволяет себе «валять Ваньку», поощряя Ивана в беззакониях и выводя на уровень публичности любое испражнение ума, вернее, безумия. Настойчиво повторяемый (четырежды!) козий мех, возводит сцену к сказочному алёнушкиному предупреждению «Не водись со Шполянским — козлёночком станешь!» Да на то Иван и дурак, чтобы не слушать голоса разума. Подожжённый со всех возможных сторон этот человеческий огарок простодушно ступает по болоту чужих изощрённых фантазий и прихотей; потерявший свой богоподобный облик, осатаневший и утративший твёрдую почву под ногами «остаток» ведом житомирскими Онегиными, почти не прибегающими к понуканиям, а ограничивающимися демагогией и посулами для дураков — таков образ русского человека начала века, и это, воистину, — монументально представленное ничтожество. Немудрено, что оно упирается своими козлиными рогами в стену отчаяния и полной безнадёги.
«В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед зеркалом, держа зажжённую свечу в руке, стоял обнажённый до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как чёрт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребёнка.
— Боже мой, Боже мой, Боже мой... Ужас, ужас, ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лёльку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, господи, господи... Пройдёт пятнадцатъ лет, может быть, меньше и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом — я гнилой, мокрый труп.
Обнажённое до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звёздная сыпь. Слёзы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.
— Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, моё отражение?
Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке её было напечатано красными буквами:
ФАНТОМИСТЫ — ФУТУРИСТЫ
Стихи:
М. Шполянского
Б. Фридмана
В. Шаркевича
И. Русакова Москва, 1918
На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидел знакомые строки:
Ив. Русаков
Богово логово
Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Боговой битвы
Встречаю матерной молитвой.
— Ах-а-ах, — стиснув зубы, болезненно застонал больной. — Ах, — повторил он в неизбывной муке.
Он с искажённым лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к чёрному безотрадному окну:
— Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы — покойницы — я достаточно наказан. Я верю в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силён только потому, что ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семёновича Шполянского!..
Свеча наплывала, в комнате холодело, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало».
Откуда что взялось! Ведь только что он завивался винтом, совсем как Фагот перед тем как свистнуть, бравировал своей «благородной червоточиной» и расточал комплименты «Онегину» сусанинского пошиба — и вдруг!.. какая метаморфоза, какой прокол, какой провал прямо из маскарада во внезапный ледяной серьёз, какая совсем не матерная молитва отчаянья! Значит, одно присутствие Шполянского подвигало на чудовищные слова, прозвучавшие только что: «Вот я гнию и горжусь этим».
Чем же кончается вся эта «разоблачённая Изида»? — Изыди, Шполянский-сатана!
«Михаил же Семёнович Шполянский провёл остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели, тронутые временем, эполеты сороковых годов. Михаил Семёнович был без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался чёрный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова:
— Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи — гетману в броневой дивизион.
После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:
— Я очень жалею, что никогда не понимала и не могу понять твоих планов.
Михаил Семёнович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:
— И не нужно».
Не то удивительно, что мелкий бес Миха Шполянский находит приют на Малой Провальной (Булгаков запрограммировал этот «сдвиг по хазе» как и то, что босота Русаков жмётся к материнскому Подолу), а то, что и козий мотив перемещается со Шполянским сюда, в мещанское логовище пассивного еврейства (улей Юлии), которое ему столь же далеко, как и русаковщина — пьяная и неопрятная.
«Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торопясь кончить всякие дела засветло.
— Если это пациент, прими, Анюта.
— Хорошо, Алексей Васильевич.
Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошёл в гостиную.
— Пожалуйста, — сказал Турбин.
С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.
— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?
— У меня сифилис, — хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо и мрачно.
— Лечились уже?
— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.
— Кто направил вас ко мне?
— Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр. <...>
— Вы что же, знакомы с ним?..
— Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, — объяснил посетитель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему (т. е. настоятель настоял. — ОК).
Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.
— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, по-видимому, религиозный.
— Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.
— Это, конечно, очень хорошо, — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон.
— По ночам я молюсь.
— Нет, это придётся изменить. Часы молитвы придётся сократить (сократическое решение. — ОК). Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.
Больной покорно опустил глаза.
Он стоял перед Турбиным обнажённым и подчинялся осмотру.
— Кокаин нюхали?
— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.
«Чёрт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».
Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.
— Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.
— Хорошо, доктор.
— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...
— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, — говорил больной, застёгивая рубашку, — злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.
— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь вы в психиатрическую лечебницу попадёте. Про какого антихриста вы говорите?
— Я говорю про его предтечу Михаила Семёновича Шполянского, человека с глазами змеи и с чёрными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...
— Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но всё-таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день...
— Он молод. Но мерзостей в нём, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полками89 лик сатаны, идущего за ним.
— Троцкого?
— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.
— Серьёзно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите... у вас мания развивается...
— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берёте за ваш святой труд?
— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своём труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.
— Очень хорошо.
Френч расстегнулся.
— У вас, может быть, денег мало, — пробурчал Турбин, глядя на потёртые колени. — «Нет, он не жулик... нет... но свихнётся».
— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.
— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.
— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там, — больной вдохновенно указал в беленький потолок. — А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы ещё не видали... И наступят они очень скоро.
— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.
— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.
«Где-то я уже слыхал это... Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».
— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста» (49; 261—265, 388—391; курсив мой. — О.К.).
Если Босой (Поротый) по определению штукарь, то тут что ни слово, то штука, что ни пауза, то полштуки, от кощунства до елейной благостыни, как выясняется, всего один шаг. От полной богооставленности с молитвой в чёрное окно до самоупоения псевдодуховной бормотухой — и того меньше. И каждый раз — проскакивание мимо ясности и здравого смысла, несуетливости и естественности в карбидное пузырение умственного графоманства и ханжества. Измена Шполянскому оборачивается холуйским подпеванием «отцу Александру», и ядовитым турбинским «прелесть» вынесен всему этому цирку достойный вердикт и «разумё». В подобном постоянно булькающем отстойнике никогда не отразится величавый лик Божества.
И всё было бы ничего, да ужас в том, что Русаков типичен, комичен, пошл — но общенационален, и устами сифилитика, наперекор врачебным рекомендациям интеллигента Турбина, читается та самая, не рекомендованная им книга, завершая своими огненными вокабулами романное полотно.
«Металась и металась потревоженная дрёма. Летела вдоль Днепра. Пролетела мёртвые пристани и упала над Подолом. На нём очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трёхэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешёвый номер дешёвенькой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжёлая книга в жёлтом кожаном переплёте. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.
«И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».
По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.
Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошёл до слов:
«...слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»» (49; 400—401, курсив мой. — О.К.).
Когда жизнь полна свинства и маразма, утешение можно найти лишь в величественных картинах финализма. В знаменитом «Да гори всё оно синим пламенем!». Не потому ли русский человек так оцепенело-восторженно любит смотреть на пожары, вместо того чтобы торопливо всем миром таскать для тушения вёдра с водой? В каждом из нас сидит такой голозадый «братец Иванушка», пригорюнившийся над своей полностью испохабленной судьбой.
Только не стоит забывать, что за красотой финалистских картин следует — ничего. «Времени уже не будет» — это из той же «тяжёлой» книги. В том числе и для того, чтобы сделать последний — даже выигрывающий — ход.
«Последняя ночь расцветала. Во второй половине её вся тяжёлая синева, занавес Бога, облекающего мир, покрывалась звёздами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами...
...Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. ...А вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» (49; 402, курсив мой. — О.К.). — Неправомочное обобщение. Турбины всегда на них смотрели. Потому и вечно раскрытая партитура «Фауста» на рояле, героизм, милосердие и рыцарский дух.
Что читать нашкодившим пацанам, когда «грянет гром»? Уж не «Богово-ли-логово»? Неудивительно, что они и «открывают для себя» книгу, повсеместную как телефонный справочник. Ещё бы. «чукча не читатель, чукча — писатель». А потом лезут с восторженными цитатами общеизвестных мест.
Пришло время Алексею Васильевичу предъявить свою книгу. Написанную в беспрерывном, каждодневном, любовном созерцании звёзд и полночного неба, что определённый вид животных видит лишь отражёнными в луже. И книга эта — достоинства наивысшего. Ибо книг жизни на самом деле может быть отнюдь не одна.
Пришло время... И впрямь, время на земле — есть, и оно — эквивалент жизни. Даже «космическое время» далеко не вечность, просто очень большое время. Вечность же — статична и предусмотрена для пребывания абсолютного совершенства Божества. Развитие и вечность — понятия полярные, посему время на Земле драгоценно и его нельзя терять.
«Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трёх часов. Но на лице Елены в три часа стрелки показывали самый низкий и угнетённый час жизни — половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах её началась тоска и решимость бороться с бедой.
На лице у Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был хаос и путаница...
...Раненый просил — «пить». То Николкино, то Еленино, то Лариосиково лица показывались в дымке, наклонялись, слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, — ровно половина шестого.
...Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была ещё страсть к книгам. Здесь же на открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища. Зелёными, красными, тиснёнными золотом и жёлтыми обложками и чёрными папками со всех четырёх стен на Лариосика глядели книги. ...Лариосик всё ещё находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплёты, не зная, за что скорее взяться... Стрелки стояли на двенадцати» (49; 306—309, курсив мой. — О.К.).
На лицах интеллигентов всегда бывает «время собирать камни» и редко — «время разбрасывать их». Патетика сектантства не овладевает ими, ибо они всегда обслуживают истину и никогда — толпу. Интеллигент прежде всего читатель и только потом — иногда — с большим опозданием — писатель. Когда же, написав нечто с муками и кровью, суётся, чтобы написанное издать, обнаруживает толковищу из шполянских вперемешку с «чукчами», которые шныряют, всюду через неделю становясь завсегдатаями и своими, или «сидят на ветках, как вороньё, выжидая, чем поживиться».
«Я впервые попал в мир литературы, но теперь... вспоминаю его с содроганием и ненавистью!90» — резюмирует Мастер, вытесненный осатанелыми профанами в дурдом. Действительно, «куда полез со своей писаниной, когда — вот — не видно, что ли? — очередь многолетняя, а вот надпись на дверях: Местов нет! Тут выпускников Литинститута не могут работой обеспечить, а этот — на тебе, — явился не запылился! — Занимался бы себе своей историей-медициной, — самим жрать нечего! Фельетоны — куда ни шло — пущай нам животики надрывает, а прозу, да по пяти целковых за лист — этого ни-ни!»
Но — роман написан, Мастер готов, экзамен надо принимать.
И в Москве появляется «специалист по чёрной магии».
Примечания
1. В глубинном смысле распятие — это распяливание на пентаграмме.
2. Цит. по кн. Зив С. «Фауст» Ш. Гуно. М.—Л., 1951 (с. 10, курсив мой. — О.К.).
3. Там же (с. 11, курсив мои. — ОК).
4. Там же, стр. 16.
5. Вальс — из фр. valse, которое происходит от нем. Walzer, «катающий». Прямое прочтение французского названия танца звучит по-немецки как false, а англ. false — ошибочный, неверный, фальшивый, обманчивый, лживый (ср.-в.-н. valsch — фальшь).
6. Зив С. «Фауст» Ш. Гуно. М.—Л., 1951, с. 43.
7. «Криминальная» брошюра В.И. Экземплярского называлась «Гр. Л.Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст и их взгляды на жизненное значение заповедей Христовых» 1911 г.
8. Он же метахимия серы в аспекте имени автора «Записок покойника»: Сергей (Максудов).
9. Имеется в виду ария Мефистофеля со свистом из оперы А. Бойто «Мефистофель» (окон. ред. 1886 г.). Гениальный Шаляпин, для кого словно бы специально написана заглавная партия, выступал в этой опере с 1901 года как в Италии, так и в России.
10. Герой романа Т. Манна «Доктор Фаустус», чье имя произведено от героини оперы Ф. Чилеа «Адриенна Лекуврер», написанной в 1902 году по драме Э. Скриба и Э. Легуве Прототипами для этого образа послужили Арнольд Шенберг и Игорь Стравинский.
11. Это напоминает и детские забавы Экзюпери, происходившие в начале XX столетия. «Я — родом из детства», — мог бы повторить вслед за Антуаном Великим каждый из перечисленных мастеров.
12. Мистлер Ж. Жизнь Гофмана. Л., Academia, 1929.
13. Миримский И.В. (1908—1962) — советский литературовед, в 30—60-е годы державший монополию на исследование творчества Гофмана.
14. Герой Гофмановского «Кавалера Глюка».
15. Едва ли Булгаков полностью самоидентифицируется со словами не менее чем он скованною совцензурой исследователя. Тайная связь его самого с Волошиным, Флоренским, а через них с В. Шмаковым не вырисовывает в нём простачка и рационалиста в духе статьи Миримского.
16. С исправл.
17. В другом письме Попов замечает: «... основная пружина смеха — то комическое чувство, которое вызывается автоматическим движением вместо движения органического, живого, человеческого. Отсюда склонность Гофмана к автоматам» (2; 533)
18. Самый знаменитый из них — И. А Крылов.
19. Даже Пушкин, создавая своего Фауста, не мог длить эту краткую сцену: в следующий за взрывом корабля момент герой должен был бы взорваться сам или, засучив рукава, как «Саардамский плотник», начать работать. «Со сна сажуся в ванну со льдом», — глядишь, и вылечил геморрой. Сосна — это вам не пальма, едрёна вошь!
20. На этот сюжет, кстати, написана еще одна довольно известная опера Ш. Гуно.
21. Воейков А.Ф. «Дом сумасшедших». Первая редакция — 1814 г., окончательная — 1838 г.
22. Заканчивая разбор знака по элементам, следует отметить важные числовые характеристики его структуры. Так числовое значение G = 7; H = 8; их модульная сумма равна 15 — числовому значению буквы O. Четыре G (7×4) дают длину в днях (28) лунного месяца; арканное число O = 15 отсылает к угловому аркану Дьявол, арканное число H = 8 указывает на другой угловой аркан — Справедливость.
23. Пьеса А.Н. Афиногенова — офигенная!
24. Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995, стр. 377.
25. Гоголь и Мейерхольд. — Гоголь и Мейерхольд. М., 1923.
26. «Хлестаков пополам с Иезекиилем» — называл его в эти годы Д. Святополк-Мирский.
27. Цит. по Барабаш Ю. Гоголь. Загадка «Прощальной повести». М., 1993, стр. 16.
28. См. 20; 145.
29. Не отстаёт от Павла Попова и Пётр Вильямс. Из дневника Елены Сергеевны: «Разговор о Достоевском. Петя говорит, что он его ненавидит как тип человека.
О Гоголе — Петя ставит его необыкновенно высоко как писателя. Миша спросил — «Но я, не похож на Достоевского?» На это Петя ответил — «Никак! Вы похожи на Гоголя»» (4; 373).
30. Гоголь Н.В. ПСС в 14-ти томах. М., 1937—1952, т. VIII, с. 219.
31. Страницей раньше: «Особой любовью он любил Гоголя...»
32. Интересны и числовые значения кемисвастики. Пять Г кириллицы дают в сумме (3×5) число аркана Сатанаил (15), а числовой эквивалент буквы О равен 60, что соответствует числовому значению 15-го аркана Таро.
33. Термин Антуана де Сент-Экзюпери.
34. Толкование арканов смотри в соответствующих главах Второй части моей книги.
35. Булгаковский рассказ на эту тему из «Записок юного врача» называется «Крещение поворотом».
36. Аксаков А.Н. (1832—1903), племянник С.Т. и двоюродный брат И.С. Аксаковых; автор кн. «Анимизм и спиритизм». Спб., 1893; «Предвестники спиритуализма за последние 250 лет». Спб., 1895 etc.
37. Слово-концепт Достоевского, настойчивым повторением которого он начинает своего «Идиота».
38. Хитрован КаэС оставил для себя скромную роль кучера Селифана — как выясняется, единственного положительного персонажа поэмы.
39. Курсив мой — ОК.
40. Курсив мой — ОК.
41. Интонационное усиление моё — ОК.
42. С этого начинается замечательная «полётология» Ми М.
43. Подробно эта антитеза изложена в хорошо известной Булгакову книге Анри Барбюса «Иисус против Христа».
44. «Трактат об идиотизме» смотрите ниже.
45. По мнению испанских мистиков «за крестом распятия стоит Сатана».
46. Приводим его в Булгаковской интерпретации в качестве эпиграфа к Ми М.
47. Основой для дальнейшего изложения служит чёткая синхроническая сводка во вступительной статье В. Лосева в 7; 13—18.
48. См. 9; 83.
49. Основой легенды послужила та реальность, что Сталин носил сапоги из очень мягкой кожи, что («неспроста») шили ему на заказ, и другой обуви он не признавал.
50. Даниловский Г. Мария Магдалина. М.—Л., 1923, IX (пер. Горнфельда: в тексте — стр. 112 — перевод другой).
51. О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! (лат.)
52. Намёк на «Чёрного монаха» Чехова.
53. По стажу в литературе, конечно.
54. В материалах к Роману есть выписка: «Аддраммелех — великий канцлер ада» (20; 77).
55. Впечатляет 15 как сумма цифр года (1 + 9 + 3 + 2), равная числу просмотров спектакля Хозяином.
56. Не забудем, что фамилию Близнецов носил финдиректор кабаре в редакции 1937 года! (см. 6, гл. 10)
57. Обращаю внимание на заглавную букву в этом слове.
58. Не забудем, что год Тельца был его, Булгакова, годом и годом его учителя М. Волошина.
59. С помощью Высших Сил, конечно. Ему «не засчитали» употребление наркотиков, вина, никотина и мяса, тогда как его отец, который вёл гораздо более воздержанную жизнь, прожил (при наличии той же болезни) на год меньше. Булгаков взял на себя родовую карму, освободив от «дамоклова меча» двух младших братьев.
60. Реконструкция М.О. Чудаковой, редакция моя — ОК.
61. Все пентоидные структуры «подвязаны» к пятнице и ей символике.
62. Для усиления этого смысла персонаж в ходе работы над Романом имел даже фамилию Мирцев.
63. Иногда, прямо или окольными путями, Булгаков добавляет ещё одно определение: арамейских.
64. В аспекте предыдущего примечания следует обратить внимание на настойчиво высовывающийся из этой фамилии Берлин с намёком на то, что «Володья-дьяволо» был, по слухам, немецким шпионом, сильно засекреченным (на это указывает анаграмматический ребоз-ребус фамилии).
65. Ещё варианты: «Кабаре», «Мюзик-Холл».
66. С этим обобщением образ Иванушки разрастается до размеров всего русского народа.
67. Это «совру» странным образом читается как «сов. руководитель».
68. «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате» — фрагмент православного «Символа веры», зомбирующей простолюдинов словесной формулы.
69. Речь, безусловно, идёт о «ворошиловских стрельцах».
70. В аспекте событийной мистики Романа не надо упускать, что дело происходит в среду вечером и четверг утром.
71. Впервые Булгаков ввёл форму «прозаической баллады» в «Беге», где Корзухин в ответ на просьбу Голубкова о вспомоществовании в размере тысячи долларов разражается «балладой о долларе» (см. 49; 515). По воспоминаниям М. Яншина, Булгаков написал для пьесы несохранившуюся «балладу о маузере», уничтоженную, возможно, в связи со сходством по теме с известным стихотворением Маяковского. Невежественный Катаев не обратил внимания на литературный характер осуждаемого им булгаковского монолога.
72. В завуалированной форме это то же, что и ответ Иешуа Пилату: «Я не врач» (6; 30).
73. Вот почему Булгаков так хотел назвать этот персонаж Романа Мирцевым (Мирцев — это мир сей).
74. В этой чрезвычайно естественной по процедуре струне исследователи почему-то не увидели музыкальных аллюзий. А зря. Ведь речь идет о Берлиозе. Впрочем, его еще и «приструнили», конечно.
75. В этой редакции он носит фамилию Тешкин и псевдоним Беспризорный.
76. Глубочайшее знание семантики этого понятия Булгаков продемонстрировал в «Жизни господина де Мольера».
77. Почин положил в 1966 году Игорь Виноградов своей знаменитой статьёй «Завещание мастера».
78. Это была Люба Белозерская (см. 22; 485).
79. Курсив мой — ОК. Это к теме о пятнице и пентоидности как антропном принципе вообще.
80. Не исключено, что последний раз Воланд был в Москве в последние дни жизни Ивана Грозного; во всяком случае, если судить по ранним вариантам Романа, тогда он посетил Москву наверняка.
81. Мотив этот имеет свою генеалогию. Вот что пишет Достоевский в «Подростке»: «...А хозяин, как нарочно, пустился толковать о каких-то фокусах, которые будто бы сам видел в представлении, а именно как один приезжий шарлатан, будто бы при всей публике, отрезывал человеческие головы, так что кровь лилась, и все видели, и потом приставлял их опять к шее, и что будто бы они прирастали, тоже при всей публике, и что будто бы все это произошло в пятьдесят девятом году».
82. Именно поэтому появление Мессира происходит близ водоема, по которому он даже плавает на лодочке ради вящего аллегоризма.
83. Луначарский мгновенно расшифровал Голубкова-Булгакова, поскольку сам имел брата-учёного, писавшего книги под псевдонимом Чарнолуский.
84. Продиктована Булгаковым Елене Сергеевне в январе 1940 г. (см. 22; 648).
85. Даже сорока через 40 — числовое значение 13-го аркана («чертова дюжина») привязана к тому же дьяволическому началу.
86. См. 4; 315—316, 387—388.
87. Уж не уменьшительное ли это от «монада»?
88. Имеются в виду капли крови с крайней плоти Кроноса, после того как Сатурн оскопил своим серпом (косой) собственного отца. От одной из таких капель, упавших в море, родилась Афродита.
89. С исправл.
90. 7; 334
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |