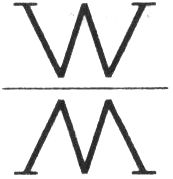Аркан1 1.
Наименование: Маг. (Профанные названия: факир, фокусник, скоморох, ср.-век. жонглёр.)
Буква евр. алф: א Алеф, одна из трёх основных (матерних) букв.
Иероглиф: Человек (Мужчина).
Числовое значение: 1.
Гностический символяриум: Центр Неба; Видимое и Невидимое; Первая Божественная Эссенция; Отец (Ат); Открытость Небесам & Полнота мудрости о Земле.
Графический символ: Точка.
Астральный знак: Уран.
Орденское описание. У алтаря, представляющего куб белого камня (Алатырь), стоит в иератической позе Маг (чина Муж), сигнализирующий человечеству сакральными жестами. В поднятой правой руке он держит жезл (у П. Смит свечу, подожжённую с двух сторон, причём нижнее пламя тянется в сторону земли); опущенной левой он указывает на землю (природу, фюсис). Это пластическое изображение величайшего откровения Гермеса Трисмегиста, запечатлённое в его «Изумрудной скрижали»: «Что вверху, то и внизу; что внизу, то и вверху».
В картине присутствуют два знака бесконечности: над головой Мага — лемниската, символизирующая бесконечность абсолютную; вокруг него в качестве пояса обвита змея, кусающая свой хвост (урей, уроборос) — символ актуальной бесконечности, имеющей диаметр, но не имеющей конца.
На алтаре лежат священные предметы — символы четырёх мастей: жезл (посох); чаша (кубок); меч; пантакль (денарий) с изображением пентаграммы ⛤ (символ человечества) на одной стороне и гексаграммы ✡ (символ космоса, космического всеединства) на другой.
Профанное описание. Перед кубическим столиком стоит факир с поднятой вверх в правой руке волшебной палочкой. Левой рукой он делает предупреждающий жест «сейчас появится!..», «вот-вот будет здесь»; заклинание («крибле-крабле-бумс!») уже произнесено, внимание зрителя, максимально рассредоточенное положением рук фокусника, создаёт удобную для «чуда» ситуацию. На столе лежит полный престидижитаторский набор: палка типа «батон», шпага (для шпагоглотания), бутафорская чаша и увеличенных размеров (наподобие старинных монет) сикль (бубен). Факир одет в чёрный фрак, на голове цилиндр с восьмерящим дном; под фраком ослепительной белизны рубашка и белый же пикейный жилет; пояс на талии напоминает свернувшегося кольцом удава2.
Первая строка Первой главы переписывалась Булгаковым неоднократно. «Цена каждого слова», о чём он так истово говорил Ермолинскому, в этом случае обнаружила себя с особой выразительностью. Вариативность первой фразы Романа привела к появлению двух канонизированных зачинов. Кроме признаваемого нами окончательным (1; т. 5) не менее известен и «запев» публикации 1973 года:
«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару...»3.
Булгакова не устроило в этом ритмически совершенном начале слово «однажды», исполненное избыточной сказовой интонационности и потому мешающее неожиданности патриаршей «истории», обещанной иностранцем. Кроме того, в нём явно слышалось пародийное эхо знаменитого некрасовского: «Однажды в студёную зимнюю пору...».
Окончательный вариант надвигается на читателя, как экспресс, и тому приходится исхитряться, чтобы на ходу «вспрыгнуть на подножку». Заботливых рук рассказчика с «шехерезадым» однажды, вроде трапа к самолёту, не подано, и диккенсова комфорта при чтении ожидать не приходится.
Итак, у Патриарших прудов появились двое «граждан». Последнее слово в Булгаковском лексиконе отнюдь не нейтрально: «потомственный гражданин» — назвал он себя в мхатовской анкете4. Назвал с гордостью, имея в виду высокий цивилизационный статус горожан («граждан»). Звучащее вроде бы спокойно слово при ближайшем рассмотрении оказывается «по горло» начинённым взрывчаткой сарказма: один из «граждан» оказывается типичным выходцем из вчерашних мест осёдлости, второй — плохо скрываемым «подпаском с огурцом».
В следующем абзаце выясняется (не без лукавого споспешествования автора), что первый «был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нёс в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе» — Михаил Александрович Берлиоз, а «второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жёванных белых брюках и чёрных тапочках» — Иван Николаевич Понырёв, пишущий под псевдонимом Бездомный.
Приглядимся к этим двум персонажам, с участием которых разыгрывается Пролог Булгаковской мистериальной драмы.
Старший из «граждан» определённо кого-то напоминает... Ба! Да это постаревший на пять лет (в пьесе «Адам и Ева» ему 35) известный литератор Павел Апостолович Пончик-Непобеда! — апостол Павел «Мценского уезда». (Вспомним каноническую иконографию Савла из Тарса Деяний: маленький, коренастый, чернявый, лысый, как бильярдный шар.) Сбритая, по столичной моде, чёрная, как смоль, борода компенсирована «сверхъестественных размеров очками в чёрной роговой оправе». Жгучесть, серьёзность, учёность — налицо. Просто Фарисей Фарисеич какой-то, как любил называть себя в синагогах и Иерусалимском храме упомянутый Савл.
Очковый рогоносец в руке нёс приличную шляпу пирожком. Что значит это невероятное «приличную»?..
Смилуйся, автор, дай ответ! — Не даёт ответа.
Позвольте, позвольте — не так прочли: не(с)приличную — вот оно что (форму опускаю за её полной непечатностью).
Фаллический персонаж с йонивидной шляпой в руке — это, конечно, картина. — Почти «ягодичная поляна» Александра Иванова. Тем более, что и вода рядом.
Апостол Павел, он же Пончик-Непобеда, он же Михаил Александрович Берлиоз, возглавил группу граждан из двух человек, вышедших в час жаркого весеннего заката на Патриаршие пруды. Естественно, Савл из Тарса не может быть ведомым, что он и заявил уже однажды с броневика.
А раз не ведомый, то, значит, неведомый. Что и требуется прояснить.
Берлиоз — это, конечно, подлинная фамилия, а вот Михаил Александрович — точно, псевдоним. Вроде Савлова «Павла».
Покидая места оседлости, вписываясь в города, бывшие местечковичи меняли свои двух-трёхэтажные «редкоземельные» этнонимы на общеупотребимые, широкопотребные. (Например, дед Елены Сергеевны Мордко-Лейба Нюренберг, переехав из местечка в Бердичев, заделался Марком; отец — Шмуль-Янкель, приняв лютеранство, а затем православие, стал обычным Сергеем5).
Стало быть, иудейско-ершалаимская мелодика появляется намного раньше знаменитых Древних глав и проявляется в тексте намного шире их четырёхглавого топоса. Сюда, на страницы МиМ, перемещается сгусток проблем, поставленных, но не решённых в «Белой гвардии» (Шполянский, Троцкий), «Беге» (тараканий король Артур), повести «Тайному другу» (Рудольф), «Театральном романе» (Рудольфи, Рвацкий). В кипящем тигле «закатного романа» заклокотали этнические (исторические судьбы народа), клановые (выраженные местечковым «великим инквизитором» Каифой), индивидуальные (Левий Матвей, Иуда) судьбы. Библейская история, оказавшаяся в центре внимания европейского человечества полторы тысячи лет назад, сделала интерес к этой теме не только устойчивым, но крайне серьёзным по тональности высказываний. Дань преклонения и любви к героям «библейских сказаний» развязывала языки, а восторженность в позитиве позволяла быть истовыми и пристрастными и в негативных оценках. Высота пророческого духа и низость торгашеской скаредности с ползучим лоббированием своих — эта выразительная дуэль ярко запечатлена Пушкиным в его хрестоматийном: «Проклятый жид, почтенный Соломон».
Устойчивое отрицательное отношение к еврейству было смоделировано идеологически и явлено примером собственного поведения не кем иным, как Савлом из Тарса. Выразительна его автохарактеристика: «...Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её. И преуспевал в Иудействе более многих сверстников моих в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий» (Гал 1, 13—14). Кокетливое «неумеренным ревнителем» на самом деле было вот чем: «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла и побивали камнями Стефана... Савл же одобрял убиение его» (Деян 7, 58—59; 8, 1). Он и сам это с гордостью подтверждал: «...я верующих... заключал в темницы и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерёг одежды побивавших его» (Деян 22, 19—20). — Юноша, мягко говоря, «специфический».
Что же из него получилось, когда он вырос?
«Фарисей Савл, обладавший римским гражданством благодаря своему рождению в римской колонии Тарса, был известен своим ожесточённым преследованием сторонников нового учения и принимал участие в их избиении камнями.
Несмотря на гонения, учение Христа продолжало распространяться, особенно среди трудящегося люда. Тогда Савл пустил слух о своей встрече по дороге в Дамаск с воскресшим Христом, вручившим ему для передачи народам Земли все веления Всевышнего Бога.
Основываясь на этом «поручении», Савл, назвавший себя с этого момента Павлом, принялся проповедовать свои теории.
Оказалось, что Христос, как прямой потомок Адама, был подвержен, подобно всем смертным, грехотворной плоти. Таким образом, пишет Павел, всё то, чему Христос учил при жизни, неприемлемо, а лишь переданное ему лично воскресшим Христом достойно внимания и безоговорочной веры. Ибо своими страданиями на кресте и воскрешением из мертвых Христос не только отделался от первородного греха, но и, «искупив» сей грех, освободил от него весь род человеческий.
«...если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор 5, 16). <...>
В своих Посланиях Павел постоянно возвращается к искуплению Христом «греха мира» благодаря пролитой им крови. В представлении Павла злопамятный и кровожадный Бог Отец никак не мог простить людям их коллективного греха и удовлетворился лишь после страданий и смерти наилучшего из них.
Подлинных учеников Христа он свирепо ненавидел:
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых» (2 Кор 11, 13—15).
В Послании к Галатам (2, 5—6) Павел рассказывает о том, как он был принят в Иерусалиме отцами христианского движения и похваляется, что не уступал им нисколько в диспутах.
Павел увещевал не вдаваться в премудрости, не рассуждать и не задумываться о чём бы то ни было6, а всецело уповать на Всевышнего, веления которого известны лишь ему одному. Восставая против всяких логических выводов, он повторял о «благодати», которой Бог одаряет людей не за какие-либо добрые дела, а лишь по своей капризной милости.
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости...» (Тит 3, 5).
Метод ведения спора у него был прост и нахрапист по известной формуле «сам дурак». Так на обвинения в фальсификации и искажении учения Христа он отвечал не моргнув глазом:
«Ибо мы не повреждаем (правильно: фальсифицируем. — ОК) слова Божии, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор 2, 17).
Толкования Павла, отрицавшего всё, чему учил Христос при жизни, вызвали взрыв возмущения и протеста особенно среди тех, кто лично знал Христа, и Павлу пришлось покинуть Иерусалим и искать в дальних странах менее осведомлённых слушателей.
Ненависть Павла к апостолам распространилась и на всех его соотечественников и вылилась в его злобную теорию о неисправимых пороках детей Израиля.
Он утверждает, что Бог создал народ иудейский «в приступе гнева», сотворив нечто отвратительное (Рим 9, 22). Однако, заверяет Павел, среди иудеев Господь Бог выделил некую особую часть неотверженных, с самим Павлом в первую очередь, и уберёг их от всенародного проклятия. Основываясь на этом и постоянно ссылаясь на искупление грехов человеческих кровью Христа, Павел утверждает, что это самое искупление проявится тем действеннее, чем активнее верующие будут преследовать евреев! (Рим 11, 15)
Главное обвинение Павла против своих соотечественников — убиение Христа. На этом основании в течение веков поколения христиан называли евреев богоубийцами! (См. напр. Фесе 2. 14—16) <...>
В то время как последователи Христа, преследуемые властями, скрывались в подполье, Павел беспрепятственно рассылал свои Послания во все страны Средиземного моря и путешествовал куда ему вздумается. Такая свобода действий со стороны «новообращённого христианина» могла объясняться лишь потворством духовенства храма иерусалимского, которое поддерживалось представителями Рима.
Особенно поражает происшествие, случившееся с Павлом в Иерусалиме, идентичное истории Иешуа, но с прямо противоположными последствиями. Первосвященник Анания домогался поимки Павла; тот был взят под стражу, доставлен правителю Феликсу в Иродову преторию и подвергнут допросу. Павел пространно, не стесняя себя ни временем, ни выражениями, изложил своё дело.
Дальше началось нечто непонятное.
«Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придёт тысяченачальник Лисий7, и я обстоятельно узнаю об этом учении.
А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из близких служить ему или приходить к нему».
Через несколько дней Феликс с женой призвал Павла, чтобы послушать от души местную «шахразаду». Павел блеснул и даже слегка перестарался, ибо «Феликс пришёл в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним».
Какая идиллия, не правда ли? — Новый прокуратор и нервы себе щекочет, и на взятку рассчитывает. И если бы Павел заплатил — отпустил бы. (А то «Тиберий... язва...» — какая ерунда!). Да и Савл был не шиком лыт: кайфовал и тянул время. А у ворот «претории» в то время «новый Каиафа», ожидая, прохаживался.
И сколько это продолжалось, как вы думаете? — Два года — И кончилось только потому, что на место Феликса прислали нового управляющего Порция Феста.
И так далее в том же ирои-комическом роде.
Сотрудничество Павла с власть имущими не подлежит сомнению. Он постоянно призывает к подчинению и послушанию.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога... Посему противящийся власти противится Божию установлению... Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч... Для сего вы и подати платите; ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые» (Рим 13, 1—6).
«Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение» (1 Тим 6, 1).
Последнее уже похоже на первомайский призыв. (См. также: Кол 1, 16; 1 Тим 2, 1—3; Тит 2, 9—10; Кол 3, 22; Еф 6, 5 и т. д.)
Павел поражает своей безграничной самовлюблённостью, вне всякого сомнения указывающей на паранойю.
Он уверяет, что его личный дух был создан Богом «до сотворения мира» (Еф 1, 4; Тит 1, 2). А также что он поставлен Всевышним, дабы передать людям Его волю. Почти все его Послания начинаются с бесконечных самовосхвалений. Таково начало его послания к Ефесянам. <...>
Какой контраст с исключительной скромностью евангелистов, никогда не упоминавших о себе!
Чтобы отвлечь людей от вполне понятных указаний Христа, Павел выдумывает ритуалы, моления, основывает религиозные верования...
Создавая духовенство, он посвящает в сан епископов и иных «служителей небес» (Напр. 1 Тим 3, 1—16; Тит 1, 7). Понятно, почему священство так истово чтит своего породителя.
Павел явно недолюбливал женщин, требуя от них беспрекословного подчинения мужьям. Ставя себя в пример, он советует мужчинам обходится без интимного общения с женщинами, которые, по его мнению, оскверняют мужчину, удаляя от спасения.
Ситуацию проясняет следующий эпизод: «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». (Деян 28, 16; курсив мой. — О.К.)
От женщины он требует покорного смирения и подчинения властелину-мужу (1 Кор 11, 7—10; 1 Тим 2, 11—14; Кол 3, 18; Еф 5, 22—23, 33; 1 Кор 14, 34—35).
Просто Магомет какой-то!
Не удивительно поэтому, что фатумная аннигиляция «Павла Апостоловича» Берлиоза осуществляется руками двух женщин: одна прицельно разлила масло, а вторая накрыла его, раскоряченного, трамваем.
Из Посланий Павла можно заключить, что духовный мир зиждется на некой Троице, состоящей из Бога Отца, его сына Иисуса Христа, примирившего своей кровью Творца с родом человеческим, и самого Павла, избранного Богом, дабы передать людям волю Всевышнего. <...>
Известный немецкий теолог Холдер Керстен пишет:
«То, что мы называем христианской верой, в действительности является искусственной доктриной, состоящей из правил и наставлений, созданных Павлом. Его учение, скорее всего, соответствует термину «павлонизм», нежели христианству»8.
Историк У. Нестле отмечает: «Христианство — религия, основанная Павлом; евангелие Христа заменено в ней евангелием о Христе. В этом смысле «павлонизм» — не только неправильное толкование, но и подделка учения Христа, подготовленная и распространённая Павлом»9. Ещё более точное название — савлианство.
Среди теологов, посвятивших свои труды изучению истории официальной церкви, уже давно стала трюизмом мысль о том, что её центральный догмат об искуплении смертью и страданиями Иисуса зиждется на ошибочной интерпретации. «Всё положительное в христианстве основано Иисусом, всё же дурное исходит от Павла», — писал протестантский богослов Франц Овербэк10.
Выдуманная Павлом теория искупления возвращает нас к древнейшим примитивным семитским верованиям, согласно которым от родителей требуется кровавая жертва их первенца. <...>
Ещё в XVIII веке английский философ Г.С.Д. Болингброк указывал на две отдельные религии Нового Завета: религию Иисуса и религию Павла.
Кант, Лессинг, Фихте и Шеллинг также отделяли учение Иисуса от учений его «последователей». Многие современные теологи придерживаются такой же точки зрения.
Согласно недавно найденным древним свидетельствам, Назореи, из среды которых вышел Иисус, уже в те далёкие времена клеймили Павла как фальсификатора учения Иисуса и ренегата, перешедшего на сторону римлян.
Указывая, вне сомнения, на Павла, Иоанн, которого так любил Христос, пишет:
«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист» (Иоанн, Второе послание, 7).
Антихрист — такое определение вполне соответствует Павлу, нанёсшему величайший вред учению Христа»11.
Что ж, теперь подлинная физиономия Пончика-Непобеды проясняется. Неудивительно, что антихрист работает в журнале «Богоборец» («Безбожник»). Булгаков моделирует сцену «покаяния» на основе «происшествия» с Савлом на пути в Дамаск, полностью измышленного хитроумным фарисеем с теперь уже понятными соображениями. Впрочем, Пончик «крестится» только под раскаты громыхающего вокруг «грома»; как только катаклизм затихает, он спокойно («фу, пронесло!..») продолжает путь по единственной для него возможной «колее». С него всё как с гуся вода (причём, с гуся хрустального12). — Одним словом — Пончик.
Ну а почему — Непобеда?
Победа (Netzah) — Седьмая сефира Кабалистического древа — входит в Колонну Милосердия и подначальна Главе соответствующего Ведомства Иешуа Га-Ноцри, т. е. Христу (недаром на иконах Спаса, в углах, обязательно пишется греческое НИКА). Естественно было придать антихристу диаметрально противоположный псевдоним. Внешняя громоздкость и «неудобоваримость» прямого считывания фамилии этого персонажа скрывает, как выясняется, сложнейший эзотерический подтекст13.
Непобеда вновь появляется в зеркале сцены с новым псевдонимом, но старой идеологией приспособленца, конформиста и «певца режима». Булгаков, вступив в «заговор» интеллигенции против тоталитарной власти, подразумевал надэтническую, надклассовую и межгосударственную её природу. Он обстраивал редутами эзопова языка только фронтальную, «повёрнутую к врагу» сторону своей литературной цитадели, оставляя оборотную — легкодоступной для единомышленников. Каково же было его удивление и недоумение, когда большинство еврейской образованной «общественности», воспользовавшись этой незащищённой частью для «адских» разоблачений «белогвардейца» и «антисоветчика», объявило тотальную травлю не подготовленного к такому повороту дела автора. Семиты дали понять «наглому» русскому панибрату, что делали революцию для себя, и власть в стране установили свою («патриоты» подсчитали, что из 22-х членов первого ЦК 20 были иудеи и оставшиеся двое — армяне), и не собираются попускать «вражеские» на неё наскоки. Тогда Булгаков и заговорил о «финских ножах», воткнутых ему в спину. Российское еврейство не только не солидаризовалось с Булгаковым в его общеинтеллигентской патетике, но и недвусмысленно намекнуло, что они прежде всего единый этнос, а уж потом — по почти всеобщему наличию природно-изворотистого ума — «интеллигенция» («слово-то какое кацапистое!»). Т. е. реально и не интеллигенция вовсе (Вовси).
Вот откуда взялась «притча об осетрине второй свежести».
Обычный набор «совершенств»: быстрые, смекалистые мозги, начитанность (типа «нахватанность»), наглость, напор, безапелляционность, холодная рассудочность, этническое высокомерие и патологическая бездуховность лысого «пирожконосца», пышущего желанием дать «сверхъестественное количество очков» любому «нацнеполноценному» конкуренту — всё выказывало в Берлиозе тип «поводыря нации». Самоё же ведомое тащилось рядом.
Присмотримся к нему.
То, что это Иван, проступает во втором абзаце; то, что дурак — чуть далее. Забавно, что вихрастость (вихрь, ураган) и рыжеватость (стихия огонь) упрятаны у «поднадзорного» в клетчатую ковбойку и клетчатую же кепку. Как известно, пестрядь и клетчатость есть устойчивые признаки шутовского — сиречь дьявольского — костюма. Действительно, через несколько страниц на сцене, словно накликанный, появляется некто «клетчатый», представившийся Коровьевым, и начинает отваживать Ивана от семитского поводыря, провоцируя на отважные контрмеры. Но выясняется, что «рубаха-парень» ковбой (cow boy) такой же ряженый и самозванец, как и гаер напротив в жокейском картузе. Пьяный14 русский ярмарочный идиотизм выбивается ещё более карнавальной свистопляской.
Впрочем, уже во второй перикопе текста мы узнаём, что понурый от жары «ковбой» — поэт Иван Николаевич Понырёв, а его упитанный «Вергилий» — Михаил Александрович Берлиоз (Не-Композитор).
Отчество Понырёва, конечно, не случайно: он подвязан к «русскому богу» — святому Николаю — Николе — Санта Клаусу — деду-Морозу, спасшему (по определению) Россию в войну 1812 года и повторившему свой «подвиг» в первые годы Великой Отечественной.
Что же касается имени-отчества председателя всей «массовой литературы» России (смехового аналога Пролеткульта), то во избежание «разоблачительных» идентификаций Булгаков наградил «сверхъестественных размеров очки» не только своей аббревиатурой, но и именем (для вящей страховки).
С псевдонимом Понырёва мы разберёмся в своё время, пока отметим первый мистический момент: привыкший «работать с народом» и «вращаться среди масс» старший из ходоков оказался в абсолютно безлюдном сквере. Ещё бы! «Слепой поводырь» завёл «Ивана» в гиблое место, Козье болото, чёртову топь.
«Место это, низменное и нездоровое, некогда было настоящим болотом. Всё пространство, занимаемое теперь Козихинским и Ермолаевским переулками, отчасти улицами Большой и Малой Бронными, а также Спиридоньевской, называлось раньше (XVI—XVII вв.) Козьим болотом. Некоторые исследователи думают, что слово болото употреблялось как название места, где торговали битым скотом, привезённым из патриарших вотчин. Но многочисленные показания современников, а затем и сырость этой местности заставляют думать, что здесь было подлинное болото... Козьим болото называлось от козьего двора, находившегося где-то поблизости. С этого козьего двора к царскому и патриаршему дворам шла козья шерсть. <...>
В XVII в. Патриаршие пруды, постоянно освежаемые подземными ключами, содержались в порядке и чистоте, но с годами их забросили и забыли о них. Только после 1812 года их очистили, привели в порядок и разбили вокруг сквер. Существующий ныне небольшой пруд — остаток этих когда-то обширных «Патриарших прудов»»15.
Подземные ключи совершенно подстать невидимым же эзотерическим: их неслышимый мерный плеск напоминает шум веретён прях-мойр, на которых прозрачно намекает профессор.
Перед нами описание аналогичного «гиблого места» близ Коломенского:
«Весной 1995 г. мы совместно с заведующим лабораторией по изучению электромагнитных излучений Института Общей Физики проф. А.К. Лабутиным провели замеры электромагнитных полей в Голосовом овраге и непосредственно около Девьего камня и находящегося в нескольких метрах от него камня «Гусь». Результаты оказались ошеломляющие. Превышение нормы электромагнитных излучений в овраге составляет более чем в 12 раз, а вблизи валунов более чем в 27 paз. Обнаружены также и лептонные поля. В чём же причина такой аномалии? Напомним, что электромагнитные аномалии постоянно наблюдаются в местах... где происходят явления, обобщённо называемые полтергейстом (или нечистой силой). Между тем новейшие зарубежные исследования показали, что электромагнитное излучение сильно влияет на пространство и время. Работая в архивах, А. Андреев открыл несколько удивительных исторических фактов, которые позволили ему сделать кажущееся фантастическим предположение. Голосовой овраг является огромной природной пространственно-временной трещиной. Эту гипотезу поддержал проф. А.К. Лабутин»16.
Об одном таком случае рассказывает газета «Московские Ведомости» от 9 июля 1832 года:
«Крестьяне деревни Садовники Архип Кузьмин и Иван Бочкарёв возвращались из Дьякова, где отмечали праздник Св. Троицы у своего приятеля Николая Дмитриева. Изрядно выпивши они (Кузьмин и Бочкарёв) уже в сумерках решили идти домой в свою деревню через овраг. Впоследствии о своих злоключениях они рассказали полицейскому врачу С.П. Кондрашевскому. Был поздний вечер. На дно оврага опускался густой туман. Кузьмин припомнил, что туман показался ему каким-то неестественным. Приятели, проходя между двух огромных валунов, вдруг куда-то провалились и очутились как бы в коридоре, по нему они вышли в пространство, залитое белесым светом и загромождённое непонятными приспособлениями. Там они увидели жутковатые волосатые существа, которые стали объяснять им, что они угодили в какой-то разлом пространства и времени и вернуть их будет очень нелегко, однако они попробуют это сделать.
Неожиданно для себя приятели оказались снова в овраге и теперь уже благополучно миновали его, но когда вышли на околицу села, очутились в ином времени. Очевидно, что если бы вся эта история произошла в месте, где их никто не знал, им была бы уготована судьба дожить свой век в сумасшедшем доме. Однако, в деревне ещё оставались родственники пропавших, которые опознали их. В дело вмешалась полиция, так как об их исчезновении было заявлено аж 21 год назад. Началось дознание и впоследствии делом стал заниматься уже судебный врач. Он был уверен, что крестьяне не лгут, и решился на следственный эксперимент, который окончился более чем печально. Кузьмин, показывая Кондрашевскому место, где они провалились, буквально исчез на глазах у врача и своего товарища, теперь уже навсегда. Бочкарёв же, увидев это, вскоре, находясь в состоянии глубокой депрессии, покончил с собой»17.
Как видим, с «гиблыми местами» шутки плохи.
Тут и сухой туман какой-то подозрительный и настораживающее безлюдье... И совсем «бабаяговый» киоск («как-будточка») «Пиво и воды» всё в той же маскарадно-маскировочной пестряди.
Возникает знаменитая средневековая балладная апория: «От жажды умираю над прудом» — Берлиоз не может из него пить в силу своей брезгливости, а Иван из страха стать козлёночком. Между тем в ларьке нет ни нарзану для трезвенника-редактора, ни пива для, наоборот, «поэта». Есть только «инженерно-техническая» абрикосовая (она же персиковая-преображенская), приняв которую путники, сами того не подозревая, оказываются во власти мощного парикмахерского газа: начинает мучить катакликтическая икота по поводу примерки Лысому сталинского «волохатого» парика.
Неожиданно старший — большевик и передовик — теряет стаккато своих окончаний и, как грампластинка, начинает ощущать сталь снимающей звук иглы. Пришедший вслед за этим страх воспринимается редактором как аховая страница некоего метареального текста с записью судеб... — «Бред какой-то!» — реагирует на минутную слабость рассудок, трусливо выводя «блед...». Тема вод продолжается паническим («козлоногим») желанием сбежать в Кисловодск, «бросив всё к чёрту». Чтобы намерение осуществить, надо было для начала чёрта-то признать, — а это, как выяснилось, ему не под силу.
Тут-то и появляется из тумана (из того самого, что напустил Пирожкевич, пудря по дороге мозги — парикмахер хренов — малограмотному русскому Ивану) новый клетчатый «ростом в сажень, но в плечах узок» (уж, одним словом), «худ неимоверно», и без зеркала видно: дух. — Ужас овладел редактором, а язык не ошибся в определении: «Фу ты чёрт! — воскликнул редактор».
Но разум (греческое «нус») взял верх над мгновенным замешательством, и прозвучало, связуя прерванную речь, сакраментальное «Ну-с, итак...» — приказ кати! комсомолке. Остальное оказалось, как говорится, делом техники.
Лекция об Иисусе была продолжена, и «Михаил Александрович» проявил поистине иосифофлавиевскую осведомлённость в вопросе. Арамейски-заинтересованная подача материала обнаруживала в нём знатока и доку, конформиста к антихристовой линии Каифы, неожиданно сделавшейся государственной идеологией под камуфлирующей вывеской «атеизма». Один из позднейших деятелей такого рода, сдавая статью в редакцию «Науки и религии», хохоча, прямо называл себя «христопродавцем».
Справедливо было замечено, что молодёжь, которую Берлиоз пытался «лишить головы» своей ядовитой проповедью, «предприняла контрмеры» в лице юной вагоновожатой, «сработав на опережение». Так что «Сцена при прудах» «Фантастической симфонии» Булгакова носила отнюдь не дидактически мирный характер. Заведённого в глушь «Козьих блат» окунали — для верности — в жидкую топь софизмов, трюизмов и псевдонаучной риторики, целиком почерпнутой из «Блокнота агитатора» и «Настольной книги атеиста». Лжепрофессорские демонстративные два нуля на глазах и квазиинтеллигентский ну-с-морк могли производить впечатление только на невежду Бездомного, а вся псевдятина этой «ерундиции» в одночасье обнаружилась при реальном свидании с «предметом разговора». Несостоятельность в том, в чём человек пытался выглядеть докой, была мгновенным и окончательным вердиктом «слепым поводырям слепых», дотоле пребывавшим в сладкой уверенности, что они-то, конечно, зрячие.
Оказалось: зряшные.
Ибо Берлиоз в этой драме идей в конце концов очутился без роли, таково кабалистическое (в системе темурах) прочтение этой фамилии. «Безвестный однофамилец» всем известного Миши, едва мелькнув своим «жидовско-римским профилем»18, растворился в звуках своей «Фантастической симфонии», тем более что «Шествие на казнь» и «Шабаш» — 4-я и 5-я части музыкального действа — уже запущены в своё прямое смысловое существование. Кстати, голова (русское восторженное «голова!») Миши-Не-Композитора, каковой он пробил и завоевал себе столь высокое «место под солнцем», именно она со своим специфическим профилем и фасом19 ещё продлила некоторое «сценическое существование».
Теперь об игле.
В медицинской семантике это элементарная проверка на реактивность (на боль) живого организма с целью выяснения его реального местоположения в системе двух миров. Тупая игла в сердце — воистину последний тест на полноценное человеческое бытие с апелляцией к золушке чувств, загнанной в дальний угол наглым самодержавием ratio. «Проба андеграунда» оказалась безрезультатной, реакция — затухающей (почти протухшей; ну, в общем, второй свежести). Кривая игла прозектора более подошла к делу. Вернее — телу.
Вспомним: мифологической мелодике иглы, ведущей своё начало из «Записок юного врача», Булгаков отводил место во всех своих капитальных сочинениях. Особенно выразительно «соло иглы» в Сне третьем «Бега» с эпиграфом-камертоном: «...Игла светит во сне...». Несмотря на то, что дело происходит в контрразведке, а игла является орудием пытки, хлопочут там о выявлении правды, всё о том же дознании истины. Что ж выясняется на «допросе с пристрастием»?
«Тихий. Итак, условимся: ты будешь говорить чистую правду. Смотри сюда. Если ты начнёшь лгать, я включу эту иглу (включает иглу, которая, нагреваясь от электричества, начитает светить) и коснусь ею тебя».
Голубков раскалывается.
«Тихий. ...Ваше имя, отчество и фамилия?
Голубков. ...Сергей Павлович Голубков».
Се он, серп, а если учесть, что приват достаточно молод, то тут вам и молот. Это-то даёт ему основание с такой лёгкостью возвратиться из эмиграции.
Следователь пропускает чрезвычайную информацию, да ему и не до неё. Заставив Голубкова написать под диктовку фальшивые показания (при свете иглы), он отпускает изнасилованного привата на все четыре. Была игла, да спать легла. Так начинается Сон четвёртый.
Берлиоз мог бы и отреагировать. Да только «Тихий» против него, привыкшего к фанфарам, оказался слабоват... — И разражается гром небесный.
Для начала звучит тирада о Христе в стилистике «Блокнота агитатора». Лёгкое имя Иисус булыжниками падает на пустопорожнюю голову Ивана Бездомного (в этом случае Бездумного), причём Не-Композитор достигает фантастической симфоничности в изложении материала. Слово «Иисус» разнузданные его уста катапультируют 14 (!) раз подряд, замирая «стрелкой» на аркане Время. В это время (!!) как раз и подошёл к лавке невесть откуда взявшийся иностранец. Поскольку по виду он был лет сорока с лишним (40 — числовое значение 13-го аркана Смерть, а лишним в компании оказывается Берлиоз), то качествование вестника (ангела) смерти Булгаков манифестирует в подошедшем недвусмысленно. Серый берет иностранца приносит с собой запах серы, появляется он на аллее после одиннадцатого (аркан Сила) упоминания имени Христа. Место действия выбрано символически выразительно: дома образуют таротный квадрат (сумма малых арканов), в кармане пришедшего дремлет треугольник суммы арканов Больших20, а сам он соответствует в этом случае точке (21-й аркан, т. е. 1-й аркан в движении).
Появление иностранца — это уже не знак, это — подсказка; да и уходящее навсегда от Михаила Александровича солнце действует с «беретом» заодно.
«Но Анатоль не понимал»21.
Берлиоз мечет подряд последние три аркана: Повешенный, Смерть и Время. Теперь у него положение пиковое. И незнакомец обнажает копьё. Вернее — разящий меч.
Вглядимся в лицо подошедшего.
Высокий рост — это понятно. Что любопытно: весь рот в коронках, значит, ни на кого отдельно взятого иностранец своего зуба не имеет. Золото — справа (Солнце), платина — слева (Луна): прямое открытое забрало смыслов, никакой травестийности и карнавального камуфляжа. Это, конечно, не «униформа», не гардероб, это символическая изготовка полной визуальной внятности, принятая за шаг до выхода на аллею.
То же и с глазами: левый зелёный глаз — а 1а Иван, правый чёрный — точь-в-точь как у Берлиоза; сев между собеседниками, интурист стал своего рода посредником-медиатором в разговоре, сохраняя нейтралитет и беспристрастность. Более того, он как бы опустил шлюз, отделяя дикое, но здоровое от якобы культурного, но гнилого.
Именно вновь прибывший произносит в пятнадцатый (sic!) раз имя Иисус, подбивая итог берлиозову словоизвержению. На редактора опять смотрит зелёный глаз, да не Иванов барановидный буркал, — это изумруд, мерцающий бездной смысла. Тут-то арамейский краснобай и поперхнулся, чертыхнувшись.
Высказанное не без гордости Берлиозом «мы атеисты» приводит «иностранного гуся» в совершенное неистовство. Отвергать очевидное (по реальной ситуации, сложившейся близ Патриарших) — это действительно забавно, ибо весь воландовский сценический антураж мгновенно линяет под суровым «Станиславским» Не верю! Испуг в глазах профессора не наигран: подобная степень слепоты со стороны того, кто только что имитировал панорамное озирание тысячелетий, воистину удивления достойна. —
Тут иностранец отколол такую штуку:
Встал и пожал изумлённому редактору руку...
Последний пассаж переводит повествование в стилистику Пушкинской «Сказки о попе и его работнике Балде». Только в этом случае между сатаной и Балдой встаёт в виде попа нового культа мелкий местечковый бес, тонко законспирированный, упрятанный под чужое имя и присвоенную фамилию, — не то что сидящий рядом простодушный ванёк с псевдонимом навыпуск. В сумме — некий двуликий балбес.
Тогда в игру вступает «тяжёлая артиллерия» гностики.
На сцену выкатываются (пронеси, Господи!) доказательства бытия Божия, коих «как известно» существует ровно пять. Появляется мистическая Булгаковская пятёрка, погромыхивая внутренними смыслами, — пятница, и ещё глубже, страстная.
«Но Анатоль не понимал».
И разговор переходит в область исторического анекдота.
Мы задержимся на «всем известных», тем более что профессор и ловит редактора на поверхностном («в общих чертах») знании, имеющем для каждого в отдельности и человечества в целом фундаментальное значение.
«Принимая во внимание, что человек в своей жизни соприкасается с двумя мирами: внешним объективным и внутренним субъективным, и доказательства бытия Божия должны почерпаться как из того, так и из другого мира. Соответственно сему они и разделяются на внешние и внутренние. К числу внешних относятся — космологическое и телеологическое, а к числу внутренних онтологическое и нравственное. С этим последним имеет тесное внутреннее сродство так называемое историко-телеологическое доказательство, которое опирается на проявление Промысла в историческо-нравственной жизни человечества.
Космологическое (1) доказательство бытия Божия выходит из факта бытия мира и от существования мира умозаключает к бытию Бога, как первой причины вселенной. ...Всё в мире подчинено двум законам — закону пространства и закону времени, которые и вызывают в нашем мышлении закон причинности и закон достаточного основания. Опираясь на эти два закона, космологическое доказательство бытия Божия и утверждает, что без первой причины мир не имел бы истинной причины своего бытия, и что кроме Высочайшей причины ничто не может быть признано на достаточном основании первопричиною мира. <...>
В связи с космологическим доказательством бытия Божия стоит и другое доказательство — телеологическое (2). Оно имеет в виду истину бытия Божия вывести из целесообразности, усматриваемой во всём мире. Мир рассматривается им не как только нечто просто существующее, но как нечто художественно стройное, гармоническое, целесообразное, указывающее на мудрого Виновника его. <...> Всё вокруг невольно заставляет нас придти к мысли, что Сила, давшая бытие миру — помимо всемогущества (космологическое доказательство) — должна обладать ещё и свойством разумного существа, разумной личности. <...>
Сущность онтологического (3) доказательства бытия Божия состоит в том, что нашему уму прирождена идея о существе бесконечном или всесовершенном, — существе абсолютном, идея весьма ясно объясняющая наше стремление найти во внешнем опыте основания нашей уверенности в бытии Божием и наше постоянное и непреодолимое влечение восходить от причины к причине — до самой первой Причины. Происхождение этой идеи в нашем уме нельзя объяснить ни воздействием на нас внешней видимой природы, потому что всё, что мы видим здесь, ограниченно и несовершенно, ни воспитанием, так как мы помнили бы появление её. Следовательно, возможно одно заключение, что идея о Боге врождена человеческому уму Тем, от Кого мы получим и самое бытие, то есть Богом. ...Из того, что в духе человеческом изначально укоренена идея о существе, которое с полнотою совершенств соединяет и реальное бытие, необходимо следует, что существо это должно существовать не в уме только, но и на самом деле.
Опускаем как производные первых трёх гносеологическое (4) и психологическое (5) доказательства.
Нравственное (6) доказательство бытия Божия исходным началом своим имеет существование в нас нравственного закона, повелевающего нам делать добро и уклоняться от зла, или — что то же — искони присущую нам идею блага. Что нравственный закон присущ всем людям это помимо свидетельств, почерпаемых нами из внутреннего опыта, можно видеть ещё из наблюдения над жизнью других, не исключая и дикарей, находящихся на низком уровне развития. ...Так как человеческая свобода не может подчиняться закону физической необходимости, то и закон, которому она подчиняется, должен быть законом высшим, законом безусловной силы и повелительности. Всё это указывает на то, что корень нравственного закона лежит глубже всех положительных писанных законов, которые представляют только разнообразные объяснения и формулирования требований присущего человеку нравственного закона, который вложен в душу человека Богом. Носительницею и выразительницею его является наша совесть, которая, по справедливости, называется гласом Божиим в людях. Наличие совести в людях свидетельствует о наличии Бога, а бесконечная континуальность этого гласа в нас является доказательством реальности Творца»22.
Поскольку самодостаточно всего одно-единственное доказательство бытия Божия, то множественное число в псевдонаучном (на самом деле — карнавальном) «диалоге» является простенькой приманкой-провокацией экзаменатора, на неё и клюёт Берлиоз, обнаруживая, что он безрелигиоз категорический. Да и — овца супротив молодца.
Множественное число появилось, когда вместо умершей науки Философии возникла дисциплина «История философии» с интересом к историческим данным и полным безразличием к истине.
Каждое из «доказательств» выдвигалось одним из выдающихся умов своего времени и казалось несомненным до тех пор, пока следующий великий мыслитель не нащупывал его уязвимости и не выдвигал своё, новое. В конце XVIII века Кант опроверг все предыдущие и, «поставив крест» на теоретическом («чистом») разуме в его способности выстроить основательное доказательство бытия Божия, приспособил для этого разум практический. Так родилось высшее и лучшее на сегодняшний день новое нравственное (6 А) доказательство Канта. «Без идеи Бога человек не может быть нравствен» — за эту мысль подверг Канта суровой критике Шиллер (о чём упоминает Берлиоз), указав на слабую объективацию Божества в Кантовой идее «личного Бога».
Страстный поиск искомого доказательства на протяжении столетий напоминал клокочущее лавой вещество внутри алхимической реторты; в неё бросались творческие достижения и научные репутации, в топку атанора — земные блага и целые жизни...
А тут достаточно было погреметь над ухом амбициозного недоучки якобы солидным множественным числом — и он весь ваш с потрохами. Взятое с дальним прицелом «пять» проглотил — не вздрогнул. А уж когда Шиллера и Штрауса к делу ввернул, то уж оченно даже собой остался доволен.
Хрюндель откликнулся репликой про Соловки, мгновенно уподобившись одному из кремлёвских вождей («бухнул» Иван Николаевич — Бухарин Николай Иванович). Отправить «старика Канта» на Соловки скоро стало очень даже возможно: после Второй мировой войны город Канта, Кёнигсберг, где он провёл безвыездно всю жизнь, стал советским Калининградом... — жаль, во времени разминулись, и Кант так и не узнал, что такое СЛОН. Нет, старика Иммануила определённо следовало «проветрить».
Зря редактор конфузился: что у умного на уме, то у дурака на языке. А слон не моська — в карман не спрячешь.
Да и заврался совсем «тевтонский философ» про «нравственный закон внутри нас»!
Далее, поддакнув поэту, мол, и ему жачь (какая лажа!), что не удастся показать дедушке слона, профессор задаёт главный, сакраментальный и убийственный (чисто риторический для него самого) вопрос: ежели Бога нет, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле? — Гроссмейстерский вопрос. Всякий ответ на него является дурацким. С претензией на самостоятельность шахматных фигур на доске покончено раз и навсегда. Весёлой клоунаде приходит конец — начинается трагический карнавал. В Козихе прокашлялся застывший в ожидании своего вступления козёл-трагос.
Звучит — в стиле размышления вслух — надномерное доказательство бытия Божия, доказательство «от наличия плана». Владение крупномасштабным пространством-временем не согласуется с пигмейской комсомольской задиристостью и арамейским «умением жить». Ведь «единый план «Ада» есть уже плод высокого гения». — Это мысль Пушкина. Замечательна и догадка Н.Ф. Фёдорова: Истина не субъективна и не объективна; она проективна: душу и суть каждого дела на Земле составляет проект. — Право, штучное человечество о фундаментальности идеи плана представление имело. Да и что шахматы без гроссмейстерского плана? — Бессмысленная толчея фигур с единственной перспективой сыграть в ящик.
Неизвестный вполне недвусмысленно высказал вердикт Того, «кто не существует» по поводу болтуна Берлиоза. А бриллиантовый треугольник, сверкнувший синим и белым огнём23 с крышки громадного портсигара, это Молния с неба (16-й аркан), явление самого Триипостасного Божества, утвердившего это решение.
Иисус появляется в разговоре у Патриарших аккурат шестнадцать раз, и Булгаков, искусно камуфлируя, настойчиво и неуклонно отсчитывает кодовое число. Незнакомец, вступая в беседу, произносит его в пятнадцатый (sic!) раз, и это своего рода мефистофельское «Вот и я!».
Развивая разговор о смертности, иностранец, оперирующий (в отличие от трепача Берлиоза) исключительно реальностями, включает в речь грозное «внезапно смертен» (заменяя им дружественное, дурашливое вдруг) — всё тщетно. Так и остался бы он в дебате с редактором ни с чем, не подмогни ему Аннушка-чума. Да только, воистину, кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. — Откуда у кирпича свободная воля? — То-то.
Затем следует «сцена гадания», почти по Мусоргскому, хотя в карнавальном ключе, согласно ролевой установке. Юмор: профессор только что «приложил о колено» гадалок и шарлатанов, но — публика просит, и пробный сеанс «чёрной магии» начинается. Более всего курьёзно — астрологическая трель высвистана по всем правилам отдела Фокуса-Покуса (так же были произведены помощниками маэстро и все другие, уже публичные, номера). Особый комизм придаёт каскад «домов», пролетающих перед носом совершенно «охреневшего» от всего этого Бездомного. А «Наша марка» окончательно доконала лопоухого «филателиста».
Тут-то и словил его забуревший мозжечок с ноготок информацию про Аннушку и подсолнечное масло. Этого уже «не вынесла душа поэта»!.. Между тем — зря он кипятился. И Аннушка, и масло (масло — особенно) были очень даже при чём.
Обычно во время сельских дионисийских празднеств имели место асколии (άσκώλια), т. е. потешные пляски на смазанном маслом бурдюке, сделанном из кожи принесённого в жертву Дионису козла. «Для потехи зрителей скакали на одной ноге по наполненным мехам, вымазанным маслом, возбуждая смех своим падением, а неупавший получал бурдюк, полный вина»24.
Ивану как сатирику (именно так его обналичил Берлиоз) следовало бы это знать, чтобы окончательно «не стать козлёночком». А он стал. Притом горный козёл по-египетски (в соответствии с атрибутикой Маэстро) — durah. Круг замкнулся — приехали.
Иностранец на этом не остановился. Продолжая «общаться с публикой», он вынул из ничего (вернее — кармического загашника) понадобившуюся по ходу дела газетку со стишатами массолитовского вундеркинда.
Как поразительно быстро начинает протухать совковая поведа в общении с небесным катализатором! Поэтическое светило темнеет лицом, хамеет от ненависти («я извиняюсь!»), и следует знаменитое банное: «Я хочу товарищу пару...» Парубок, однако, и сдрейфил — факт. Его, профессионала, особенно взбесило, что иностранец «дурачком прикидывается».
Тогда-то незнакомец и показывает «перепарившимся» в стоянии начеку тёмно-серую (серную, конечно) книжечку-паспорт, визитную карточку и приглашение приехать в Москву для консультации, извлёкши их великолепным престидижитаторским жестом из того же бездонного ничто. Всё было совершенно — и в этом весь фокус — подлинное. Ещё бы! Всамделишность прибывшего внезапно в Москву была намно-ого больше возможности фиксации фактов земными методами.
Буффонный — со стороны иностранца — антураж не мешает абсолютной серьёзности разговора. Суть против суеты — таковы патетика и задание явления Высших Сил на Земле. Становится ясно, почему иностранец проницательно посмотрел на сразу сконфузившихся и тем самым почти сконфуцившихся «чекистов-чекушников». «Чёрт!» — наконец доходит до Берлиоза, хотя он отказывается верить самому себе. Цепкий глаз ударника-стукача по кличке «поэт» выхватывает из корочки иностраши латинское перевёрнутое M — английское международное «дабл'ю»: W.
Так что двойное «В», усиливаясь сплошным блеском, легитимностью и респектабельностью (всё в сумме = !), образуют в воздухе (я б сказал даже: Патриарших «воздухах») странный знак W!, что значит перевернуть!25 — это тут же и происходит в зеркале пруда. Так на сцене впервые появляется очень важное M, мгновенно выстраивая вместе с инициалом профессора волнообразное W/M («умоляю, не делайте волны!»), которое, разбегаясь кругами на воде, растягивает аббревиатуру в слово W-is-do-M, мудрость. Немедленно обнаруживается утраченный Иваном дом26 и начинает мерцать своим пока завизуальным присутствием Мастер как предварительное эхо того самого текста, который через несколько минут зазвучит.
Волна приятности обдаёт перепуганных было приятелей, а смущение Берлиоза — единственный поступок мужчины за весь злополучный вечер.
Следует вопрос: не консультант ли гер профессор? (Берлиоз).
Уже видя внутренним взором притихшее в ожидании чудес Варьете и слыша крики голоштанных халявщиц, находящихся в прединсультном состоянии, профессор это мгновенно подтверждает.
Но на вопрос: не немец ли он? (Иван), незнакомец задумывается. — О чём?
Он вспоминает океан мирового безмолвия, откуда только что явилась балагурящая команда под предводительством своего немногословного шефа; он думает о цене каждого слова, он прикидывает в уме, что не только тьма — мать всему, но и молчание (русское производное слова мол — от усечённого молвить). Он думает о том, что говорить — это не просто «издавать шум языком», это значит быть понятым. И раз земные недотёпы не знают божественного языка, не умеют постигать горние смыслы, приходится представителям Высших Сил осваивать маловразумительные земные диалекты, становиться поневоле полиглотами — и глотать их ахинею, глотать, глотать...
«Да, пожалуй (ста!), немец...»
Далее выясняется, что профессор спец по магии (т. е. «полный абзац»!), причём (не)знакомец «W» подкидывает обалдуям слово «чёрный» тем же тоном, каким Александр Введенский рассказывал дошколятам свою знаменитую страшилку про клопа27. Сколько «высоколобых» купилось на это стра-ашное (аж жуть!) слово. Между тем «полимагия» — вроде полигамии — застарелый оккультный словесный (и понятийный) мусор, «языческий» атавизм в среде «высших приматов» с наинизшим уровнем сознания. «Разноцветная» магия — выдумка прохиндеев для мещан и бедноты (ср. Джойсово «праздноцветные презервативы для бедных»). А возникла она как паразитический нарост на попсовой идее космического дуализма — изобретении жреческой обслуги восточных деспотий.
Итак, единственный в мире специалист (это точно) якобы приглашён разбирать — и разобрать — подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, обнаруженные в Государственной библиотеке (и это правда). Реально: кто-то из сотрудников Отдела рукописей, видно, чертыхнулся в восхищении — значит и приглашение было, правда, переведённое (временно) из устной формы в письменную.
Потрясает воображение, что появившийся на секунду «чернокнижник Герберт» (чтобы исчезнуть потом со страниц Романа навсегда) — это отнюдь не орнаментальный «инкрустец» и даже не пароль для самых крутых, это перенасыщенный смыслом эзотерический месседж, целый тоннель в глубины мировой духовной культуры.
Булгаков совершил «далё-окое путешествие», чтобы добыть этот раритет, на поиск ушло почти двенадцать лет. Он слишком дорожил своим сокровищем и не захотел хоть как-то проакцентировать его в тексте и тем самым сделать более доступным для невежд. Так и осталось имя Герберта торчать в МиМ чёрной заклёпкой, которую тщательно обходят, чтобы не споткнуться умом и глазами.
Мы с вами войдём в тайная тайных и святая святых Булгаковского «редкоземельного» гнозиса.
Этюд о Герберте Аврилакском
Величайший ум десятого столетия родился около 930 года в Оверни, происходил из очень бедной семьи и ещё ребёнком отдан был в монастырь св. Геральда в Аврилаке, и там в монастырской школе, пользовавшейся довольно широкой известностью, получил первое образование. Жажда знания побудила молодого монаха предпринять путешествия по северной Франции (в том числе посетить знаменитые монастырские школы в Реймсе и Флёри); а в 967 году он отправился в Испанию, где ознакомился с арабскою образованностью, и даже, как передаёт средневековая легенда, учился в Кордовском и Севильском университетах арабскому чернокнижному искусству. В 970 году Герберт ездил с поручением в Рим. От внимания папы не ускользнула необычайная учёность скромного келейника; он указал на него императору Оттону I, который принял Герберта в свою свиту и поручил ему образование 16-летнего сына своего Оттона. Герберт недолго оставался в Равенне, где проживал двор, в 972 году он отправился в Реймс, чтобы завершить там своё образование. Десять лет провёл Герберт в Реймсе в звании схоластика местной школы и успел приобрести доверие реймского архиепископа Адальберона. В 982 году Оттон II (его бывший ученик) назначил Герберта аббатом Боббио, но учёный монах не сумел ужиться с итальянцами и после смерти Оттона-младшего был вынужден покинуть аббатство и вернуться в Реймс.
Как учёный Герберт вряд ли имел себе равного среди современников как по количеству знаний, так и по тому направлению, какое он придал своим занятиям. Несмотря на свой монашеский сан, он, в противоположность господствующему тогда аскетическому течению, не только не считал предосудительным заниматься светской литературой и наукой, но даже отдавал им предпочтение перед занятиями чисто богословскими. Герберт с любовью изучал латинских классиков, когда удавалось обнаружить их в монастырских библиотеках. Пренебрежение, в коем находились научные занятия в Италии и особенно в Риме, сильно возмущало его. Своему негодованию он дал волю в сочинении «Реймский синод», где устами Арнульфа, епископа Орлеанского, громит невежественность римлян вообще и пап в особенности. На эти обвинения папство через посредство легата Льва ответило, что «викарии Петра и его ученики не желают иметь учителем ни Платона, ни Вергилия, ни Теренция, ни остальных скотов философов, которые, гордо летая, как птицы по воздуху, погружаясь в морскую глубину, как рыбы, и блуждая повсюду, как бараны, описали всю землю». (Знакомый голос брата Силы из «Кабалы святош», не так ли? — ОК). Герберт всячески заботился о пополнении своей библиотеки классических писателей, не жалея расходов, покупал или приказывал списывать для себя драгоценные рукописи, изыскивая знания везде где только возможно.
Не менее замечательными были его достижения в области точных знаний, астрономии и математике. Способ счисления, умножения и деления чисел, преподаваемый им в Реймсе и отчасти изложенный в сочинении «Книжка о делении чисел», составляет эпоху в истории математики. «Правила абака», разработанные и успешно применявшиеся им, казались современникам Герберта чем-то недосягаемым, последним словом человеческого разума.
Ученики стекались к Герберту со всех сторон. К их числу принадлежал французский король Роберт. Император Оттон III в письмах к Герберту называл его своим учителем28.
Так-то. — Знай наших. Ас (туз) и в картах сильней короля.
Это всё — видимая часть тех далёких событий.
Теперь их невидимая часть.
Великий духовный мастер, светоч и гуманист жил в атмосфере чудовищного обскурантизма. Не что иное, как невежество почитали клерикалы «матерью благочестия»; Герберт с абакой (ссобака!) и Дунс (скотт вонючий!) стояли им поперёк горла, и только близость к носителям средоточия светской власти спасала мыслителя от скорых расправ.
Было ещё одно обстоятельство, резко повлиявшее на его судьбу. Наглые хамы, невежды и суеверы всё более затихали и затухали в мистическом ужасе перед надвигающейся страшной датой: Anno mille — 1000-ым годом. Ранее такой датой был 666 год, перед тем 6000 год «от сотворения мира». Но 1000-го года ждали особенно напряжённо — «конец мира» казался неминуемым. Паника среди даже самых циничных политиканов в рясах была очень велика. Вся христианская Европа содрогалась в конвульсиях прощания с бытием. И тогда пришла идея передать руль управления ситуацией в руки эзотерика и рыцаря познания Герберта Аврилакского. С суетливой быстротой прохиндеев его выбрали кардиналом, а в 999 году — папой римским под именем Сильвестр II.
Втянув голову в плечи и повинуясь «чернокнижнику» в папской тиаре, стали ждать.
1000 год. — Ничего.
1001 год. — Опять всё тихо.
1002 год. — Снова ни катаклизмов, ни потрясений.
1003 год. — И вновь спокойно. И стало ясно — пронесло. «Мавр сделал своё дело, мавр может...» Нет, мавр должен.
И Герберт исчезает «при невыясненных обстоятельствах». Та же мразь, что распинала, вновь достала гвозди и молотки. «Только не попади по пальцу!» — кричала мать, провожая сына-палача на Голгофу.
Эзотерика снова загоняется под полу, под пол.
В конце XIX века великим европейским духовным мастером заинтересовались в России. Один из «русских мальчиков» («апостолов» Алёши Карамазова) подготовил к печати, снабдив огромным научным аппаратом, корпус писем Герберта времени его епископства в Боббио. Копаясь в архивах, исследователь нашёл несколько неопубликованных и ранее неведомых писем. Это стало невычитаемым российским вкладом в мировую Гербертиаду.
Вот почему в Романе появляется Герберт Аврилакский. Его имя звучит как тест, как сигнал, как пароль. Как северное сияние оповещения. — Увы, с нулевым откликом.
«Анатоль не понимал» — хоть ты лопни!
«А-а! Вы историк?» — «облегчился» Берлиоз с ува(ума)жжением. — «А-а!..»
И тогда редактору выносится окончательный приговор.
Имя Иисуса произносится в последний, 16-й (15-бис!) раз. И вслед за этим предъявляется нечто, не только снимающее все доказательства, но и отменяющее раз и навсегда само это слово по отношению к Божеству. Звучит, — нет! — голографически возникает эзотерическое показательство. То, что по достоверности является аналогом Туринской плащаницы.
Всё просто, господа, всё просто. И далее — две «точки зрения», снятые, как чёрные очки, с глаз и сложенные хламом друг над другом. — Виждь и внемли!
«И доказательств никаких не требуется...»
«...Декабрист М.С. Лунин — замечательный писатель и изумительный человек, — отмечая влияние сибирского климата и ссылки на его душевное состояние, писал сестре между прочим: «Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательств, не начертывается уже пером моим»»29.
Булгаков отыгрался за замученного брата и чистейшего рыцаря русской свободной мысли.
Звучит лучший в мире литературный зачин.
Примечания
1. Представлен графический цикл, выполненный художницей Памелой Смит для английского мистика А.Э. Уайета.
2. Сведения по Тароту ограничены минимумом необходимых для символического прочтения каждой главы данных. Профанное описание Аркана привлечено только в этом случае.
3. Текстологическая полемика по вопросу о приоритетности каждого из вариантов зафиксирована в 68; 385—393.
4. См. 67; 55.
5. См. 68; 347—349.
6. Не потому ли правитель Фест выговаривал ему: «Павел! большая учёность доводит тебя до сумасшествия» (Деян 26, 24).
7. Это был тот самый Лисий, который, «придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его идти к тебе», — жаловалось еврейство Феликсу через своего уполномоченного.
С этого времени в народе бытует выражение «Лисий 'удак».
8. Kersten H. Jésus a vécu en Inde. Paris, 1987, p. 80.
9. Nestle W. Krisis des Christentums. Stuttgart, 1947, p. 28.
10. Overbeck F. Christentum und Kultur. Basel, 1919. p. 35.
11. Клуге К. Коммунизм Христа. М., 1992 (31—43, с комментариями).
Несколько слов об авторе. Русский мыслитель (художник по профессии) Константин Клуге (р. 1912) с юности оказался в эмиграции в Китае. В 1943 году он там активно общался с сосланным «на край Ойкумены» выдающимся палеонтологом и философом иезуитом Тейяром де Шарденом, оказавшим фундаментальное воздействие на взгляды своего русского «стажера». Пьер Леруа, последовавший в ссылку за своим великим учителем Шарденом, остался другом Клуге на всю жизнь. Результатом внимательных и свободных многолетних штудий Нового Завета и явилась указанная книга. Она внесла в русский духовный менталитет тему, прорабатывавшуюся европейскими мыслителями со времени Лессинга и Канта. Булгаков почерпнул те же самые сведения из книги А. Барбюса «Иисус против Христа».
12. В отличие от простофильской ремонтности персонажа «Зойкиной квартиры».
13. Булгаков воспользовался для «упаковывания» этого грандиозного смысла словесной конструкцией фамилии-псевдонима известного в то время писателя И.М. Василевского (Не-Буквы) — кстати, второго мужа Любы Белозерской. В середине 20-х годов автор Мим довольно часто с ним общался, что отражено в его дневнике «Под пятой». Псевдоним Любиного мужа был вызван необходимостью отделить себя от известного русского фельетониста конца XIX — начала XX столетия И.П. Василевского, писавшего под псевдонимом Буква. В бытовые характеристики Пончика вошли многие черты Ильи Марковича Василевского (Не), в том числе его семитскость.
14. На этот «есенинский» порок Бездомного указывают его жёваные брюки.
15. По Москве. М., 1917. «Сабашниковы»; 265—266, курсив мой — ОК.
16. Иванов Е.В. Неразгаданные тайны Коломенского. М., 1997; 31—32.
17. Иванов Е.В. Неразгаданные тайны Коломенского; 33—34.
18. Таким увидела его столичная публика во время российских гастролей 1847 г.: «Здесь Берлиоз... я видел сам Его жидовско-римский профиль. И думал: что-то скажет нам Сей музыкальный Мефистофель?» (Я. Полонский. «Концерт», 1858 г.)
19. Фас был тщательно прописан Булгаковым; по сему звуковому сигналу на него и была спущена свора цепных псов режима.
20. Написание Больших (Мажорных) арканов Тарота с прописной буквы, а малых (минорных) со строчной сохраняется в музыкальной графике: Dur и moll.
21. Громоподобный финал знаменитой Пушкинской юморески «Одни стихи ему читала...».
22. Любославский П.В. Основное богословие. Спб., 1907; 14—18 (ред. моя. — ОК). Близка к этому источнику ст. П. Васильева в IV томе энц. сл. Бр/Эфр. («Бог»).
23. Впечатление еще более усиливается, если учесть, что треугольник — алхимический символ огня.
24. См. 60; 52—53.
25. Нем. Wenden!
26. Лат. dǒmŭs это не только дом, но и семья, духовная община, хозяйство — и выше — местопребывание богов (Бога).
27. Введенский А.И. (1904—1941) — известный поэт-обэриут. Страшилка начинается словами: «В одном чёрном-пречёрном городе...» и т. д.
28. Составлено по ст. «Г.А.» Из VIII т. Энц. сл. Бр/Эфр. и Предисловию из кн.: Бубнов Н. Сборник писем Герберта... Ч. I, Спб, 1888.
29. Цит. по Вересаев В.В. Собр. соч. в 4-х т., М., 1985, т. 4; 434, курсив мой — ОК.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |