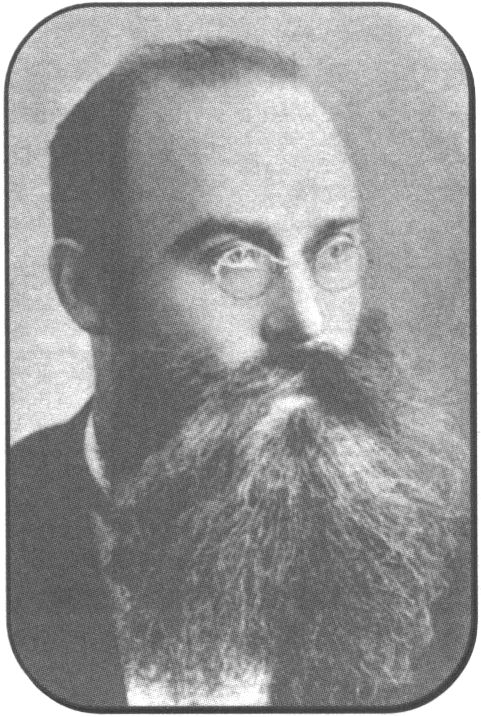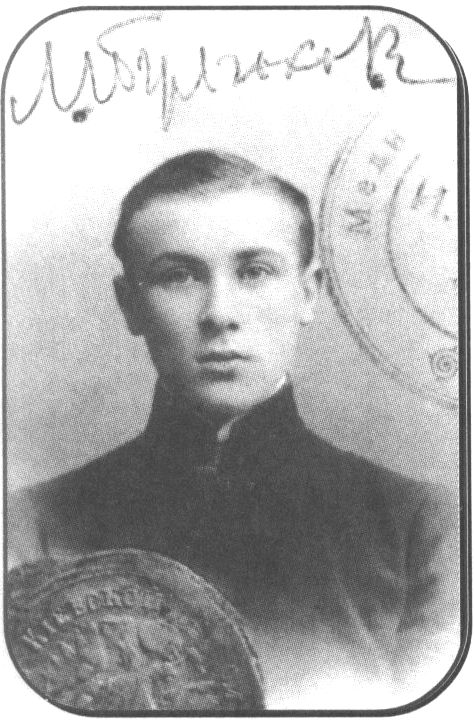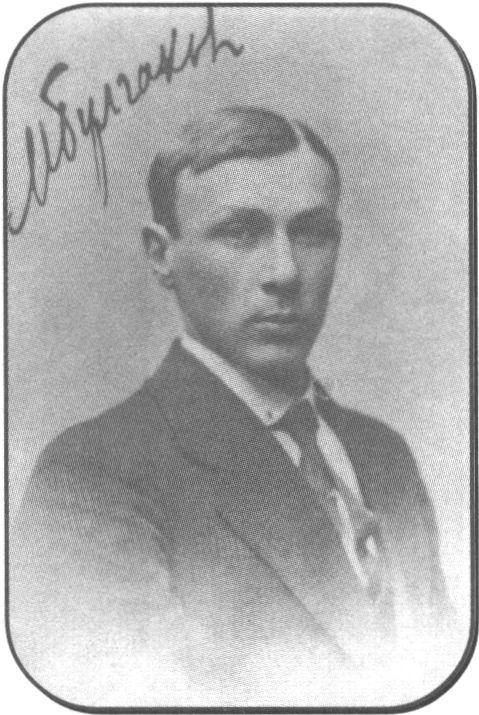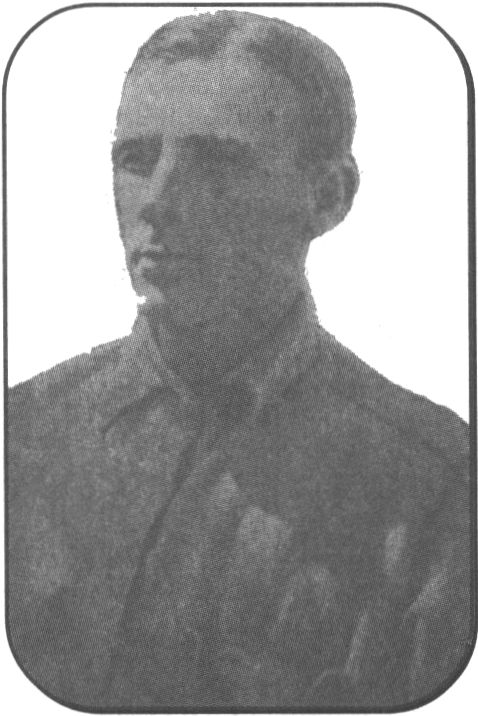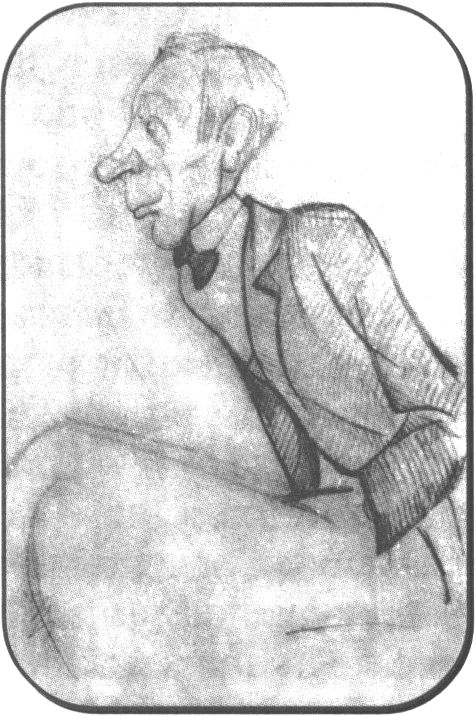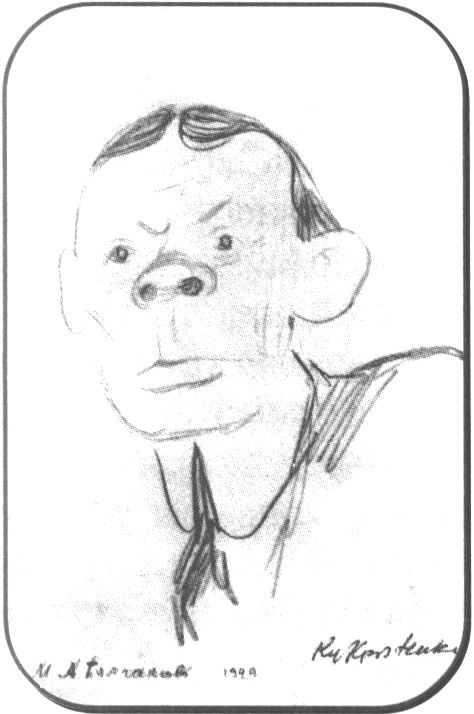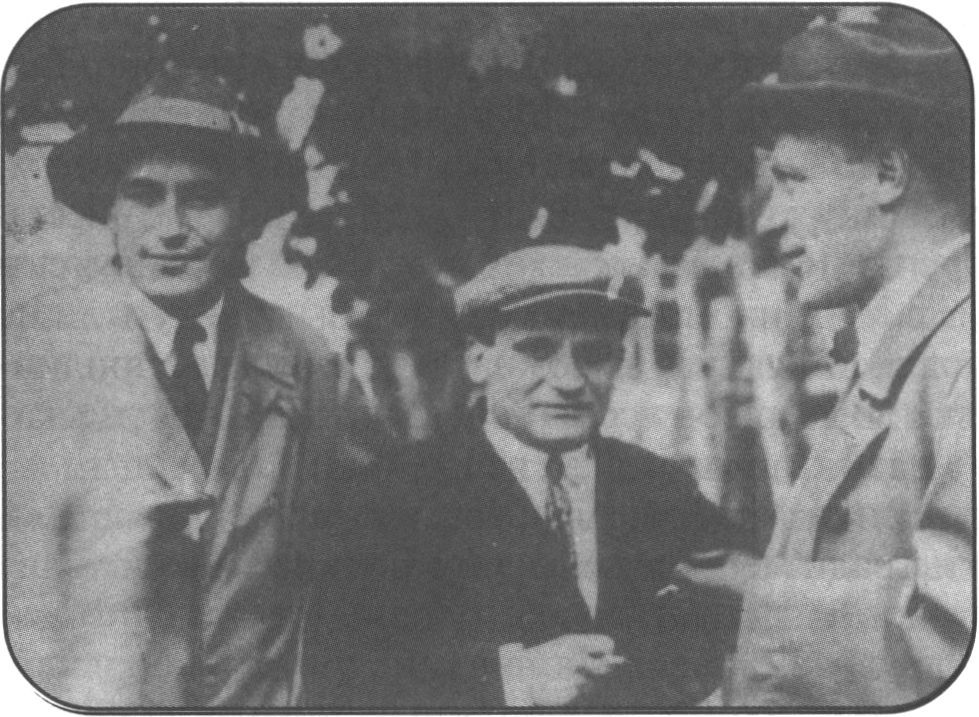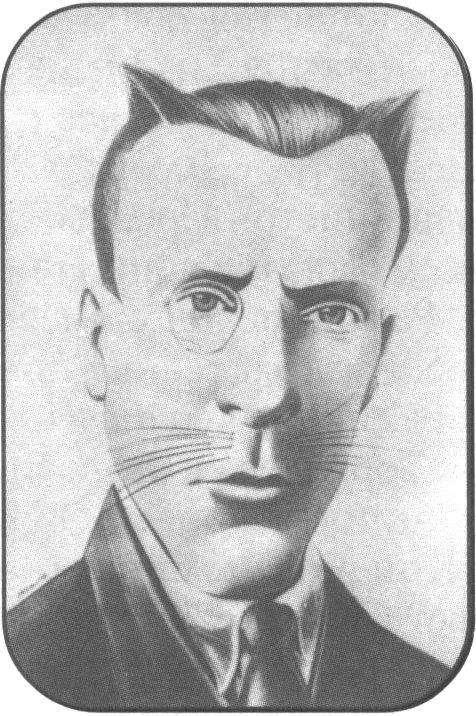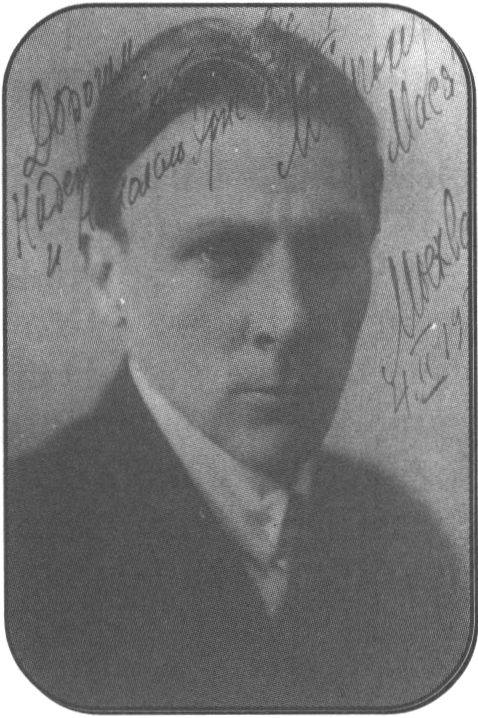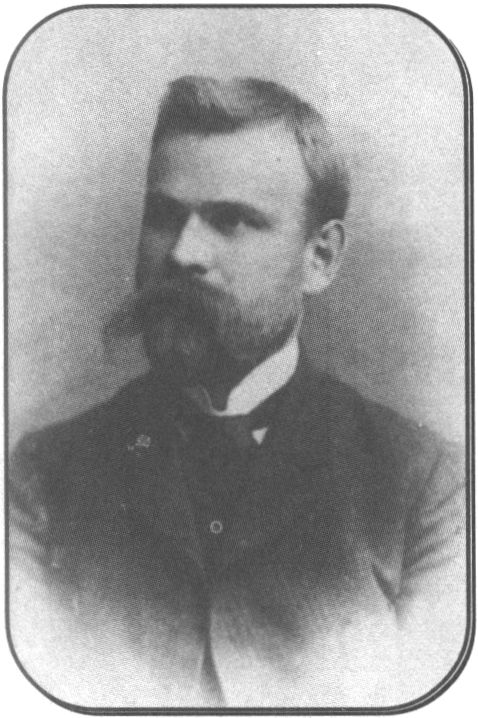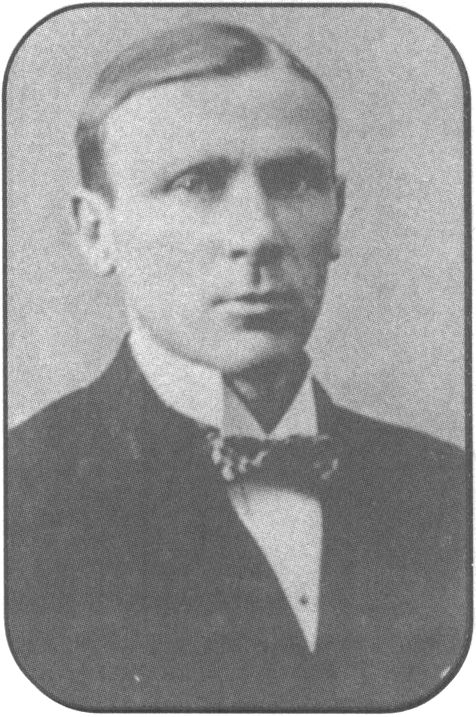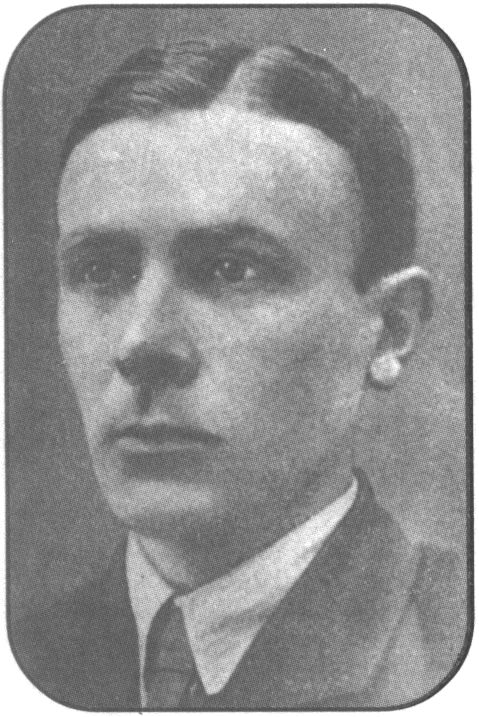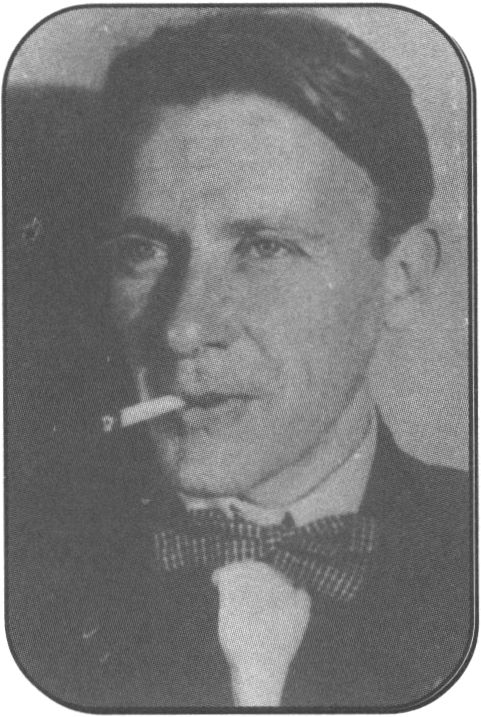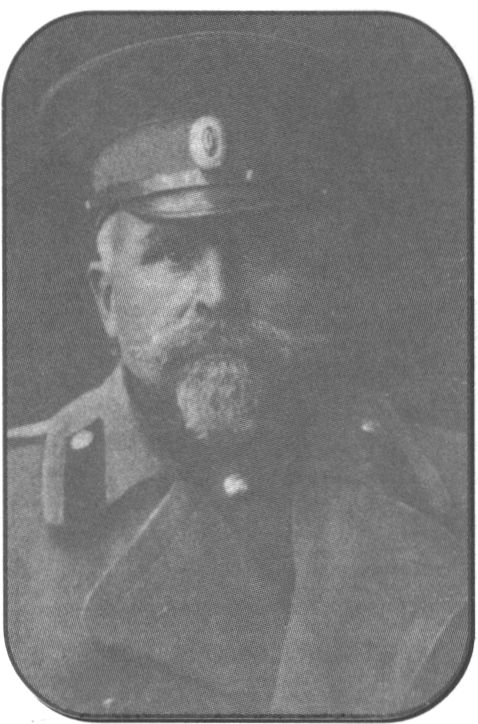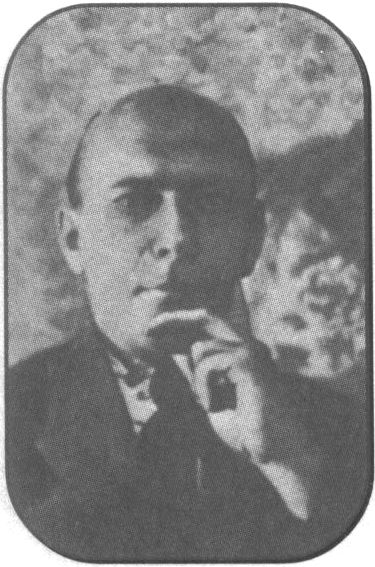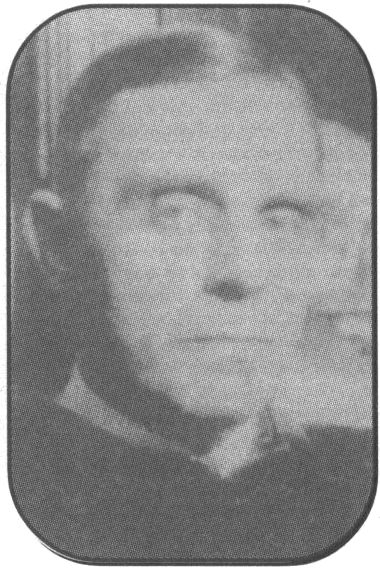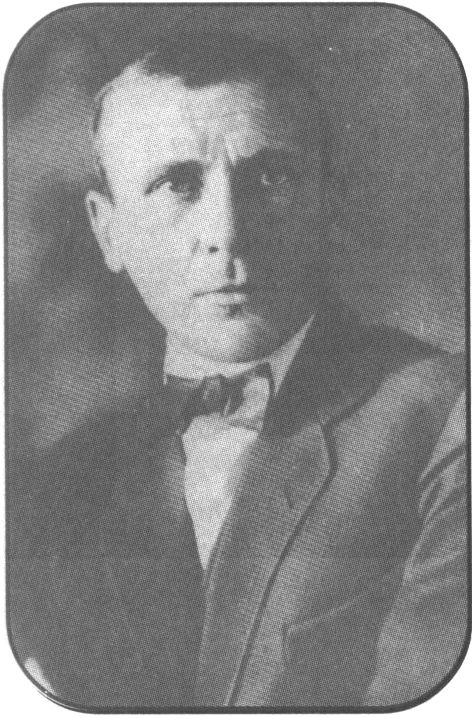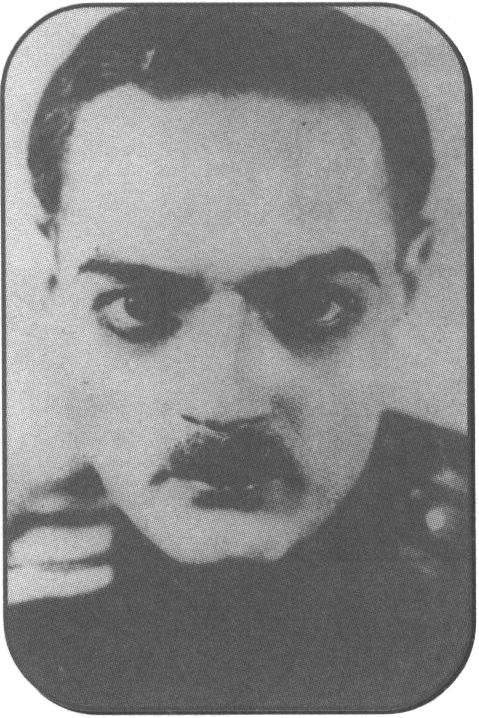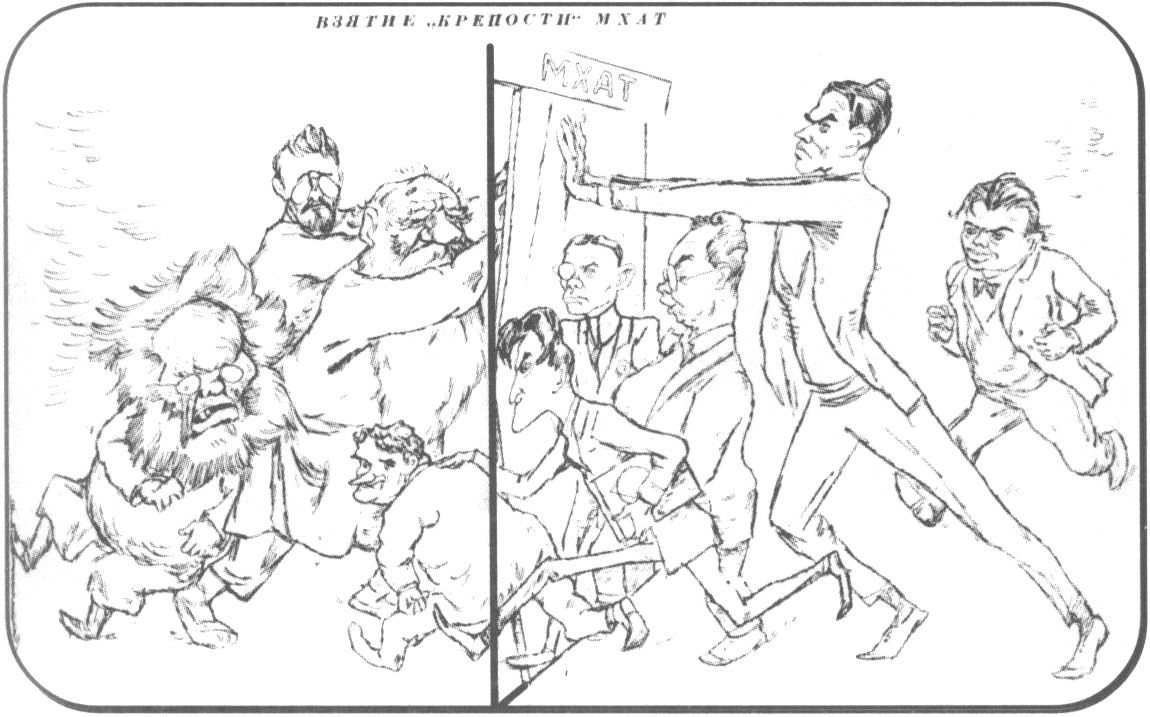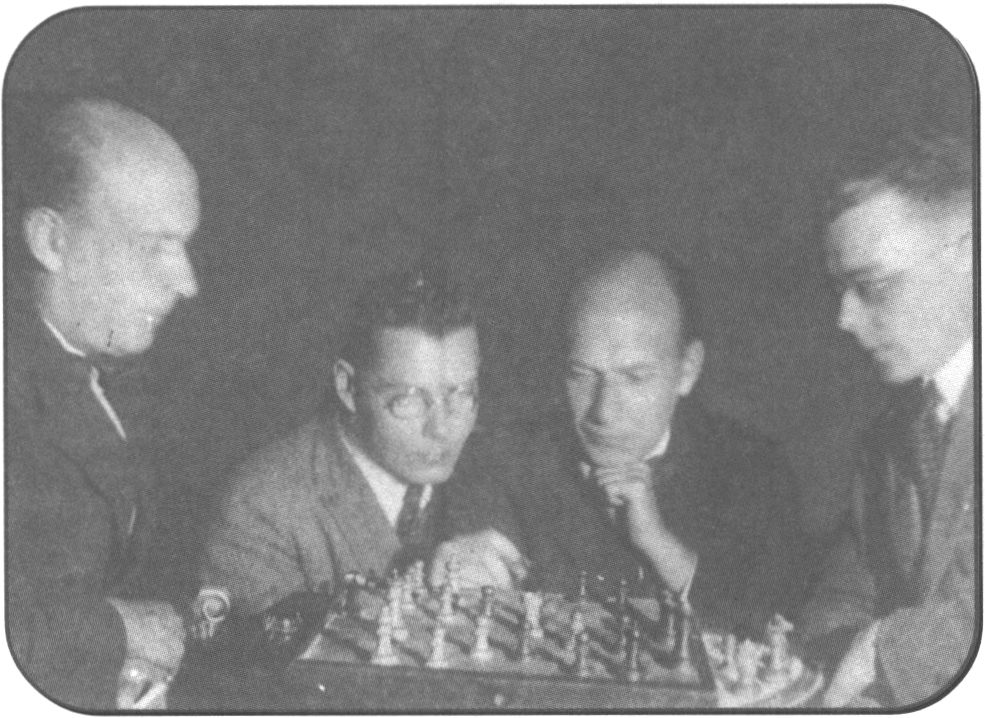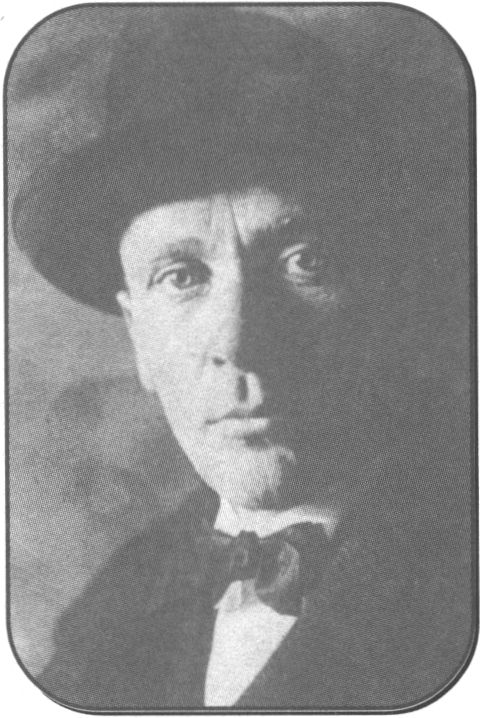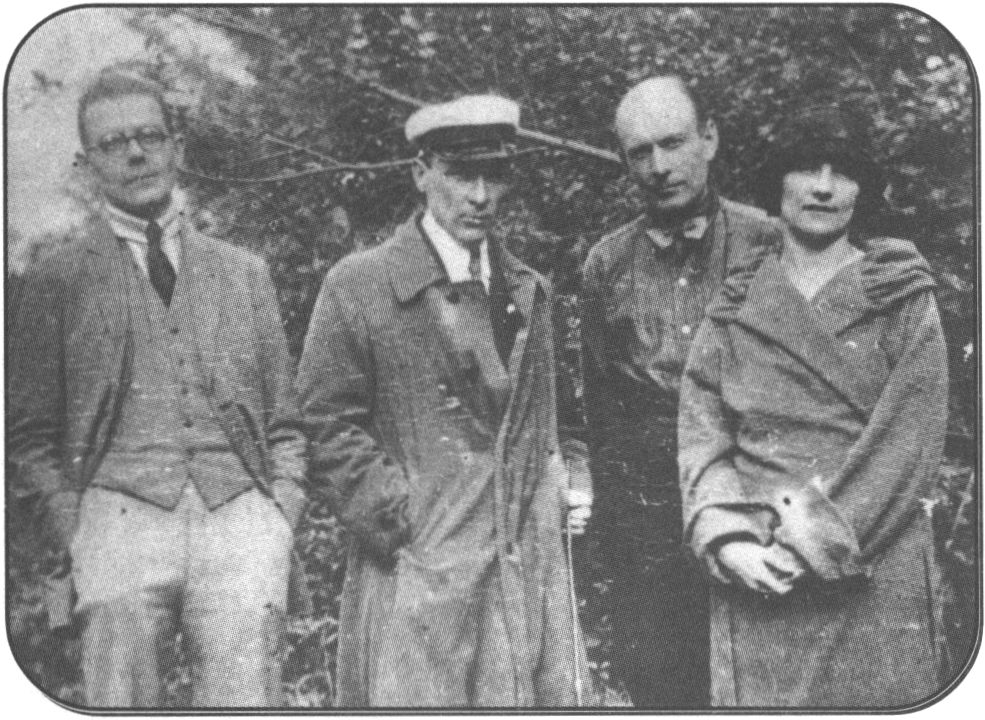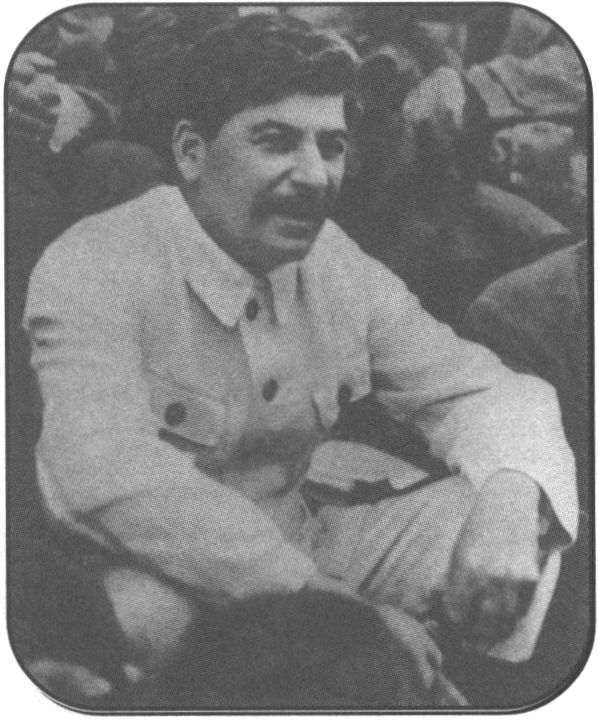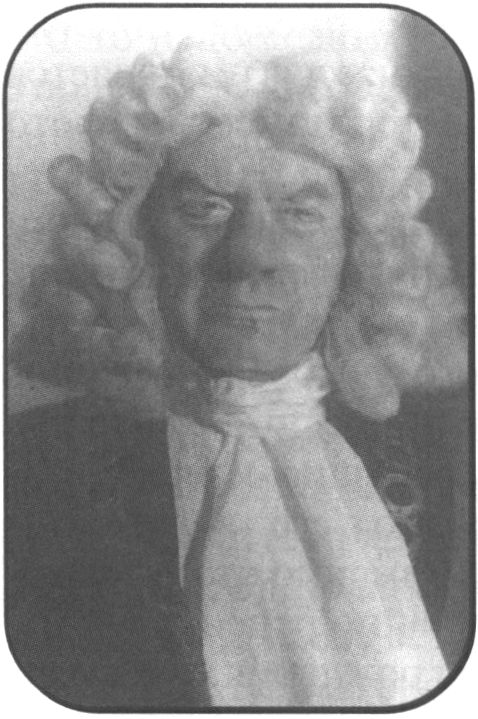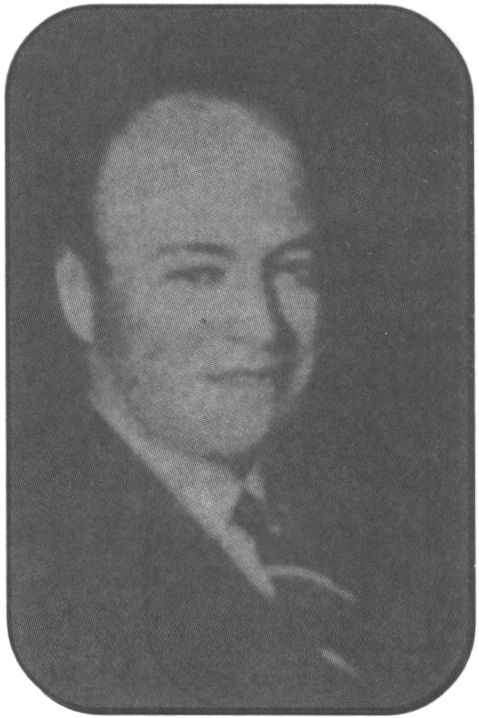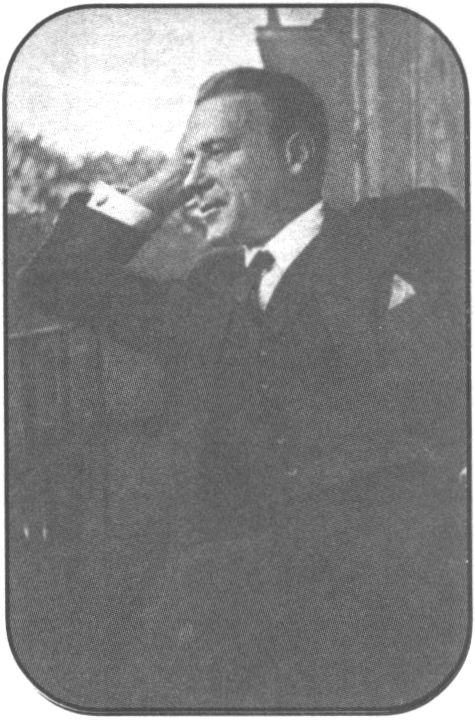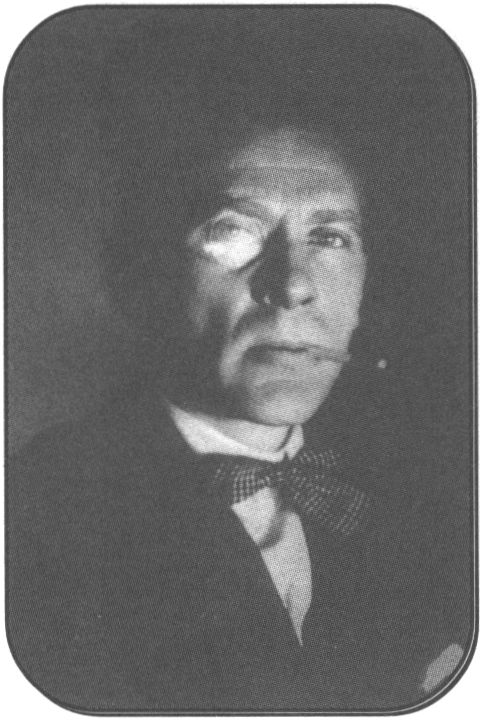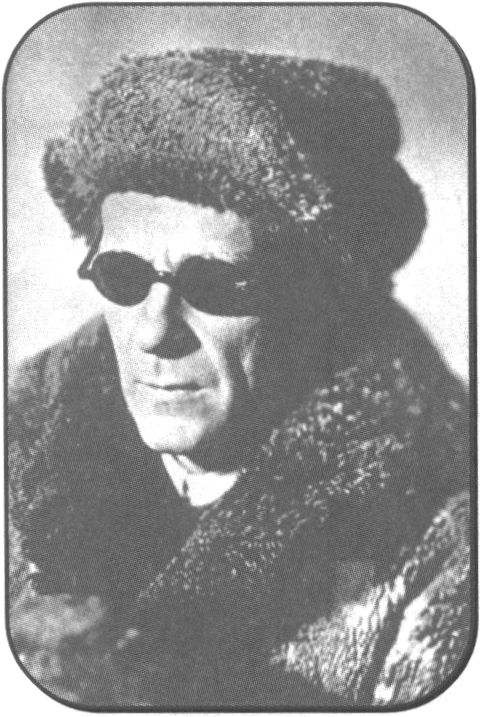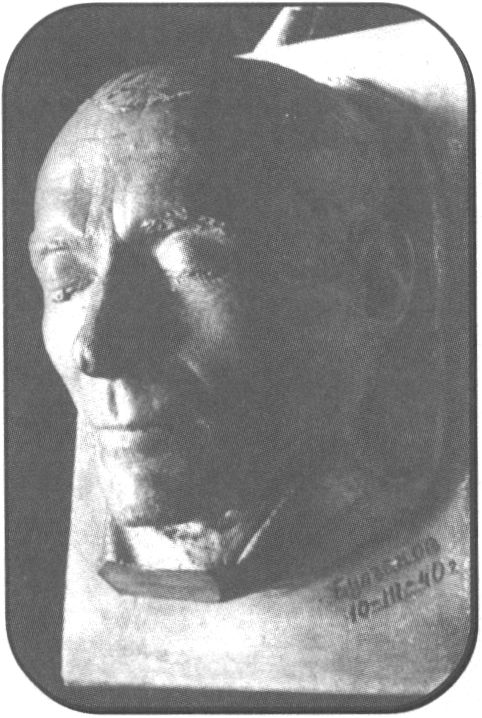Булгаков — один из самых читаемых писателей XX века, теперь мы смело называем его великим, гением, о чем раньше нельзя было и помыслить. И все же имя автора «Мастера и Маргариты» не просто веха в истории литературы. Его живые книги не должны заслонять самобытного человека, замечательную, сильную духом и верой личность, честного русского писателя, сумевшего прожить столь трудную, счастливую, богатую творческими свершениями и поступками жизнь и обрести свою непростую судьбу в истории и литературе.
Писатели большой судьбы знают о себе что-то, что мы о них до сих пор не знаем или не решаемся сказать. На этом перекрестке возникает интерес к самой фигуре творца, к его биографии, личности. Возникают неизбежные в таких случаях вопросы: почему мы так мало знали о нем, почему с каждым годом он все более интересен?.. Все это можно с полным правом отнести к творческой судьбе и литературному наследию выдающегося русского писателя и драматурга XX века, признанного классика отечественной словесности Михаила Афанасьевича Булгакова. Сейчас его имя окружено читательским вниманием и в нашей стране, и за ее пределами, увенчано заслуженной славой. А было не такое уж далекое время, когда замечательного художника слова лишали главного для него права — живого и непосредственного общения с читателем, зрителем, слушателем, следили за каждым его шагом, а каждую его новую вещь встречали подозрительно и часто видели в ней то, чего там вовсе не было, но что хотели увидеть его критики и оппоненты — «неистовые ревнители» партийной идеологии.
Причины такой (в условиях прежней тоталитарной деформации нашего общества) несправедливой критики и фактической травли в прессе, а позже и полного замалчивания выявились сразу. Булгаков не умел лукавить, приспосабливаться ни в жизни, ни в литературе, был на редкость цельным человеком, что, естественно, проявилось и в его творчестве. И устно и письменно Михаил Булгаков в течение всей своей жизни неукоснительно отстаивал принципы русской классической литературы, следуя заветам своих великих учителей: Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Л. Толстого, — любимых и почитаемых им писателей. Он небезосновательно полагал, что современная отечественная словесность не может успешно развиться без усвоения всего лучшего, что было накоплено за многие годы русской литературой.
Булгаков писал лишь о том, что хорошо, глубоко и всесторонне изучил, что его волновало. Конъюнктурные соображения были ему глубоко чужды. Он имел свою точку зрения на проходящие в стране процессы, и она часто не совпадала с официальной. Писатель и гражданин был убежден, что ведущую роль в развитии страны должна играть интеллигенция, и был ревностным приверженцем, по его словам, «излюбленной и Великой Эволюции», классическим представителем той части деятелей культуры, которые, не покинув страну в трудные годы, стремились сохранить свои «родовые признаки» в новых условиях.
Михаил Афанасьевич прекрасно понимал, что творческие и жизненные установки, реализованные в художественных произведениях, встретят жестокий отпор. А это предрекало существование в условиях почти враждебного окружения. Долгое время Булгаков был известен как автор пьесы «Дни Турбиных» и инсценировки поэмы Гоголя «Мертвые души». Но «рукописи не горят», гениальное слово бессмертно, время не властно над произведениями, созданными Мастером с чистой душой и мудрым сердцем. И чем дальше от нас уходят даты создания произведений Булгакова, тем больший интерес они вызывают у читателя и зрителя.
За прошедшие десятилетия биография писателя и его творчество были исследованы достаточно подробно. Здесь будут рассмотрены основные вехи его жизненного пути, его родственные связи — и не только они.
1
Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 г. в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова (см.) и его жены Варвары Михайловны, в девичестве Покровской (см.), первым ребенком в их браке, заключенном 1 июля 1890 г. Место рождения — дом священника о. Матвея Бутовского в Киеве, на Воздвиженской ул., 28. Оба родителя происходили из старинных семей орловских и карачевских (Орловской губернии) священнослужителей и купцов: Булгаковых, Ивановых, Покровских, Турбиных, Поповых... Иван Авраамиевич Булгаков (см.), дед со стороны отца, был сельским священником, ко времени рождения внука Михаила он — настоятель Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Другой дед, со стороны матери, Михаил Васильевич Покровский (см.), был протоиереем Казанского собора в г. Карачеве. В том, что оба деда были священниками одной местности, родились и умерли в один и тот же год, имели почти равное количество детей, биографы писателя видят некую межродовую «симметрию», особый провиденческий знак. А по фамилии бабушки по матери, Анфисы Ивановны Турбиной, впоследствии были названы автобиографические персонажи романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».
18 мая Михаил был крещен по православному обряду в Крестовоздвиженской церкви (на Подоле, районе Киева) священником о. М. Бутовским. Имя дано в честь хранителя города Киева Архангела Михаила. (Это подтверждается тем, что в семье Булгаковых его именины отмечали не в один из нескольких возможных по святцам дней, более близких к началу мая, например 7 (20) мая — день рождения Михаила Улумбийского, а 8 (21) ноября, в день Архангела Михаила). Крестными родителями стали — коллега отца, ординарный профессор Духовной академии Николай Иванович Петров и бабушка Михаила по отцовской линии Олимпиада Ферапонтовна Булгакова (Иванова).
В 1892—1899-х и в 1900-х гг. в поисках лучшего жилья семья меняла квартиры почти ежегодно: жили на Госпитальной ул., 4; в Кудрявском пер., 9 и 10; Прозоровской ул., 10; Ильинской ул., 5/8; в Дионисьевском пер., 4. Разрасталось и количество домочадцев: у Михаила было шесть братьев и сестер — Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902) (см. далее соответствующие материалы, относящиеся к детям Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых).
Последним городским адресом для полной семьи оказался Андреевский спуск, 13 (строение 1, кв. 2, будущий «Дом Турбиных»), а загородным — дача в поселке Буча под Киевом, где семья регулярно проводила летние месяцы.
Новое жилье недолго радовало отца и его семью. Осенью 1906 г. смертельно заболел А.И. Булгаков — у него обнаружился нефросклероз. Коллеги Афанасия Ивановича не оставили его в беде. С завидной оперативностью — чтобы успеть по достоинству оценить его заслуги — уже 11 декабря его удостоили степени доктора богословия. Одновременно Совет Духовной академии возбудил ходатайство перед Священным Синодом о присвоении ему звания ординарного профессора, которое было удовлетворено 8 февраля 1907 г. (понимая, что скоро умрет, Афанасий Иванович старался, чтобы с его уходом из жизни семья оставалась не менее обеспеченной). На следующий день А.И. Булгаков подал прошение об увольнении со службы по болезни, а 14 марта скончался. Семье была назначена пенсия в 3000 рублей в год. Будучи доцентом, Афанасий Иванович получал 1200 рублей и столько же — в должности цензора Киевского цензурного комитета. После смерти отца положение Булгаковых в материальном отношении даже улучшилось, что, конечно, не могло и в малой степени облегчить боль утраты. Родительница Михаила, Варвара Михайловна, как и отец, прививала детям трудолюбие и стремление к знаниям. По словам Н.А. Булгаковой-Земской, сестры писателя, она говорила: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, — это образование». В 1900 г. (18 августа) Михаил был зачислен в приготовительный класс киевской Второй гимназии, который закончил «с наградой второй степени».
Летом 1901 г. жена доцента Киевской духовной академии В.М. Булгакова подала прошение о переводе старшего сына в Первую гимназию. Директор Второй приготовительной гимназии препровождал свидетельство за № 2175 со «срочною к нему ведомостью» об успехах и поведении бывшего ученика приготовительного класса «гимназиста Булгакова М.», свидетельство за № 6323 о его рождении и крещении, свидетельство о привитии предохранительной оспы и копию «формулярного списка» отца. В «срочной ведомости» «приготовишки» было немного отметок: «5» (отлично) по Закону Божьему и «4» (хорошо) по русскому языку, математике, чистописанию и рисованию.
Новый в гимназии ученик сумел «сохранить достоинство» — он в числе десяти из пятидесяти, окончивших первый класс с наградой. Так с 22 августа 1901 г. Миша Булгаков начинает учебу в знаменитой Первой мужской Александровской гимназии и в мае 1909 г. ее оканчивает, получив аттестат зрелости 8 июня того же года. Гимназия эта имела особый и престижный статус. Император Александр I в 1811 г. даровал ей широкие права. Воспитанников готовили для поступления в университеты. Генерал П.С. Ванновский, ставший в 1901 г. министром народного просвещения и выдвинувший лозунг «сердечного попечения о школе», стремился привлечь для работы в гимназиях университетских преподавателей. В Киеве для такого эксперимента была выбрана Александровская гимназия. Основные курсы в ней вели доценты и профессора Университета и Политехнического института.
Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, известный философ Г.И. Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. После 1906 г. его сменил доцент университета А.Б. Селиханович, который преподавал еще и литературу. Учителем латинского языка в гимназии был чех А.О. Поспишиль, издатель сочинений Платона и страстный пропагандист античной культуры. Русский язык и словесность до 1903 г. преподавал крестный отец Михаила Н.И. Петров, его сменил доктор Венского университета Ю.А. Яворский, крупный ученый-фольклорист. Следует назвать еще и историка М.И. Тростянского, специалиста по Гоголю, и директора гимназии, математика Е.А. Бессмертного... Хотя Киев был провинциальным городом Российской империи, по уровню преподавания и составу учителей Александровская гимназия не уступала лучшим столичным учебным заведениям. По мнению исследователей, эта гимназия и ее преподаватели для Булгакова были примерно тем же, чем был Царскосельский лицей и его учителя для Пушкина.
Каким был гимназист Миша Булгаков? Писатель К. Г Паустовский, учившийся вместе с ним, дал такой портрет будущего автора «Мастера и Маргариты»: «Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом были удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора... Существовал мир, и в этом мире существовало как одно из его звеньев — его творческое юношеское воображение». Такому поведению Михаила Булгакова способствовала и непринужденная семейная атмосфера, о которой вспоминала его сестра Надежда: «...основным методом воспитания детей... была шутка, ласка и доброжелательность... это то, что выковало наши характеры... У нас в доме все время звучал смех... Это был лейтмотив нашей жизни».
Судя по полученному аттестату зрелости (высших оценок он удостоился только по двум предметам — закону Божьему и географии), Булгаков в гимназии учился далеко не блестяще. Его сестра Надежда вспоминала: «Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры, играл на рояле». Из увлечений Булгакова того времени она выделяла футбол — игру, только начинавшую в ту пору завоевывать популярность в России (им увлекались и братья Михаила, Николай и Иван), — и увлечение театром: и как зрителя, и как участника летних дачных спектаклей. «В Бучанском парке подвизаются на подмостках артисты императорских театров Агарин и Неверова...» — так шутливо она называла по их сценическим псевдонимам Михаила и сестру Веру.
Все это не мешало гимназисту Булгакову иметь и иные интересы. В конце весны или начале лета 1908 г. окончивший предпоследний, седьмой класс гимназии Михаил познакомился с пятнадцатилетней Татьяной Лаппа (родные и близкие звали ее Тасей) (см.), дочерью председателя Саратовской Казенной палаты. Она, тоже гимназистка, приехала в Киев к тетке на каникулы. Тетка Таси, Софья Николаевна Давидович, работала во Фребелевском обществе содействия делу воспитания. Туда же после смерти мужа поступила мать Булгакова, и они подружились. Во время одного из визитов к С.Н. Давидович произошло знакомство Михаила с будущей женой. Между ним и Тасей возникли романтические отношения, которые не без препятствий завершились счастливым браком: венчанье состоялось 26 апреля 1913 г. в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви. Обряд совершил друг семьи Булгаковых о. Александр Глаголев. Поручителями выступили друзья Михаила: Борис Богданов и братья Гдешинские, Платон и Александр, а также его двоюродный брат Константин Булгаков. Молодые жили сначала на Рейтарской ул., 25, потом переехали на Андреевский спуск, 38, вблизи от родительского дома. Михаил был в это время студентом второго курса Университета, Татьяна занималась на Высших женских курсах. Супруги Булгаковы прожили вместе 11 лет, Татьяна была с мужем во всех его последующих странствиях в годы Первой мировой и Гражданской войн в Киеве, в госпиталях Юго-Западного фронта Русской армии, на Смоленщине, на Кавказе и в Москве, где они разошлись в 1924 году.
2
Окончив гимназию, Михаил Булгаков не особенно колебался в выборе профессии: влияние родственников-врачей, братьев Василия, Николая и Михаила Покровских, близкое присутствие друга их дома, педиатра И.П. Воскресенского, перевесило наследственные корни предков — священнослужителей, да и время и воспитание было уже совсем другое. А главное для Михаила событие 1909 г. начиналось весьма прозаично: 17-м июля датируется прошение вчерашнего гимназиста о приеме его в число студентов медицинского факультета Университета. При поступлении он пользовался преимуществами, предоставленными для выпускников гимназий ведомства Министерства народного просвещения, то есть был принят без дополнительных испытаний. С 21 августа он был зачислен в Императорский Университет Св. Владимира. Булгаков — полноправный студент, что удостоверяет его собственноручная подпись в лекционной книжке, главном студенческом документе на все годы учебы. Весной 1910 г. он успешно сдал экзамены за первый курс, но к осени 1912 г., нарушив допустимый правилами срок, все еще был на втором курсе. Формулировка объяснения студента Булгакова об этом проступке звучала стандартно-лаконично: «Причина моей неуспешности (третий год на втором курсе) в болезненном состоянии, мешавшем мне в прошедшем учебном году вести занятия надлежащим образом. 10 сентября 1912 г.» Как мы уже знаем, «болезненное состояние» имело имя и фамилию: юная Тася Лаппа из Саратова.
Учеба Михаила Булгакова все же продолжалась и проходила в условиях начавшейся тогда войны 1914—1918 гг. Студент-медик Булгаков не остается в стороне: в августе 1914 г. он помогает родителям жены организовать лазарет для раненых при Казенной палате в Саратове и работает там врачом-санитаром; в мае 1915 г. он поступает в Киевский военный госпиталь Красного Креста на Печерске; весной и летом следующего года служит врачом-хирургом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольского и Черновиц в австрийской Буковине... Диплом об окончании Киевского университета Булгаков получил почти через полтора года: 31 сентября 1916 г. его утвердили в «степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными». (В весеннюю сессию 1915 г. аттестация Булгакова среди лучших на курсе. В разгар сессии пришло сообщение Главного Военно-Санитарного Управления из Петрограда с объявлением очередного воинского призыва, и Михаил (неожиданный факт!) «изъявляет желание» служить в особосекретном элитном Морском ведомстве. Но подвели не нарушаемые никогда условия службы — православная вера, образованность и абсолютное физическое здоровье. Как считают современные медики, повышенное кровяное давление уже тогда (в апреле—мае 1915 г.) было малозаметным предвестником будущего грозного и трагического заболевания — гипертонического нефросклероза. Формулировка: «негоден к несению военной походной службы» против его воли хранила молодого доктора Булгакова. Диплом «лекаря с отличием» он получил 7 марта 1917 г.).
Еще до получения официального диплома, лишь с «Временным свидетельством», выданным после успешной сдачи университетских выпускных экзаменов (в феврале—марте 1916 г.), Михаил Булгаков по истечении срока службы на фронте был отозван в тыл, но, как военнообязанный (ратник ополчения II разряда), он в 20-х числах сентября был зачислен «врачом резерва Московского военно-санитарного управления» для откомандирования в распоряжение смоленского губернатора с целью работы в земствах. Прибыв в середине сентября 1916 г. в Смоленскую врачебную управу, Булгаков получил направление в один из самых глухих уголков Смоленской губернии — в село Никольское Сычевского уезда заведующим 3-м врачебным пунктом. Они с женой прибыли туда 29 сентября — именно эта дата, начало врачебной деятельности будущего писателя в Никольском, стоит в удостоверении, выданном ему позднее. Работа «земским лекарем» отражена в автобиографическом цикле рассказов «Записки юного врача», а в рассказе «Морфий» Булгаков косвенно повествует о себе...
«Морфий» — рассказ автобиографического героя о жизни в «большом городе» — Вязьме, где «...цивилизация, Вавилон, Невский проспект». Туда Михаил Булгаков был направлен ровно через год его врачебной работы в Никольском: 18 сентября 1917 г. датировано разрешение на переход в Вяземскую городскую земскую больницу заведующим инфекционным и венерологическим отделением; он получает удостоверение Сычевской уездной земской управы о том, что «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником». Но сам рассказ не об этом: он описывает врача-морфиниста, его страдания и смерть. «Доктор Поляков» — отчасти и сам Булгаков: летом 1917 г. он начал регулярно принимать морфий после того, как вынужден был сделать себе прививку от дифтерита, опасаясь заражения вследствие проведения трахеотомии у больного ребенка; начавшийся сильный зуд и боли стал заглушать морфием, и в результате употребление наркотика вошло в привычку, избавиться от которой (практически чудом, как считают медики-наркологи) он смог лишь через год, в Киеве, стараниями его жены Татьяны и врача И.П. Воскресенского, своего отчима.
Отметим, опуская медицинские подробности, отразившиеся в рассказе «Морфий», что автором, как полагают исследователи, достаточно точно описан классический (как по учебнику, но в художественной форме) случай морфинизма, случай даже типичный, если учесть, как последовательно прогрессирует болезнь, не оставляя надежды на благополучный исход. В связи с этим факты биографии самого писателя и его счастливый выход из подобной ситуации следует считать уникальными. Иными словами в «Морфии» («Недуге») автор как бы воспроизвел тот вариант своей судьбы, который реализовался бы, останься он в Никольском или в Вязьме (вероятно, мысли о самоубийстве приходили уже тогда Булгакову на ум, ведь он позднее даже угрожал жене пистолетом, когда она отказалась давать ему морфий, а однажды, находясь в невменяемом состоянии наркотической «ломки», чуть не убил, запустив в нее зажженной лампой). Скорее всего, в Киеве автор «Морфия» был спасен не только врачебным опытом И.П. Воскресенского, но и атмосферой родного города, после революции еще не успевшего потерять свое очарование, спасен встречей с родными и друзьями. В рассказе самоубийство доктора Полякова происходит 14 февраля 1918 года, как раз накануне булгаковского отъезда из Вязьмы. (Укажем уже в скобках еще и то, что, по наблюдению Е.А. Яблокова, «Дневник Полякова», который читает доктор Бомгард, не заставший коллегу в живых, — это своего рода «записки покойника» — форма, использованная позднее в «Театральном романе», где главного героя, покончившего с собой уже по другой, хотя и где-то похожей причине, драматурга Максудова, зовут Сергеем, как и доктора Полякова в «Морфии». Показательно, что герой «Театрального романа» сводит счеты с жизнью именно в Киеве, бросившись с Цепного моста, то есть в городе, куда смог выбраться Булгаков из Вязьмы и тем самым, в конечном счете, спастись от морфия и стремления к самоубийству. А вот герой рассказа «Морфий» до Киева так и не добрался).
Еще одна область медицины (за нее студент Булгаков на экзамене получил высший балл — «весьма удовлетворительно») вскоре настоятельно понадобилась «юному врачу» — венерология. Об этом есть много воспоминаний родственников и друзей. Суммируя подобные сведения, сестра будущего писателя отмечала по поводу тематического рассказа «Звёздная сыпь»: «...1916 год. Только приехав в смоленскую деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических заболеваний (конец войны, фронт после февральской революции 1917 года, в деревню хлынули свои приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М.А. выбрал специальностью детские болезни, но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М.А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по своей специальности — недолго» (Н.А. Булгакова — Земская).
Практически неизлечимый тогда морфинизм повредил земской врачебной карьере: в Вяземской больнице Булгаков работал с 20 сентября 1917 г. по 19 февраля 1918 г., когда он был освобожден от военной службы по болезни. 22 февраля было получено от Вяземской уездной земской управы удостоверение о том, что он «выполнил свои обязанности безупречно», и в конце февраля Михаил с женой возвращается в Киев, где они поселяются в почти опустевшем родительском доме (Андреевский спуск, 13, кв. 2). Исследователи-булгаковеды отмечают, что относиться к благостным характеристикам, данным вяземскими врачами своему коллеге, инфекционисту Булгакову, нужно с осторожностью. Скорее всего, они по-своему ему сочувствовали, но, наверняка, вздохнули с облегчением, когда Булгаков уехал. Действительно, с прогрессирующим морфинизмом, симптомы которого уже нельзя было скрыть от профессионалов, лучшим выходом являлась отставка с хорошей характеристикой. А по сути супруги Булгаковы бежали из Вязьмы в надежде на врачей Киева. Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала: «<...> Я знала только морфий. Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, валенках, искала ему морфий... Ездила я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу (Покровскому, дяде Булгакова. — Б.М.)... Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили». А он: «А мне тут нравится». Я ему говорю: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что тогда будешь делать?». В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни... Эта полоса была ужасная. Отчего вот и бежали мы из земства... Он был такой ужасный... такой жалкий был... Я знаю, что там у него было самое ужасное настроение... Да, не дай Бог, такое <...>».
Но и в родном Киеве на первых порах с освобождением от наркотической зависимости было не так уж гладко. Т.Н. Лаппа (Кисельгоф) продолжает свой рассказ: «<...> Мы прекрасно ехали, в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне... Немцы заняли Киев, и мы уже последним поездом ехали... Приехали. Варвара Михайловна сразу заметила: «Что это какой-то Михаил?». Я ей рассказала, что он больной и поэтому мы и приехали. Ивану Павловичу я не сразу рассказала. Он сам заметил и спрашивает как-то: «Что ж это такое?» — «Да вот, — я говорю, — так получилось». — «Надо, конечно, действовать». Сначала я тоже все ходила по аптекам, в одну, в другую, пробовала раз принести вместо морфия дистиллированную воду, так он этот шприц швырнул в меня... горящую лампу однажды бросил. Браунинг (полагавшийся доктору Булгакову, как военврачу. — Б.М.) я у него украла, когда он спал... он несколько раз наставлял его на меня. А потом я сказала: «Знаешь что, больше я в аптеку ходить не буду. Они записали твой адрес, звонили в другую аптеку и спрашивали: «У вас морфий брали?» — «Брали.». Это я ему наврала, конечно. А он страшно боялся, что придут и заберут у него печать. Ужасно этого боялся. Он же тогда не смог бы практиковать. Он говорит: «Тогда принеси мне опиум». Его тогда в аптеке без рецепта продавали, и можно было несколько пузырьков в нескольких местах взять. Он сразу весь пузырек, оп! И потом очень мучился с желудком... И вот так постепенно он осознал, что нельзя больше никакие наркотики применять... Он знал, что это неизлечимо. Вот так постепенно это и прошло... Я чуть с ума не сошла тогда. <...>».
Да, это, видимо, так и было: родные домашние стены все-таки помогли. И уже в конце весны Булгаков избавляется от морфинизма и открывает частную практику как венеролог. Работы хватало: власть в городе постоянно менялась — красные, белые, петлюровцы, — на улицах и в пригородах шли бои, накатывали и откатывали толпы военных и невоенных людей, случались аресты и погромы, грабежи и убийства — словом, весь ужас, хаос и неразбериху Гражданской войны в 1918—1919 гг. Булгаков почувствовал на собственной судьбе, пережив, как он вспоминал, «10 переворотов лично». События того времени и, конкретно, защита Киева от петлюровцев и сама петлюровщина в декабре 1918—начале 1919 гг. описаны были им уже в Москве в романе «Белая гвардия». Сам автор, его брат Николай, его сестра Варвара, его зять Леонид Карум, друзья и знакомые Булгакова стали главными персонажами романа и последующей пьесы «Дни Турбиных». Это было уже в середине 1920-х гг., но свои первые литературные опыты Булгаков начал еще в Вязьме, описывая жизнь земского врача в Сычевском уезде, и продолжил в Киеве прозой (ранние произведения «Недуг», «Зеленый змий», «Первый цвет» — не сохранились).
Последней для Булгакова киевской властью в 1919 г. была власть деникинской Добровольческой белой армии. Он был признан военнообязанным и мобилизован полковым врачом в части на Северном Кавказе. «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь, — вспоминала его жена Татьяна (Т.Н. Лаппа). — Назначение было именно во Владикавказ, и не санитарным поездом... Почему я так думаю — потому что в Ростове он сделал остановку. Пошел играть в бильярд — то есть был сам себе господин. Там он сильно проигрался... и даже заложил мою золотую браслетку... В Киеве я жила без него, меньше месяца... получила телеграмму из Владикавказа, и сразу вслед за телеграммой письмо... Поехала. Предупредили: если в Екатеринославе махновцы — поезд разгромят. Боялась, конечно...». В конце концов Михаил встретил жену на владикавказском вокзале. Он к тому времени уже определился, получив назначение «начальником санитарного околотка 3-го Терского казачьего полка». Бывал и в г. Грозном, и в других городах Северного Кавказа; до конца декабря Булгаков нес свою службу военврача, участвуя в походах на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев, что было потом им описано в рассказе «Необыкновенные приключения доктора». На рубеже 1919—1920 гг. он оставляет службу в госпитале и вообще занятия медициной, начинает работать журналистом в местных газетах. Сохранились лишь три его публикации того времени: памфлет «Грядущие перспективы» (газета «Грозный», 26 ноября), очерк «В кафэ» и (в отрывках) рассказ с подзаголовком «Дань восхищения» («Кавказская газета», 18 января и 18 февраля).
Эти события отмечены и в булгаковской «Автобиографии» (1924): «...окончил Университет по медицинскому факультету, получил звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал». С этого времени на Северном Кавказе началась журналистская, драматургическая и писательская деятельность Булгакова. К официальным врачебным занятиям и медицинской практике он больше не возвращался, скрывая, особенно в начале 1920-х гг., свою причастность к службе в белой армии, пусть хоть и «лекарем». К тому же случилось событие, едва не стоившее начинающему газетчику-фельетонисту жизни. В конце февраля 1920 г. Булгаков заболевает свирепствовавшим на военном юге России возвратным тифом. Его выхаживает и вылечивает верная жена Татьяна, и, когда в начале апреля болезнь отступает, оказывается, что его бывшие сослуживцы по госпиталю и газете ушли вместе с белыми войсками, во Владикавказе установилась Советская власть.
3
Писательской декларацией, литературным дебютом публицистического плана, осознанным и концентрированным документом исследователи считают самый ранний из известных булгаковских текстов — небольшую статью-эссе «Грядущие перспективы», опубликованную 13 (26) ноября 1919 г. в северо-кавказской белогвардейской газете «Грозный» за подписью М.Б. Фрагмент вырезки статьи прятался среди бумаг Булгакова в его личном архиве. Автор имел основания скрывать эту свою первую публикацию: окажись она в руках «компетентных органов», московских «опекунов» писателя, его положение, — а он и без того находился «под пятой» (название дневника Булгакова) — катастрофически обострилось бы. Но у писателя были основания и для того, чтобы бережно сохранить среди своих бумаг фрагмент «Грядущих перспектив», причем не из сентиментальных соображений — как первую публикацию, а, как сейчас уже очевидно, ввиду ее чрезвычайной серьезности и провидческого смысла. Именно поэтому приведем ее полный текст по указанной выше газете: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая. Она — темная, мрачная — встает в сознании и властно требует ответа. Она проста: а что же будет с нами дальше. Появление ее естественно. Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли. Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть! Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее. В самом деле: что же будет с нами?..
Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала. Я долго как зачарованный глядел на чудно исполненные снимки. И долго, долго думал потом... Да, картина ясна! Колоссальные машины на колоссальных заводах, лихорадочно, день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят... Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушения, ковали могущество победы. На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны. Конечно, они скоро поправятся, очень скоро поправятся! И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.
А мы? Мы опоздаем... Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще? Ибо мы наказаны. Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю. Расплата началась. Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю. И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, — все ждут страстно освобождения страны. И ее освободят. Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла. Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба. Нужно драться.
И вот пока там, на Западе будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы. Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца. Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться... А мы... мы будем драться. Ибо нет никакой силы, которая бы могла изменить это. И мы будем завоевывать собственные столицы. И мы завоюем их.
Англичане, тоже как мы, покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли добраться до Москвы. И мы доберемся. Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены. И война кончится. Тогда страна, окровавленная, разрушенная, начнет вставать, медленно, тяжело вставать. Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше. Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова. Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!
И мы выплатим. И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кое-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас опять впустили в версальские залы. Кто увидит эти светлые дни. Мы? О, нет! Наши дети, быть может, а быть может и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она также легко считает как и отдельные годы. И мы, представители неудачного поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям: «Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!».
Этот первый дошедший до нас булгаковский текст с категоричностью, не допускающей двойных толкований, закрепляет культурные, политические и этические координаты автора в мире, расколотом по всем направлениям недавней Мировой и длящейся Гражданской. Булгаков пишет, что после победы над врагом (который персонализируется в фигуре председателя Реввоенсовета Красной армии Л.Д. Троцкого) лишь значительные трудовые усилия принесут добрые плоды и жизненное благополучие: «...там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...». Но чтобы попасть в тот сияющий электрический мир, где будет провозглашен этот созидательный труд, пишет автор, мало выиграть сражение на поле боя. Самое трудное, предрекают «Грядущие перспективы», после этого только и начнется. Нужно будет по самым высоким расценкам платить за грех революционного безумия, как сказано в завершающей фразе этой статьи, ее завершающей ноте: «Платите, платите честно и помните социальную революцию». Здесь важнее даже смысла о плате за военные и прочие долги явственно звучит мысль о плате в переносном, нематериальном смысле — покаянии и искуплении. «Плата», «неимоверный труд», «...суровая бедность жизни» — булгаковская программа на много поколений русской действительности вперед — получают в «грозненской» декларации будущего писателя чрезвычайно высокий духовный статус, могут быть приравнены даже к некоему религиозному служению, к покаянию и искупительной молитве: труд во имя искупления, труд как залог спасения. Верность этому принципу своей ранней декларации Булгаков подтвердил всем своим творчеством.
Но при этом следует заметить, что само творчество писателя вносит в эту «грозненскую» декларацию только одну, но весьма заметную, очень «булгаковскую» поправку: «неимоверный труд» здесь всегда — высокопрофессиональный творческий труд, созидательные усилия специалиста. Между трудом булгаковских мастеров-специалистов и высшими силами протянуты нити таинственной, мистической связи. Профессиональные усилия специалиста почитаются у Булгакова, во всем его творчестве задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей. Самозабвенная и самодельная погруженность в профессию вместе с аскетическим, как правило, существованием выводится у писателя-художника из разряда привычных обстоятельств, и булгаковская вера предстает как религия высокопрофессионального труда и высочайшей ответственности. Такая этика труда и прямой ответственности прямо ведет к череде будущих булгаковских мастеров в прозе и драматургии писателя. И не только в самом серьезном контексте, а и пародийном, травестированном, сниженном. По верному наблюдению М.С. Петровского, в написанной через двенадцать лет после «Грядущих перспектив» пьесе «Адам и Ева» (1931) Булгаков стольдорогие для него идеи и образы статьи 1919 г. передал не мастеру — академику Ефросимову, гениальному изобретателю и пацифисту, а омерзительному Пончику-Непобеде, конъюнктурному и бесталанному литератору. Трудно понять вполне — и навряд ли возможно однозначно истолковать — смысл этой автосатиры, этого загадочного пародийного издевательства над высокими принципами «Грядущих перспектив». Трудно также понять до конца и другое: в чем заключена этическая составляющая возможность и эстетическая необходимость этой игры. Но один несомненный ответ заключен во второй части двойной фамилии вышеназванного услужающего литератора, писателя-перевертыша: «Не-победа». Пророчества «Грядущих перспектив» исходили из веры в победу одних сил, а победили другие. Над прошлой программной статьей стало возможно иронизировать, потому что случилась не-победа. Ведь писатель Булгаков с его трагическим юмором возник в известном смысле потому, что идеалы «Грядущих перспектив» сохранили привлекательность, а пророчества — провалились. Поэтому, как кажется, «ритуальная» фраза советских писательских автобиографий — «меня как писателя создала революция» — вполне могла быть произнесена и Булгаковым, правда, в парадоксальном, трагикомическом смысле: революция создала писателя Булгакова, разрушив мир его прежних жизненных установок и представлений.
Уже во Владикавказе сориентироваться в непривычной обстановке и определиться на новую, уже литературную работу Булгакову помог писатель Ю.Л. Слезкин, с которым он при белых сотрудничал в газете «Кавказ». Слезкин уже работал заведующим подотделом искусств отдела народного образования Терского ревкома во Владикавказе, и Булгаков с середины апреля начал заведовать литературной секцией этого подотдела. Очевидно, он пошел туда сразу после выздоровления, чтобы добыть средства к существованию. Первое время жизнь Булгаковых была очень тяжела. Служебные обязанности Михаила Афанасьевича заключались в организации литературных вечеров, концертов, спектаклей, диспутов, где он выступал со вступительным словом перед началом представления. Татьяна Николаевна устроилась секретаршей в уголовном розыске, позже статисткой во владикавказском театре, «на выходах».
Чтобы заработать на пропитание, Булгаков стал писать пьесы: для драматической труппы местного Русского театра была написана одноактная юмореска «Самооборона». Ее премьера состоялась уже 4 июня 1920 г. на сцене вновь образованного во Владикавказе Первого Советского театра. За ней в июле—августе он пишет «большую четырехактную драму» «Братья Турбины (Пробил час)» (премьера 21 октября там же), а в ноябре—декабре 1920 г. — комедию-буфф «Глиняные женихи (Вероломный папаша)», которая так и не была поставлена. Зато в следующем году начинающего драматурга ожидал и сразу две премьеры: в марте — пьесы «Парижские коммунары» и в мае — пьесы «Сыновья муллы», сочиненной — на местном материале — вместе с юристом Т. Пейзулаевым и сыгранной на сцене Первого Советского театра актерами-любителями. Все эти пьесы, написанные второпях и по «революционному заказу», Булгаков впоследствии в письмах родным заслуженно именовал «хламом», хотя и посылал их в Москву на конкурс. Сами рукописи он распорядился уничтожить, случайно уцелел лишь суфлерский экземпляр пьесы «Сыновья муллы», ныне опубликованной.
В мае 1921 г. во Владикавказе открылся Горский народный художественный институт, куда Булгаков был приглашен деканом театрального факультета. Однако тогда же, в мае, произошло ужесточение коммунистической власти в городе (14-го Владикавказ был объявлен на военном положении). К тому времени ни Слезкин, ни Булгаков уже не работали в подотделе искусств, где последний с конца мая 1920 г. возглавлял уже не литературную, а театральную секцию. На обложке разгромного «Доклада комиссии по обследованию деятельности подотдела искусств» от 28 октября 1920 г. сохранилась запись, датированная 25 ноября: «Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков (бел.), 4. Зильберминц». Трудно сказать, расшифровывалось ли таинственное «бел.» как «белый» или, что вероятнее, как «беллетрист». Во всяком случае и после изгнания из подотдела Булгаков еще мог ставить пьесы и выступать на сцене. Пьесы иной раз имели успех, а драматург и писатель все более утверждался в выборе профессии. Однако продолжать эту деятельность во Владикавказе стало опасно. Новая волна репрессий грозила докатиться до Булгакова, которому, несмотря на амнистию, могли припомнить прошлую службу у белых или предъявить обвинение как участнику действительного или мнимого заговора.
Уехать из Владикавказа помогла удачная постановка в мае «Сыновей муллы», давшая средства на отъезд. В шутливо-иронической форме Булгаков вспоминал позднее об этом так: «<...> Я <...> решил уехать из Владикавказа. <...> Мы пришли в особый отдел. Я, бегло проходя через двор, припомнил все мои преступления. Оказалось — три: 1) В 1907 году, получив 1р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф. 2) В 1913 году женился вопреки воли матери. 3) В 1921 году написал этот знаменитый фельетон («Неделя просвещения». — Б.М.). <...> Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человечек в военной форме, с очень симпатичным лицом. Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидев меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину <...>:
— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.
— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.
Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.
— Пьесы сочиняете?
— Да. Приходится.
— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?
В его тоне было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:
— Да, хорошую.
Да. Да. Да. Это четвертое преступление и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:
— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.
Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд. Маленький сказал тому с винтовкой:
— Проводи литератора наружу.
Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Но, забудь <...> Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. <...> Прощай, Владикавказ! <...> Сгинул город у подножия гор. Будь ты проклят... <...>».
Супруги Булгаковы уехали в конце мая 1921 г. через Тифлис в Батум. Отправив жену через Одессу и Киев в Москву, писатель пытался отплыть в Константинополь и оттуда во Францию. Но его постигла неудача, и он поехал вслед за Татьяной Николаевной, прибыв в столицу в конце сентября. Началась его московская жизнь. Кавказские скитания нашли отражение в первой части повести «Записки на манжетах» и рассказе «Богема». Об этом периоде Татьяна Николаевна Булгакова (Лаппа) вспоминала так: «Владикавказский театр закрылся, артисты разъехались, даже Слезкин уехал. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис — ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. Ничего не выходило... Мы продали обручальные кольца — сначала он свое, потом я... Когда мы приехали в Батум... жили там месяца два, он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, комнаты нет. Очень много теплоходов шло в Константинополь. «Знаешь, может мне удастся уехать», — сказал он. Вел с кем-то переговоры, хотел, чтобы его спрятали в трюме, что ли. Он сказал, чтоб я ехала в Москву и ждала от него известий...» (Запись М.О. Чудаковой).
В Батуме супруги Булгаковы повстречались с неким поэтом, и эта встреча отразилась в повести «Записки на манжетах»: «...Видел поэта... Он ходил по Нури-базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним...». Исследователи полагают, что звали этого поэта О.Э. Мандельштам, с которым Булгаков уже встречался во Владикавказе. Жена Мандельштама (Н.Я. Мандельштам) вспоминала, что «видела Булгакова в Батуме, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре. Это было в Батуме в 21 году... К нам несколько раз на улице подходил молодой человек и спрашивал О.М. (то есть Осипа Мандельштама. — Б.М.), стоит ли писать роман, чтобы послать его в Москву на конкурс. О.М., к этому времени уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и связаться с редакциями. Он иногда подолгу разговаривал на эту «практическую» тему. О.М. говорил мне, что... у него, вероятно, накопился такой материал, что он уже не в силах не стать писателем». Как находят исследователи, тема эмиграции из России, о которой думал Булгаков в середине 1921 г., отразилась в его письмах, и в «Записках на манжетах». Булгаков был на распутье, и, сложись по другому ситуация (возможность уехать на отходящем в Турцию «Полацком», легальным или нелегальным — в трюме — путем), кто знает: жизнь и творческая судьба у него была бы другая. Так или иначе на увозящий в эмиграцию пароход «Полацкий» проникнуть не удалось («он не хотел меня пускать»), путь оказался возможным в единственном направлении: морем в Одессу (прямого железнодорожного сообщения вдоль Черноморского побережья Кавказа еще не было), а оттуда через Киев в Москву, как и советовал ему О. Мандельштам. Булгаков прощается с околобатумскими поселками (Цихисдцири, Махинджаури, Зеленым Мысом), и уже 17 сентября 1921 г. он в Киеве и через полторы недели — в Москве.
4
В «Автобиографии» 1924 г. Булгаков написал: «В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах...». Это был не первый его приезд, случалось бывать и раньше, но только проездом: в 1916 и 1917 гг. он останавливался у своих «дядек» (врачей Н.М. и М.М. Покровских), живших на Пречистенке. В этот же, уже окончательный, приезд Булгаков с женой первое время жили в Тихомировском студенческом общежитии, куда их устроил киевский друг, студент-медик Николай Гладыревский, затем у родственников мужа сестры, А.М. Земского, в Воротниковском переулке, но вскоре они переселились в принадлежащую ему же комнату квартиры № 50 в доме 10 по Большой Садовой улице. В этом старинном здании, известном сейчас как прототипический адрес событий романа «Мастер и Маргарита» и рассказов писателя, супруги Булгаковы прожили до самого их расставания, развода в 1924 г.
Начало нэпа или, вернее, период перехода к нэпу от политики «военного коммунизма» был очень тяжелым для населения, особенно для городского. Продуктов еще не хватало, свирепствовала безработица. Булгаков с 1 октября 1921 г. был назначен секретарем Литературного отдела (ЛИТО) Главполитпросвета, который просуществовал недолго: 23 ноября отдел был ликвидирован, и с 1 декабря Булгаков считался уволенным. Пришлось искать новую работу. Михаил стал сотрудничать в частной газете «Торгово-промышленный вестник». Но вышло всего шесть номеров, и к середине января 1922 г. Булгаков вновь оказался безработным. 16 февраля появилась надежда устроиться в газету «Рабочий» — орган ЦК ВКП (б), а с начала марта он стал ее сотрудником, опубликовав там около 30 репортажей и очерков. Параллельно, с середины февраля, с помощью брата А.М. Земского, Бориса Михайловича, Булгаков получил место заведующего издательским отделом в научно-техническом комитете Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского (сам Б.М. Земский состоял постоянным членом комитета). Это давало хоть какую-то возможность жить.
Об этом, наиболее трудном для него, начальном московском периоде жизни будущий писатель так сообщал своим родным (матери и сестрам) в Киев: «Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Въехав 1½ месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, добился максимума того, что можно добиться за такой срок. Место я имею. Правда это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, начинаем покупать дрова и т. д. Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день. <...> Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю. <...> Самым моим приятным воспоминанием за последнее время является — угадайте, что? Как я спал у вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал. <...>». К одному из писем в постскриптуме Булгаков приложил шуточные «домашние стихи» с впечатлениями о своем первом московском жилище:
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат —
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом,
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.
Жаль, некоторых удобств нет,
Например, испорчен в(ате)р-кл(озе)т.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический — странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того, ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос выводит «бедная чайка...»,
А за правой играют на балалайке.
В другом письме он делился с сестрой: «...написал фельетон «Евгений Онегин» в «Экран» (театральный журнал). Не приняли. Мотив — годится не для театрального, а для литературного журнала. Написал посвященный Некрасову художественный фельетон «Муза мести». Приняли в Бюро художественных фельетонов при Г.П.П. (Главполитпросвет Наркомпроса. — Б.М.). Заплатили 100. Сдали в «Вестник Искусств», который должен выйти при Тео (Театральный отдел) Г.П.П. Заранее знаю, что или не выйдет журнал, или же «Музу» в последний момент кто-нибудь найдет не в духе... и т. д. Хаос. <...>». Булгаков оказался прав: видно, нашли «не в духе...». Пролежавший более шестидесяти лет в архиве Главполитпросвета, этот «фельетон» «Муза мести. Маленький этюд» был разыскан и опубликован в 1980-х годах. Исследователь творческого наследия Булгакова М.С. Петровский считает, что этот «маленький этюд» «открывается вдруг как манифест писателя, провозглашенный в самом начале пути. Открывается как программа будущего булгаковского творчества, больше похожая на пророчество о самом себе: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» (Исследователь показывает связь пророческой «Музы мести» с будущими романами писателя — «Белой гвардией» и «Мастером и Маргаритой»). Фельетон «Евгений Онегин» не разыскан. Первым же написанным московским очерком Булгакова был «Торговый ренессанс (Москва в начале 1922-го года)», начинающийся так: «Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей). <...>».
Булгаков сразу и навсегда полюбил Москву, можно сказать, сыновней любовью, но и одновременно требовательно, пристрастно, не равнодушно. Он радовался преобразованиям в столице, новому строительству и быту. Но и огорчался, когда видел бесхозяйственность, бюрократические издержки, грязь и расхлябанность. В московской прессе (и не только в ней) Булгаковым опубликовано более пятидесяти очерков, рассказов, фельетонов, заметок, репортажей из жизни ставшего ему родным города. Их названия говорят сами за себя: «Москва краснокаменная», «Столица в блокноте», «Московские сцены», «Сорок сороков», «Москва 20-х годов» и другие. Действие происходит в Москве и в главных произведениях писателя и драматурга: «Дьяволиаде», «Роковых яйцах», «Собачьем сердце», «Зойкиной квартире», «Иване Васильевиче», «Театральном романе», «Мастере и Маргарите». Приведем несколько булгаковских зарисовок столицы в 1920-х гг. из его очерков и дневника «Под пятой». «...Въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском (теперь Киевском. — Б.М.) вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы происходило, что бы говорили, Москва — мать, Москва — родной город». («Сорок сороков»), «...Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные, красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город — павильон. <...> Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки». («Золотистый город»), «...Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить. <...> Москва. Из парков идут трамваи. <...> Трамваи в Москве имеют стройный вид, ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу». («Бенефис лорда Керзона», «Шансон д'эте»). «Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа. Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительно бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья. <...> До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. <...> До поздней ночи шевелится, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе». («Москва краснокаменная», «Торговый ренессанс»).
«...Для меня всегда наслаждение видеть Кремль. Утешил меня Кремль. Он мутноват. Сейчас зимний день. Он всегда мне мил. <...> Москва после нескольких дней мороза тонет в оттепельной грязи. <...> Москва в грязи, все больше в огнях — в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, Водоканал сверлит почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничего не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь, но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна... Около двух месяцев я уже живу в Обуховском переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности: и 16-й год и начало 17-го. Живу я в какой-то неестественной хибарке, но как ни странно, сейчас я чувствую себя более определенно. <...>» («Мой дневник», записи 20 и 23 декабря 1924 г.). «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. <...> Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. <...> Я рассказываю все это с единственной целью, чтобы поверили мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так! На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида. <...> Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» («Москва 20-х годов»).
5
Вернемся к событиям, сопровождавшим Булгакова в первый год его московской жизни. 1 февраля 1922 г. на Булгакова обрушилось большое горе, первое после смерти отца. В Киеве умерла его мать, Варвара Михайловна. Михаил и Тася на похороны не поехали. Об обстоятельствах, связанных с этим печальным событием, вспоминала Т.Н. Лаппа-Булгакова: «У нас ни копейки не было... даже разговора не было об этом... Я немножко удивилась, но он как раз в этот день должен быть идти куда-то играть. Он устроился... какая-то бродячая труппа (актеров) была, и мы получили телеграмму. Как раз это вечером было... Откуда мы могли взять деньги?.. Очень трудно было доставать билеты. Он нигде не работал, я нигде не работала, одними вещами (привезенными из Вязьмы и подаренными московскими родственниками. — Б.М.) жили, и те уж на исходе были. Бывало так, что у нас ничего не было — ни картошки, ни хлеба, ничего. Михаил бегал голодный». Мать Булгаков любил, хотя нередко и конфликтовал с нею (особенно когда она стала Воскресенской, подарив своим детям отчима). Ее памяти он посвятил самые добрые слова в романе «Белая гвардия». Да и сама смерть матери, как признавал сын, явилась одним из толчков к реализации замысла этого произведения.
Однако самый трудный и тяжелый период жизни Булгакова в Москве близился к завершению. С устройством на работу в конце февраля и марте 1922 г. материальное положение семьи стало постепенно улучшаться, чему способствовали публикации репортажей и статей. Еще 4 февраля в газете «Правда» (!) был напечатан первый московский репортаж Булгакова «Эмигрантская портняжная фабрика», затем репортажи и статьи, очерки, фельетоны и рассказы под разными псевдонимами стали появляться в «Рабочем» («Рабочей газете»), в журнале «Рупор», других московских изданиях. С начала апреля Булгаков поступает литературным обработчиком в газету железнодорожников «Гудок». В его задачу входит придание литературной формы корреспонденциям из провинции, не отличавшимся грамотностью. Параллельно он пишет для «Гудка» репортажи, рассказы и фельетоны (их выявлено около 120), работает там в составе «четвертой полосы», в бригаде журналистов с впоследствии громкими литературными именами — В. Катаевым, Ю. Олешей, И. Ильфом, Е. Петровым и другими. Затевает он и дело, как бы продолжающее его службу в ЛИТО: печатает в разных изданиях объявления, что «...работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами...». Призыв Булгакова не был поддержан, такой словарь не состоялся, но один «силуэт» — о Юрии Слезкине — писатель успел опубликовать.
Такая служба и такая «продукция» для «Гудка», «Рабочего» и других советских газет и журналов не приносила морального и творческого удовлетворения, хотя и обеспечивала писателя хлебом насущным. И все же средств постоянно не хватало. 18 апреля 1922 г. Булгаков сообщал сестре, что, помимо прочего, работает еще конферансье в небольшом театре. А с мая он начинает сотрудничество в эмигрантской «сменовеховской» газете «Накануне» и ее «Литературном приложении». Газета выходила в Берлине на советские деньги и была относительно по-европейски либеральной, способствуя возвращению эмигрантской интеллигенции на родину. Булгаков напечатал там 25 лучших очерков, рассказов и фельетонов того времени (в советских газетах и журналах они не проходили), и с этих публикаций началась его известность как журналиста. Газета имела и московскую редакцию, а возглавлявший «Литературное приложение» А.Н. Толстой требовал: «Шлите побольше Булгакова».
Сам же Булгаков, несмотря на такую популярность, крайне скептически относился к политике «пути эволюции умов и сердец», проводимой в этой газете. В своем дневнике «Под пятой» (он вел его в 1922—1925 гг.), в записи 26 октября 1923 г. писатель так отозвался о газете: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой». Признанный успех публикаций Булгакова в газетах Москвы и Берлина, в ряде журналов выдвигает его в первые ряды московских литераторов, молодых прозаиков «новой волны». Писателя приглашают на литературные вечера, собрания и концерты, он записывается в творческий профсоюз, выступает в кружках гуманитарной интеллигенции: в «Зеленой лампе» у Л.В. Кирьяковой, «Никитинских субботниках» у Е.Ф. Никитиной, в кружке поэтов «Узел» у П.Н. Зайцева, участвует в литературных чтениях «Вечера на Козихе» у В.Е. Коморского...
Об этих и других «салонных» выступлениях Булгакова написано достаточно много. Приведем его собственную запись в личном дневнике «Под пятой»: «<...> (В ночь на 23 декабря <1924 г.>). <...> Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезно? Тогда не выпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. <...> Эти «Никитинские субботники» — затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев. <...>».
Отметим, что у Евдоксии Федоровны Никитиной (1893—1973), историка литературы, организатора издательства «Никитинские субботники» и одноименных чтений, собирательнице автобиографий и биографий писателей, оставившей богатейший архив, содержащий впечатляющие сведения о русской литературе 1920-х — 1930-х гг., где есть упоминания и о Булгакове, — так вот там присутствовала не только «затхлая, советская, рабская рвань», не понимающая, «что такое русская литература». Присутствовали и «понимающие», и даже очень. Однако в сущности же писатель был прав: он с полным основанием мог бы прибавить к этому несимпатичному ему сообществу и «друзей-агентов» самого известного и могущественного ведомства, расположенного на Лубянке, которые, аккуратно посещая различные «субботники» и проявляя чудеса внимания к докладчикам, незамедлительно составляли подробные отчеты о виденном и слышанном и отсылали их «куда следует». Эти отчеты, «оперативно-следственные сводки», сохранились в недавно рассекреченных архивах спецслужб.
В них пока не разысканы «сведения» о чтении Булгаковым 22 декабря 1924 г. на «Никитинских субботниках» повести «Роковые яйца», но на чтениях другой повести, «Собачьего сердца», такой «друг» присутствовал и доложил по начальству: «Был 7.III.25 г. на очередном литературном «субботнике» у Е.Ф. Никитиной. Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечивание» последней. При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах. Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. <...> Булгаков определенно ненавидит и презирает весь совстрой, отрицает все его достижения. Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. <...> Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21.III.25 г. на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. <...> Если и подобные, грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» только подчеркнуто-заметный, небрежный грим), выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас. <...>». (Забегая немного вперед, в «пречистенский период» биографии Булгакова, упомянем, что вскоре писатель получил достойных уровню его творчества слушателей: внимательных, благожелательных, профессиональных. Это произошло на квартире у «супругов Ляминых» в их доме вблизи Остоженки: Савельевский (теперь Пожарский) переулок, 12, квартира 66. Лямин Николай Николаевич (1892—1941) — филолог, специалист по романским литературам, сотрудник ГАХН, его жена — Ушакова Наталья Абрамовна (1899—1993) — художница. В дальнейшем все или почти все, что было написано Булгаковым в 1920-х — начале 1930-х гг., он читал у Ляминых: «Белую гвардию» (в отрывках), «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу «Мастера и Маргариты». Квартира Ляминых стала одним из литературно-топографических адресов романа, их семье посвящена шуточная миниатюра писателя — «Дневник Н.Н. Лямина»).
И все же главным занятием М.А. Булгакова в 1923—1926 гг. была служба в профсоюзной газете железнодорожников «Гудок»; отнимавшая много времени, эта работа все же кормила, а иногда и развлекала. Об отдельных страницах булгаковской журналистской биографии вспоминал в середине 1970-х гг. его коллега Иван Семенович Овчинников: «...Начало двадцатых годов. Мы с Булгаковым работаем в «Гудке». Я заведую бытовой «Четвертой полосой», он — литературный сотрудник профсоюзного отдела. Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. Тулупчик — единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава — и можешь считать себя одетым. Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так: «Русский охабень. Мода конца семнадцатого столетия. В летописи первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в таких охабнях думные бояре со второго этажа падают. Пострадавших актеров и зрителей рынды увозят в институт Склифосовского. Рекомендую посмотреть. <...>
Вечером Михаил Афанасьевич воленс-неволенс опять появляется в нашей комнате взять тулупчик. Ну, а раз зашел — сейчас же бесконечные споры и разговоры, а при случае даже легкая эстрадная импровизация, какая-нибудь наша злободневная небылица в лицах. Ага, вот и он! Переступает порог — и сейчас же начинается лицедейство. В булгаковском варианте разыгрывается пародийный скетч «Смерть чиновника». Тема и интонация — целиком чеховские: «Не мой начальник, чужой, но все равно неловко. Опоздал, задержался. Надо извиниться!..». Безо всяких вступлений импровизируется сцена извинения. Тулупчик переброшен через левый локоть. Правая рука у сердца. Корпус в полупоклоне. Так, не разгибаясь, расшаркиваясь то левой, то правой, Булгаков отступает задом до самой двери. Но вот он остановился и выпрямился. Дернул головой снизу вверх, как бы сбрасывая с себя чужую личину, которую только что донес до этого места. Секунду мы смотрим друг на друга и начинаем оба хохотать. <...> Варьируясь в деталях, подобные встречи у нас с Михаилом Афанасьевичем бывали чуть ли не ежедневно. Взять тулупчик и молча шмыгнуть из комнаты он считал неприличным. Поэтому по пути от вешалки до двери он всегда успевал что-нибудь рассказать. Рассказы эти назывались у нас «квартплатой за вешалку»... <...>
Очередная наша беседа у вешалки. Михаил Афанасьевич рассказывает: «А на днях какие-то лоботрясы разыграли меня по телефону. Беру трубку — слышу мужской голос: «Товарищ Булгаков?» — «Булгаков, — говорю, — что угодно?» — «Спешим вас обрадовать и поздравить. На вашей улице начинается большой праздник. Знаем из самых надежных источников. Товарищ Сталин пишет большую статью о советском либерализме. Статья директивная. Ею открывается полоса советского либерализма!» — «Как это, — говорю, — понимать, и как это может коснуться и моей-то персоны?» — «Ну как понимать? Издадут полное собрание ваших сочинений! Разрешат вам выпускать большую либеральную газету! Нравится?» Я было уж и уши развесил. «Конечно, — отвечаю, — нравится. А кто, — спрашиваю, — со мной разговаривает?» И тут из трубки как грохнет вдруг хохот — сразу в четыре глотки: «Михаил Афанасьевич, сегодня же первое апреля! Забыли?» И опять хохот: «Го — го — го! Ха — ха — ха!» Бросил я трубку, обозвал хулиганов негодяями, а сам и до сих пор не могу никак успокоиться. Так все и стучит в ушах: «Советский либерализм!.. Советский либерализм!»...А перед глазами большая беспартийная газета вроде «Русских ведомостей». В уме уже и штаты начал подбирать... <...>».
Были и другие розыгрыши в «Гудке», где работали талантливые журналисты и писатели. А однажды случилась дуэль между Ю. Олешей и М. Булгаковым. Дуэль на эпиграммах с соответствующим «подтекстом». Первый выстрел был у «фельетониста Зубило» (Ю.К. Олеши):
Булгаков Миша ждет совета...
Скажу, на сей поднявшись трон:
Приятна белая манжета,
Когда ты сам не бел нутром.
Олеша обыгрывал здесь и феноменальную опрятность коллеги, и фразочки критиков писателя, именовавших творчество Булгакова окрашенным в «редисочные цвета» — снаружи красное, внутри белое... Ответный выстрел «фельетониста Гепеухова» (см. ниже) не заставил себя ждать:
По части рифмы ты, брат, дока, —
Скажу я шутки сей творцу, —
Что роль доносчика Видока
Олеше явно не к лицу!..
Как видно удар был чувствительным — Юрий Карлович сравнивался с заклейменным Пушкиным «Видоком Фигляриным» — Фаддеем Булгариным, газетным издателем и злобным критиком великого поэта. Олеша, видимо, это запомнил и во время истории с мхатовским «Мольером» отомстил...
Разыгрывали не только Михаила Афанасьевича, он сам был подлинным мастером хитроумных розыгрышей. Об одном из них пишет в своих мемуарах К.Г. Паустовский: «<...> Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед незнавшими его людьми военнопленным немцем, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал ни одного слова на этом языке. Но ему, видно, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственное известное ему русское слово. Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» — и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и к тому же полный идиот. Розыгрыш длился несколько часов, пока Булгакову не надоело, и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать: «Мой дядя самых честных правил...» <...>».
Вернемся к рассказу И.С. Овчинникова о буднях «Гудковской» «четвертой полосы»: «<...> Михаил Афанасьевич жаловался (видимо, уже в 1926 г. — Б.М.): «Чуть ли не каждый день хожу на допросы. Интересуются, откуда я так хорошо знаю быт офицерства, с кого писал Турбиных, на какие средства существую. А что я могу сказать? Никаких тайных, преступных связей у меня нет. То, что пишу, можно прочитать...». В другой раз свой невеселый доклад он закончил шуткой: «Понимаете, становлюсь психом. Начинаются зрительные галлюцинации. Недавно сижу дома за столом, пишу. Чуть в стороне — зеркальце. Глянул в него и обомлел: в зеркальце ясно виднеются три родные буковки — ГПУ. Ущипнул себя правой рукой за левое ухо — больно. Значит не сплю! В конце концов нашел-таки, откуда такое наваждение. Перед зеркалом лежит коробка папирос «Люкс» — «LUX», то есть в зеркале: LUX/ГПУ! В зеркале — дьяволиада!..». Михаил Афанасьевич принес даже от машинисток зеркальце, достал из кармана коробку папирос и демонстрировал всем свою галлюцинацию в натуре, прикрыв пальцем хвостик последней буквы. Редакция долго смеялась: иллюзия получилась полная!.. Собственная дьяволиада — толкование новое. Михаил Афанасьевич не только талантливо изображал лики дьяволиады в своих рассказах и повестях, с неизменным талантом он творил куски дьяволиады в жизни. Заходит как-то в нашу комнату. Торопится сам, торопит нас: «Обработал заметку! О школах! Срочно требуется эпиграф. Конечно, юмористический. Пожалуйста!» — «Вот, — говорю, — деловой совет Салтыкова-Щедрина: вводите просвещение по возможности без кровопролития. Раз заметка о школе — чем не эпиграф!». Конечно, шутка. Конечно, не для печати. Фраза сугубо одиозная. Сказал и забыл. А вечером в ночной редакции переполох. Заметка, оснащенная игривым салтыковским эпиграфом, торчит в полосе (фельетон «Просвещение с кровопролитием». — Б.М.). Немало шумели в редакции, когда в отпечатанном и разосланном номере вдруг был обнаружен свеженький псевдоним Булгакова — Гепеухов (точнее: «Г.П. Ухов». — Б.М.). На смену Гепеухову вскоре появился другой псевдоним, правда не такой броский, но взятый тоже из арсеналов дьяволиады — «Эмма Б.». Напомню анекдот, в контексте с которым воспринимался тогда этот псевдоним. Ухажер жалуется приятельнице: «Когда ваш телефон, Марь Ивановна, был на букву «Ж», дозвониться было совсем легко, когда он стал на «Г», дозвониться стало уже труднее, а сейчас, когда он на «Б», дозвониться просто невозможно». Вот это «Б» и включил Михаил Афанасьевич в свой новый псевдоним: «Кто понимает, псевдоним самокритичный, — говорил он, загадочно улыбаясь. — Стараешься ни на какие сделки с совестью не идти. А нет-нет, да и сорвешься. Так что «Б» это не мешает. Постоянное, так сказать, напоминание. Постоянная бдительность... <...>».
Но впечатления от работы в газете «Гудок» вызывали зачастую и негативные строки в булгаковском дневнике. Запись 22 октября 1923 г.: «<...> Сегодня на службе в «Гудке» произошел замечательный корявый анекдот. «Инициативная группа беспартийных» предложила собрание по вопросу о помощи германскому пролетариату. Когда Н... открыл собрание, явился коммунист Р... и, волнуясь, угрожающе заявил, что это неслыханно, чтобы беспартийные собирали свои собрания! Что он требует закрыть заседание и собрать общее. Н..., побледнев, сослался на то, что это с разрешения ячейки. Дальше пошло просто. Беспартийные, как один, голосовали, чтобы партийцы пригласили партийных, и говорили льстивые слова. Партийные явились и за это вынесли постановление, что они дают вдвое больше беспартийных (беспартийные — однодневный, партийные — двухдневный заработок), наплевав, таким образом, беспартийным ослам в самую физиономию. Когда голосовали, кого выбрать в редакционную комиссию, дружно предложили меня. И. Кочетков встал и сейчас же предложил другой состав. Чего он на меня взъедается — не знаю. <...>». Этот случай, видимо, задел Булгакова и запомнился ему: в повесть «Собачье сердце» попал сюжет о «помощи германскому пролетариату», а в записи 5 января 1925 г. автор дневника горестно сетует: «Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».
Журналисту Августу Явичу вспоминаются иные штрихи поведения Булгакова в редакции «Гудка»: «...С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый, с продолговатым лицом, зачесанными назад мягкими волосами и светлыми глазами. Грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание, но если он смеялся, то непременно в типизирующих масштабах. Он мог пустить крылатую остроту: «Не в том беда, что ты Визун, а в том беда, что ты лизун», и эта стрела летела гораздо дальше реального, всем нам знакомого Визуна. Про кого-то он сказал: «Этот человек лишен чувства юмора. С ним лучше не связываться. Скажи такому, что ты украл луну, — поверит». Про другого Булгаков заметил: «У него остроумие повисло на длинной ниточке слюны». Булгаков сидел над правкой заметок, придавая им легкий иронический глянец и лоск. При этом легко угадывалось то отвращение, которое он питал к некоторым героям этих заметок. <...>». Мемуарист подметил точно: журналист «Гудка» Булгаков питал отвращение к некоторым героям своих заметок и фельетонов, но, добавим, и не испытывал большой радости от вынужденной службы в железнодорожной газете.
Он так записывает в дневнике «Под пятой» (23 декабря 1924 г.) свои впечатления о прошедшем редакционном собрании, которое у него ассоциируется с эпизодом сражения времен Гражданской войны в Чечне: «...Остался почти до пяти часов в «Гудке», причем Р.О.Л. (?, видимо, один из редакционных функционеров. — Б.М.) при Ароне (Эрлихе, приятеле Булгакова. — Б.М.), при [Августе] П.[отоцком] (руководителе отдела, где служил Булгаков. — Б.М.) и еще кем-то был — держал речь обычную и заданную мне, — о том, каким должен быть «Гудок». Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал только правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо Р.О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал... Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О., одновременно — вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот. <...> Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода на Шали-аул, и последнюю фразу сказал мне так: «Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик». Меня уже контузило через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва — этот ночной ноябрьский бой, сквозь него — вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот бессмертно-проклятый зал в «Гудке». «Блажен, кого постигнул бой». Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию. Когда мы расходились из «Гудка», в зимнем тумане, — в вестибюле этого проклятого здания, П[отоцкий] мне сказал: «Молодец вы, Михаил Афанасьевич». Это мне было приятно, хотя я, конечно, ни в какой мере не молодец, пока что. <...>». К аналогичному настроению на «Гудковские», «производственные» темы Булгаков вернулся уже в юмористической форме в незаконченной повести «Тайному другу» (1929): «...Сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати двух минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихикание с машинисткой, — восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес <...> к помощнику редактора, <...> и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. <...> И вот происходил убой времени, зеленея от скуки, начинал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения. Наконец, убив два часа, я исчезал. <...>».
Булгаков любил в такой же юмористической форме рассказывать и о начале своего московского литературного пути. В 1930-х годах он дал полушутливое интервью своему другу, драматургу С.А. Ермолинскому, где есть такие строки: «...Я подложил себе первую свинью. <...> Молодость! Молодость! Я заявился со своим первым произведением в одну из почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка — я на ней снят с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачесаны назад. Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую «луковицу», нажал кнопку, и мои фамильные часы проиграли нечто, похожее на «Коль славен наш Господь в Сионе...». «Ну-с?» — вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествляя его. — «Ну-с, — хитро ответил мне редактор. — Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек». Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: «Не наш человек». Без сомнения это относилось ко мне. <...> Дело в моем характере. «Луковица» и монокль были плохо придуманным физическим приспособлением, чтобы побороть скромность и найти способ выразить свою независимость... <...>».
6
К середине 1920-х гг. у Булгакова на творческом счету две повести («Дьяволиада», 1923 г., и «Роковые яйца», 1924 г.), автобиографические «Записки на манжетах», десятки рассказов, очерков, фельетонов — все это составило три книжки избранной прозы, вышедшие в Москве и Ленинграде. В начале 1925 г. написана повесть «Собачье сердце», не разрешенная к печати и увидевшая свет лишь спустя несколько десятилетий... Через одиннадцать лет после создания последней повести он считал, что «повесть грубая». И можно предположить, что и «Роковые яйца», и «Собачье сердце», не говоря уже о «Дьяволиаде», Булгаков рассматривал лишь в качестве подготовительного этапа к осуществлению по-настоящему крупных замыслов. Их реализация уже происходила. Работая ночами, в 1923—1924 гг. он пишет свое главное произведение того времени, роман «Белая гвардия» («Желтый прапор»), биографически соотнесенный с испытанными автором событиями «скоропадчины» и «петлюровщины» в Гражданской войне в Киеве на рубеже 1918—1919 гг. Первые две части романа публикуются в журнале «Россия», третья не вышла из-за закрытия журнала. Полный текст романа был издан в конце 1920-х гг. в Париже и в 1966 г. в Москве. Об этом событии и строки в «Автобиографии» (1924): «Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей».
«Белая гвардия» — «роман зимний» (Е.А. Яблоков) и «двухэтажный» по пространству, заключающему в себе оба этажа турбинского дома на Алексеевском спуске (читай — Андреевском спуске в Киеве), 13: верхний этаж, где живет веселая семья Турбиных, и нижний — обиталище скучного труса Василисы и его костлявой Ванды. По верному наблюдению киевоведа М.С. Петровского, эти несимпатичные персонажи никак не соотносятся с жившими там нижними жильцами — домовладельцами Василием Листовничим и Ядвигой Крынской, как бы ни старались комментаторы романа заполучить их в качестве прототипов. Дело совсем в другом: судьбу романного образа решило чисто пространственное обстоятельство, трактованное в театральном смысле, а значит, Василиса и Ванда должны были стать сатирическими и комическими персонажами просто потому, что жили в первом этаже.
Парадокс? Нет. Ибо «двухэтажность» романного Дома Булгаков последовательно осмысляет и изображает как два этажа вертепа — русского и украинского кукольного театра, народного мистериально-сатирического действа. Вертеп как раз и представляет собой ящик-домик (иногда довольно больших размеров), на верхнем ярусе которого располагаются святые, ангелы, и дева Мария («рай»), а в нижнем — протекают грубоватые и смешные приключения при участии чертей и окарикатуренно-бытовых персонажей («ад»). Обыграть реальную двухэтажность дома как вертепную — это была счастливая находка романиста, многое предопределившая в романе, но она неизбежно обрекала жителей нижнего этажа на сатирическое изображение. А позже эту свою мысль, слегка прикрытую в романе, Булгаков открыл с предельной наглядностью, когда стал переделывать «Белую гвардию» в пьесу (поначалу — пьесу того же названия). По замыслу романиста, ставшего драматургом, действие на сцене должно было осуществляться в двух уровнях одновременно: верхнем — Турбиных, нижнем — Василисы; так вертепный кукольный домик увеличивался до размеров сцены драматического театра. Этот «театральный вертеп-коробочку» Булгаков, как полагают исследователи, «получил в наследство» от родного Киева. В пору его детства и юности вертепное действо еще можно было увидеть на Подоле, на Контрактовой ярмарочной площади, у стен Духовной академии и других местах. А на известной фотографии, изображающей маленького Мишу с его сестренкой (см. фото на стр. 23), можно различить кукол, которыми играли дети: это вертепные, театральные куклы — «Дева Мария» и «Черт». Получается, что Миша, ставший Михаилом Афанасьевичем, не забыл детские игры, не остался безучастным к этим игрушкам: вспомнил их в «вертепном домике» «Белой гвардии». Так Булгаков находит в театре жанровую модель вертепа, включающего тему Дома. Архитектурная форма вертепа соответствует христианской модели мироздания с чётким разделением на Град Земной и Град Божий. Форма постройки — домик в два этажа — и содержание вертепного спектакля были каноничны: в пространстве нижнего этажа давалось комическое содержание пьесы с изображением чёрта и запорожца, а в верхнем этаже всегда присутствовала мистериальная часть. Также «смоделирована» «Белая гвардия»: представители Града Божьего, по законам сценического действия, активно вторгаются в события Града Земного: «ангел-праведник» Жилин является во сне Алексею Турбину, Дева Мария посылает чудо исцеления погибающему Алексею. Вот и дом № 13: двухэтажный, где верхнее пространство заселено Турбиными, а нижнее — семьёй Лисовичей — травестийным вариантом семьи. Последнее полностью соответствует тональности вертепного представления с подчеркнуто сатирическим изображением грешников. Там изображенный Василиса был «кривозеркален» своему условному прототипу: В.П. Листовничий был главным архитектором Киевского военного округа, преподавателем на Высших женских курсах и в Художественном училище. Он погиб во время большевистского террора в 1919 г.
7
В это же время произошли изменения в личной жизни писателя. В начале января 1924 г. Булгаков участвовал в вечере, устроенном газетой «Накануне» в Бюро обслуживания иностранцев (Бюробине). Был там без Татьяны Николаевны и познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской (см.), ставшей вскоре его второй женой: уже в апреле 1924 г. Булгаков и Т.Н. Лаппа оформили развод. Так случилось, что их брак давно приближался к крушению. Татьяна Николаевна вспоминала, что ощущала надвигающийся разрыв еще в Батуме, когда Булгаков собирался эмигрировать. Встреча же в Москве подтвердила, что былой близости между супругами уже нет: «Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились... Но ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего, все уже как-то... перегорело».
Михаил и Тася провели вместе самые тяжелые последние годы их жизни — с осени 1919 до весны 1922 года, в 1917—1918 гг. жена много сделала, чтобы избавить Булгакова от губительного недуга — пристрастия к наркотикам, в 1920 г. спасла от тифа... Однако уже во Владикавказе Михаил целиком отдался своему призванию писателя и драматурга. Татьяна Николаевна же была достаточно равнодушна к литературной деятельности мужа, своих работ он ей вообще не показывал. Булгаков теперь стремился войти в литературно-театральную московскую среду, к которой Т.Н. Лаппа не принадлежала. Иное дело Любовь Евгеньевна, артистичная, «нарядная и надушенная дама», приехавшая из Европы... Она вернулась в Россию со своим прежним мужем — «сменовеховским» журналистом из «Накануне» И.М. Василевским (Не-Буквой). Свое знакомство с Булгаковым Л.Е. Белозерская описывает так: «Передо мною стоял человек лет 30—32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри грубо вырезанные; когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит — способно выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило — на молодого Шаляпина! Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту, он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила «цыплячьими» и посмеялась <...>. Я поняла, что он обидчив и легко раним...». Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1925 г. — через год после развода с Т.Н. Лаппа и почти через полгода после начала совместной жизни.
Конечно, инициатором и виновником разрыва с Тасей был Михаил, и со стороны строгих ревнителей морали (к ним принадлежали сестры, ближайшие родственники и некоторые их знакомые и друзья из района Патриарших прудов) он заслуживал осуждения. Тем более что Татьяна Николаевна осталась без профессии и практически без средств к существованию; она стала, по ее собственным словам, «гола как мышь». Из удобной комнаты в квартире 34 дома 10 на Б. Садовой, где она жила с Булгаковым с начала 1924 г. у квартировладельцев Манасевичей, ей пришлось перебраться в полуподвальную комнату (кв. 26) в том же доме. Стала ходить на курсы машинисток, потом на курсы кройки и шитья. Потом, чтобы получить профсоюзный билет, пошла на стройку, носила кирпичи, выдавала инструмент. Потом устроилась работать в регистратуру Марьино-Рощинской амбулатории, потом в поликлинику при Белорусско-Балтийской железной дороге. Эти профессии пригодились ей, когда в 1936 г. она уехала с новым мужем, А.П. Крешковым, в Черемхово под Иркутск... Однажды, примерно через год после их фактического развода, Булгаков пришел к ней, чтобы показать номер журнала, где опубликована первая часть «Белой гвардии» («Россия», 1925, № 4). Роман открывался посвящением Л.Е. Белозерской. Это не могло не возмутить Татьяну Николаевну. Она вспоминала: «Я все-таки удивляюсь, — сказала я ему, — кажется, все это мы пережили вместе... Я все время сидела около тебя, когда ты писал, грела тебе воду. Вечерами тебя ждала...». А он сказал: «Она меня попросила. Я чужому человеку не могу отказать, а своему — могу». — «Ну и забирай свою книжку...». И бросила журнал ему под ноги».
Уже после расставания Булгаков, по словам Т.Н. Лаппа, не раз говорил ей: «Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает»; позже он помогал ей как мог материально и перед самой кончиной хотел ее видеть, чтобы проститься... В богемной же среде, куда все более втягивался Булгаков, на узы брака смотрели легко, мало кто из знакомых был женат только один раз, и поведение будущего автора «Мастера и Маргариты» не выделялось ничем особенным. Глупо осуждать и корить его за это. Наверное, играли роль и его собственный характер, и творческие моменты, ибо нередко новая любовь на самом деле приносит вдохновение.
Любовь Евгеньевна Белозерская увлекалась литературой и театром, одно время сама танцевала в Париже, была весьма начитанна, обладала хорошим литературным и художественным вкусом. Творчество Булгакова она высоко ценила. Л.Е. Белозерская происходила из старинного дворянского рода. Отец ее был дипломатом. Он умер через два года после рождения дочери и за двадцать лет до революции. Мать имела музыкальное образование, полученное в Московском институте благородных девиц. Сама Люба с серебряной медалью окончила Демидовскую гимназию. У нее был неплохой голос и литературные способности. Окончила Белозерская и частную балетную школу в Петербурге. Во время Первой мировой войны она работала сестрой милосердия, в Гражданскую судьба забросила ее в Киев. Любовь Евгеньевна, свой первый рассказ написавшая еще в Париже, быстро сблизилась со старомосковской, «пречистенской» интеллигенцией и помогла войти в этот круг и Михаилу Афанасьевичу. Здесь были писатели, художники, театральные декораторы, филологи, философы, искусствоведы и люди многих других гуманитарных профессий, революции не сочувствующие, но с ней смирившиеся. С конца 1920-х гг. многие подвергались репрессиям и сгинули в лагерях и ссылках. Булгаков с Белозерской жили в сердце этой «пречистенской Москвы» — почти на самой Пречистенке в Чистом (Обуховом) переулке.
Уезжая в конце 1924 г. из дома на Большой Садовой, Булгаков оставлял в прошлом свою трудную жизнь начала этого десятилетия, прежнюю жену и приобретенных к этому времени некоторых московских знакомых — Крешковых, Коморских, Д. Кисельгофа, Ю. Слезкина, нескольких «гудковцев» и «накануневцев». К этому дому и Патриаршим прудам он вернется только в своем творчестве. А пока Булгакову и Белозерской пришлось искать пристанища. До Пречистенки жили в Арбатском переулке, в особняке на Большой Никитской. Наконец поселились в пречистенских переулках: с ноября 1924 г. до июня 1926 г. — в Обуховом пер., 9 (во флигеле арендатора), с июля 1926 г. до июля 1927 г. — в две комнатки особнячка в М. Левшинском пер., 4; а потом переехали на продолжение Пречистенки, Б. Пироговскую ул., 35а, в снятую у застройщика-архитектора А.Ф. Стуя трехкомнатную квартиру (№ 6) на первом этаже. Здесь Булгаков оставался до февраля 1934 г. (сначала с Любовью Евгеньевной, потом с третьей женой — Еленой Сергеевной), восстановив в какой-то мере на относительно длительное время важнейший для себя компонент нормальных условий существования.
Обухов, или Чистый, переулок был уже знаком Булгакову. Здесь (дом 1, кв. 12) жили с 1900-х гг. его любимые «дядьки» — братья-врачи Н.М. и М.М. Покровские, у которых он останавливался во время прежних московских приездов. С Николая Михайловича и его квартиры и окружения списаны черты профессора Филиппа Филипповича Преображенского и его домашней «клиники» в повести «Собачье сердце», которая и была создана в то время по соседству. Знакомство же с другими профессорами-гуманитариями Пречистенки не заставило себя ждать. Любовь Евгеньевна вспоминала: «Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в том же районе. Стоило перебежать улицу, пройти по параллельному переулку — и вот мы у Ляминых. Еще ближе — в Мансуровском переулке — Сережа Топленинов, обаятельный и компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов. В Померанцевом переулке — Морицы; в нашем М. Левшинском — Владимир Николаевич Долгоруков (Владимиров), наш придворный поэт Вэ Дэ...». Здесь упоминаются новые друзья Булгакова — филолог Н.Н. Лямин, его жена Н.А. Ушакова, художник-иллюстратор и фотограф, театральный художник-макетчик из МХАТа С.С. Топленинов, писатель В.Н. Долгоруков. Скоро их друзьями стали артисты и режиссеры Художественного театра, Театра имени Евг. Вахтангова, Московского Камерного театра, где шли булгаковские пьесы. Дружили они с семьями Понсовых, Стронских, Шервинских... Но главным на Пречистенке для Булгаковых был ГАХН (Государственная академия художественных наук), один из последних оплотов дореволюционной культуры, просуществовавший под неусыпным большевистским оком с 1921 по 1930 г., когда был закрыт, а многие его деятели арестованы. Супруги Н.Н. Лямин и Н.А. Ушакова были членами ГАХНа. Булгаков был хорошо знаком с видными деятелями Академии. Его друзьями стали вице-президент ГАХНа, известный философ Г.Г. Шпет, философ и литературовед П.С. Попов (друг и первый биограф писателя), искусствовед Б.В. Шапошников, театровед В.Э. Мориц, писатель С.С. Заяицкий, искусствовед и художник А.Г. Габричевский, начинающий драматург С.А. Ермолинский и его жена М.А. Чимишкиан... В планах Булгакова зрел соблазнительный замысел написать роман о Пречистенке и ее обитателях, частично осуществленный: на этой улице живут булгаковские профессора: В.И. Персиков («Роковые яйца») и Ф.Ф. Преображенский («Собачье сердце»).
О «пречистенской Москве» и «пречистенских друзьях» Булгакова вспоминал С.А. Ермолинский в середине 1960-х гг.: «...Он стал избегать театральных знакомых, даже тех, в искренности которых он не сомневался. Единственной средой оставались «пречистенские друзья». Поясню: на бывшей Пречистенке (тогда, до недавнего времени, улица носила имя Кропоткинской. — Б.М.), в ей тесных переулках, застроенных уютными особняками, жила особая прослойка московской интеллигенции. Территориальный признак здесь случаен (необязательно «пречистенцу» жить на Пречистенке), но наименование это не случайно. Именно здесь исстари селилась московская профессура, имена ее до сих пор составляют гордость русской общественной мысли. Здесь находились и наиболее передовые гимназии — Поливанова, Арсеньевой, Медведевское реальное училище, 1-я Московская гимназия... В советское время эти традиции как бы продолжались, но они теряли живые корни, продолжая существовать искусственно, оранжерейно. Об этом сатирически повествует незаконченный роман Н. Венкстерн «Гибель Пречистенки», частично на эту тему написана повесть С. Заяицкого «Жизнь Лососинова». «Советские пречистенцы» жили келейной жизнью. Они писали литературоведческие комментарии, выступали с небольшими, сугубо академическими статьями и публикациями в журналах и бюллетенях. Они жили в тесном кругу, общаясь только друг с другом. Квартиры их напоминали застывшие музеи предреволюционной поры, уплотненные в одну, реже в две комнаты, превратившись в коммунальные — самый распространенный вид жилища тогдашнего москвича. В их комнатах громоздилось красное дерево, старые книги, бронза, картины. Они были островитянами в мутном потоке нэпа, среди народившихся «короткометражных» капиталистов и возрождающегося мещанства, но в равной степени были и отделены от веяний новой советской культуры, еще очень противоречивой, зачастую прямолинейно-примитивной в своих первых проявлениях. У них имелись филологи и философы (не марксисты, конечно). <...> В этом кругу к Булгакову отнеслись с повышенной заинтересованностью. <...>».
8
Пречистенское время для Булгакова — это время начала его театрального успеха, начала драматургической деятельности; здесь написаны «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», московские премьеры которых прошли во второй половине 1920-х гг. «Роман» с Художественным театром (и другими московскими театрами) нашел отражение в прозе писателя 1930-х гг.: это знаменитые «Записки покойника», или «Театральный роман», с автобиографическим героем Максудовым. В действительности же было так: 3 апреля 1925 г. он получает приглашение режиссера МХАТа Б.И. Вершилова прийти в театр для разговора, в ходе которого следует предложение написать инсценировку романа «Белая гвардия». Булгаков предчувствовал такой поворот событий: несмотря на то, что 27 декабря 1924 г. вышла из печати только первая часть книги (вторая вышла в конце апреля 1925 г., а третья не выйдет вовсе из-за закрытия журнала «Россия»), он 19 января начинает первые наброски пьесы по мотивам романа, как и Максудов, «играет» в театральную «коробочку». МХАТ откликается положительно: заключает договор с выплатой аванса (на что Булгаков с женой совершает поездку в Крым и гостит у М.А. Волошина в Коктебеле), и уже в июле—августе драматург завершает труд над первой редакцией пьесы «Белая гвардия» и сдает ее театру. Начинается более чем годовая работа режиссеров и артистов Художественного театра над репетициями спектакля, получившего название «Дни Турбиных». Премьера состоялась 5 октября 1926 г. составом «нового поколения» «мхатчиков». Спектакль, ставший символом обновленного МХАТа, стал идти с громадным успехом и практически через день: в октябре «Дни Турбиных» прошли 13 раз, в ноябре и декабре по 14 раз, а уже 14 января 1927 г. состоялся его 50-й, «юбилейный» показ.
В это же время пишется и другая пьеса — комедия «Зойкина квартира», принятая к постановке Театром-студией им. Евг. Вахтангова (Третьей студией МХАТа). Работа над ней идет в течение почти всего 1926 г., премьера последовала 28 октября, через три недели после «турбинской». Но не все проходило гладко: литературный и особенно театральный успех Булгакова вызвал бешеную зависть и ненависть к нему и к его произведениям критиков — «пролетарских писателей» («рапповцев», «напостовцев»), «комсомольских поэтов», литературных футуристов и иных «экстремистов от культуры» — «неистовых ревнителей». Появились термины «булгаковщина», «подбулгачник», проходили полемические собрания, митинги, диспуты. Руководство культурой в стране (Наркомпрос, Главрепертком) не гасило разбушевавшиеся страсти, а лишь подливало масло в огонь, то запрещая, то разрешая представления. Булгакова перестали печатать газеты и журналы. Дело дошло до рассмотрения в Правительстве, на Политбюро. Вмешались и органы ОГПУ НКВД, установившие за писателем негласную слежку, наводнившие его окружение доносчиками и информаторами. Опубликованные теперь некоторые из этих «корреспонденций» производят угнетающее впечатление.
Происходили и личные контакты с агентами Лубянки: 7 мая 1926 г. был обыск в комнате Булгакова во флигеле дома (№ 9, кв. 4) в Обуховом переулке, произведенный сотрудниками ОГПУ. Изъяты машинописные экземпляры повести «Собачье сердце» и рукопись личного дневника «Под пятой» (они были возвращены писателю лишь три года спустя, после снятия с них копий, по ходатайству А.М. Горького, и тогда же Булгаков дневник уничтожил; эти копии в сокращенном виде стали доступны исследователям лишь недавно, когда была рассекречена часть архивов спецслужб). Причиной такого обыска и изъятия было решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 мая 1926 г. о закрытии журнала «Россия» («Новая Россия»), где Булгаков печатал роман «Белая гвардия», и высылки его основателя Лежнева. В письме зампреда ОГПУ Г.Г. Ягоды В.М. Молотову по поводу сменовеховцев, в группу которых (как автор журнала) был зачислен и М.А. Булгаков, читаем: «<...> 3. Для успешности означенных мероприятий (экономических санкций и конфискации имущества журнала и издательства. — Б.М.) и завершения разгрома Устряловско-Лежневской группы сменовеховцев произвести обыски без арестов у нижепоименованных 8-ми лиц, и по результатам обысков <...> возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобиться, кроме Лежнева, и еще ряд лиц по следующему списку: <...> 7. Булгаков Михаил (Афанасьевич), литератор. <...>». (Заметим в скобках, что, видимо, содержание изъятых у Булгакова рукописей, своих и чужих, не послужило основанием для высылки: он отделался только допросами на Лубянке).
Современные публикации дневниковых записей 1922—1925 гг. показали как бы «нового Булгакова», осветили дополнительные штрихи его биографии тех лет, позволили узнать его суждения о творчестве и литературном труде: «...Я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я знаю» (2.IX.1923). «В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленкой какой-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему проникаю мыслью и чувством» (30.IX.1923). «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися в произведениях, трудно печататься и жить» (26.X.1923). «...В литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь... Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем» (6.XI.1923).
Органы секретных служб продолжали настойчиво проявлять интерес к личности Булгакова. 22 сентября и 18 ноября 1926 г. писателя вызывали в ОГПУ на допросы. Там он, в частности, показал: «<...> Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически и так изображаю их в своих произведениях. <...> Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. С Освагом (Осведомительное агентство белой армии. — Б.М.) связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением. В момент прихода Красной армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. <...> «Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злостным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. <...> ...В своей сатире я пересолил в смысле злостности, и повесть возбуждает слишком пристальное внимание. <...> На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она представляется мне гораздо более кулацкой, чем это принято думать. Из рабочего быта мне писать трудно. Я быт рабочих представляю себе, хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало и вот по какой причине: я занят. Я очень интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги. Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые, порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)». Приблизительно так он писал в «Письме Правительству СССР» через четыре года.
9
Поводом для этого послужили события, заставившие Булгакова назвать 1929 год «годом катастрофы». Усилия по дискредитации писателя, предпринятые чиновной номенклатурой и их прихлебателями-критиками, не пропали даром: в этот год были сняты с репертуара «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров» (пьеса, написанная для Московского Камерного театра и шедшая там с большим успехом с декабря 1928 г. по июнь 1929 г.), запрещены репетиции новой пьесы «Бег» и постановка пьесы «Кабала святош» (обе во МХАТе). В конце этого страшного для драматурга года была им получена и официальная бумага из Драмсоюза, «состоявшего в ведении Главискусства Наркомпроса» (письмо от 7 декабря 1929 г. № 4/об/1225 за подписью члена правления Потехина и управделами Шульца), которая содержала приговор: «Справка. Дана члену Драмсоюза М.А. Булгакову для предоставления фининспекции в том, что его пьесы: 1. «Дни Турбиных», 2. «Зойкина квартира», 3. «Багровый остров» запрещены к публичному исполнению» (см. Репертуарный указатель Главного комитета по контролю за репертуаром за 1929 г., стр. 27).
Этот год и ему предшествующий — 1928-й — были для Булгакова еще и годами борьбы за постановку пьесы «Бег» во МХАТе. Вначале работа над спектаклем не представляла никаких осложнений, театр принял и начал репетировать эту пьесу, но потом приостановил: сложности начались, как и предполагалось, в Главреперткоме (председатель Ф. Раскольников). Руководство МХАТа в ответ на враждебную позицию Главреперткома не сдавалось и решило организовать новую читку «Бега», пригласив на заседание художественного совета театра М. Горького. Это было 9 октября 1928 г. Во время чтения пьесы (читал сам Булгаков) часто раздавался одобрительный смех, аплодисменты. Затем состоялось обсуждение. Резолюция Главреперткома от 9 мая 1928 г. подверглась резкой критике. «Бег» — великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас», — сказал М. Горький. Его по-своему поддержал начальник Главискусства А. Свидерский: «Если пьеса художественна, то мы, как марксисты, должны считать ее советской. Термин «советская» и «антисоветская» надо отставить...».
Создалось впечатление, что одержана победа. Уже 10 октября вновь начались репетиции пьесы, а на следующий день в «Правде» было опубликовано официальное сообщение: «МХАТ принял к постановке «Бег» Булгакова». «Вечерняя Москва» в тот же день дала подробное изложение выступления Свидерского и информировала читателей, что МХАТ репетирует «Бег». И 12 октября Булгаков заключает договор с Ленинградским Большим драматическим театром на постановку «Бега». Словом, казалось, что все складывается благополучно. Однако Главрепертком не сложил оружия. Его поддержала пресса, рапповцы, «неистовые ревнители», отточившие перья на критике булгаковских «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры». К тому же в это время (13 октября) Горький, по решению врачей, срочно выехал в Италию, и МХАТ потерял самого авторитетного своего защитника. Этим воспользовались противники «Бега», они придали вопросу сугубо политическое направление. 22 октября Главрепертком подтвердил свое майское решение о запрещении пьесы. Мнение Свидерского не было принято во внимание, хотя он заявил, что «Бег» окажется лучшим спектаклем в сезоне. Отрицательное решение Главреперткома по пьесе послужило сигналом партийной прессе к массированной атаке на ее автора и на МХАТ, который отмечал в эти дни свое тридцатилетие.
Не дремали и осведомители. В агентурной сводке от 25 октября значилось: «В литературных и артистических кругах Ленинграда усиленно обсуждался вопрос о постановке (предполагаемой в ближайшем будущем в Москве) новой пьесы Булгакова «Бег». Это известие произвело сильное впечатление как на советскую общественность, так и на круги, враждебные Соввласти. У Булгакова репутация вполне определенная. <...> Критически и враждебно относящиеся к Соввласти буквально «молятся» на Булгакова, как на человека, который будучи явно антисоветским литератором, умудряется тонко и ловко пропагандировать свои идеи. <...> В литературных и театральных кругах только и разговоров что об этой пьесе. Резюмируя отдельные взгляды на разговоры, можно с несомненностью утверждать, что независимо от процента антисоветской дозы пьесы «Бег» ее постановку можно рассматривать как торжество и своеобразную победу антисоветски настроенных кругов. <...> Распространился слух, что пьеса «Бег» будет разрешена к постановке только в Москве и ни в коем случае в провинции».
Повторялась как бы история двухлетней давности с мхатовскими «Днями Турбиных», но повториться она не могла: внутриполитическая ситуация была уже другой. Поэтому судьбой булгаковской пьесы вновь занялось Политбюро ЦК ВКП(б) и лично его генеральный секретарь. Уже в начале следующего 1929-го года, как первая ласточка, появился следующий документ: «Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) «О пьесе М. Булгакова «Бег»» от 30 января 1929 г. № П62/опр. 8-с. Строго секретно. Опросом членов Политбюро от 30.1.1929 г. о пьесе Булгакова «Бег». Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре. Секретарь ЦК». Этому итоговому документу, поставившему крест на постановке пьесы, предшествует ряд событий. Как полагают исследователи, в конце 1928 г. Сталин колебался и не был готов к принятию решения о запрещении пьесы «Бег» к постановке. Но тут произошло событие, которое подтолкнуло руководство страны к рассмотрению этого вопроса на Политбюро. 11 января был убит бывший генерал Добровольческой армии Я.А. Слащов (убийца, некий Коленберг, назвался братом одного из рабочих, повешенных по приказу генерала в Джанкое), послуживший прототипом главного героя пьесы «Бег» — генерала Хлудова. И это дало новый толчок развитию событий: через три дня была образована специальная комиссия Политбюро из верных «сталинских соколов» — Л.М. Кагановича, А.П. Смирнова, К.Е. Ворошилова. Эти «искусствоведы» должны были решать судьбу постановки «Бега» и решили ее. Уже 29 января герой Гражданской войны К.Е. Ворошилов в секретном письме Сталину докладывал: «По вопросу о пьесе Булгакова «Бег» сообщаю, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку этой пьесы в театре». А на следующий день мнение комиссии было утверждено цитированным выше протоколом.
События развивались быстро. По поводу различных «уклонов» и в политике и в искусстве подоспел срок ответа на письмо драматурга В.Н. Билль-Белоцерковского, где этот драматург, как полагают исследователи (само письмо не разыскано), в числе прочего затрагивал вопросы творчества и своего коллеги Булгакова. Сталинский «Ответ Билль-Белоцерковскому» был написан уже 2 февраля 1929 г. и скоро стал известен общественности (опубликован он через двадцать лет в 11-м томе собрания сочинений вождя). По поводу булгаковского творчества Сталин писал: «<...> «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины Гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно. <...> Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбьи даже «Дни Турбиных» — рыба. <...> Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в коей мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело? <...>».
Заканчивал свой «Ответ Билль-Белоцерковскому» вождь так: «Что касается «слухов» о «либерализме», то давайте лучше не говорить об этом, — предоставьте заниматься «слухами» московским купчихам». Но к «слухам» о пьесе «Бег» и об идущих во МХАТе «Днях Турбиных» все же прислушаться пришлось. Слишком громкое звучание приобрел скандал вокруг постановки «Бега», чтобы Сталин мог остаться в тени и не сказать своего веского слова. К тому же и общеполитическая ситуация в стране (разгоревшаяся борьба с «правым уклоном») требовала принятия решительных мер в схватке с «правой опасностью в искусстве», в ярчайшие представители которого те же функционеры от культуры записали и Булгакова. Ведь буквально через несколько дней после написания «Ответа...» Сталину пришлось выдержать яростный напор аудитории, требовавшей немедленно запретить столь нравящийся генсеку спектакль. В начале февраля в Москву прибыла делегация украинских писателей. 12 февраля делегацию принял Сталин, состоялась продолжительная беседа о литературе. Глава государства при разборе отдельных произведений начал с «Дней Турбиных», очевидно, предупрежденный об особом интересе присутствующих к этой пьесе. Более подробно и более доходчивым языком Сталин повторил все то, что он написал в письме к Билль-Белоцерковскому. Несколько раз его прерывали недовольные голоса. Затем гостям предложили выступить. Каждый из выступавших непременно высказывал резко отрицательное отношение к «Дням Турбиных». По их суждению, пьеса искажала исторический ход событий на Украине. Общее же мнение делегации выразил писатель А. Десняк, который без обиняков заявил: «Когда я смотрел «Дни Турбиных», мне, прежде всего, бросилось то, что большевизм побеждает этих людей не потому, что он есть большевизм, а потому, что делает единую великую неделимую Россию. Эта концепция, которая бросается всем в глаза, и такой победы большевизма нам лучше не надо».
Видимо, подобного рода признания очень не нравились Сталину, уже определившему свой политический курс на «единую и неделимую», но в виде СССР и без каких-либо проявлений «национального сепаратизма». Именно эту булгаковскую концепцию (по А. Десняку) он и одобрял в пьесе и спектакле «Дни Турбиных», именно потому он и защищал, в меру своих возможностей, пьесы Булгакова и самого драматурга. Но такая демонстрация украинскими писателями местного национализма и их неприятие «Дней Турбиных» все-таки вывели из равновесия Сталина <...>: «Я против того, чтобы огульно отрицать все в «Днях Турбиных», чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов... <...> Вы чего, собственно, хотите?».
И в ответ начальник Главискусства Украины А. Петренко-Левченко, ничуть не испугавшись генсека, заявил: «Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы. <...> Это единодушное мнение». Как считают исследователи, уступка Сталина и снятие с репертуара «Дней Турбиных» в конце 1929 г. была лишь тактическим ходом в его внутриполитической и внутрипартийной борьбе. Генсек надолго запомнил эту встречу с украинскими писателями, и дорого она им стоила. Через два года, когда «правая оппозиция» на Украине была разгромлена, Сталин дал команду о возобновлении этого спектакля во МХАТе. Но тогда, в декабре 1929 г., получение Булгаковым «запретительной бумажки» из Драмсоюза понудило его определить этот прошедший год как «год катастрофы», а в марте следующего обратиться к Сталину с главным своим письмом.
В сериях писем рубежа 1920-х — 1930-х гг. в вышестоящие инстанции и А.М. Горькому Булгаков сообщает о неблагоприятной для себя литературно театральной ситуации и тяжелом материальном положении. В письме от 28 марта 1930 г., посланном генсеку И.В. Сталину и другим членам Политбюро и правительства, он обращается с просьбой определить его судьбу и либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать режиссером-ассистентом во МХАТе. Булгаков писал: «<...> Я не берусь судить, насколько моя пьеса («Багровый остров». — Б.М.) остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного репертуарного комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных «услушающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что «Багровый остров» — пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, их которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком — не революция. Но, когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати», — она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, также как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. <...> Я прошу Советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор и что всю мою продукцию я отдал советской сцене... Я обращаюсь к гуманности Советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу...».
В другом письме Сталину (30 мая 1931 г.) он признавался: «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мною и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе... Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий. А если настоящий замолчит — погибнет... Я переутомлен... «Такой Булгаков не нужен советскому театру», — написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили. Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух...».
Вопрос о «литераторе Булгакове» обсуждался на заседании Политбюро (резолюция Г. Ягоды, поставленная еще 12 апреля со слов Сталина на углу булгаковского письма «Правительству СССР» от 28 марта 1930 г., гласила: «Надо дать ему возможность работать, где он хочет») и был решен положительно: 18 апреля ему позвонил Сталин. Состоялся примечательный и теперь уже легендарный диалог, свою позицию в котором писатель впоследствии оценивал как одну из пяти главных ошибок в жизни:
Сталин: Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?
Булгаков: Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
Сталин: Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
Булгаков: Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.
Сталин: А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся...
Завершая разговор, собеседники договорились о личной встрече (она так и не состоялась). Забегая вперед, приведем здесь дневниковую запись, сделанную третьей женой писателя, Еленой Сергеевной, уже после смерти мужа: «24 января 1956 г. <...> Но встречи не было. И всю жизнь М.А. задавал мне один и тот же вопрос: почему Сталин раздумал? И всегда я отвечала одно и то же: а о чем он мог с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал после твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах, — разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художнику писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это? <...>». Как бы подтверждая написанное Еленой Сергеевной, современные исследователи-булгаковеды выдвинули ряд версий о причинах случившегося. Так один из них, Е. Файман, пишет: «Дата (12 апреля 1930 г. — дата резолюции одного из руководителей ОГПУ Е. Ягоды на булгаковском письме. — Б.М.) снимает вопрос о реакции (первой) Сталина на похороны Маяковского. Булгакову было дано разрешение «на жизнь» еще до самоубийства Маяковского (14 апреля. — Б.М.). После похорон Маяковского 17 апреля, на следующий день, 18-го, абсолютный политик Сталин делает блестящий ход, в котором вообще никоим образом интересы Булгакова не учитываются в принципе! Вероятно, не будь самоубийства Маяковского, Булгакову сообщили бы о решении вождя «в советском порядке» через Ф. Кона (председателя Главискусства. — Б.М.). И только. <...> Но самоубийство Маяковского было не столько писательским, сколько политическим поступком. И Сталин САМ отпускает Булгакову «грехи». Сваливая все на окружающую «сволочь», поворачивая сложившуюся ситуацию на 180 градусов. Для него и не стоит вопрос о каких-то разговорах в будущем. Это — слова. Сегодня сам Булгаков и штатные и нештатные добровольцы разнесут эту историю, похожую на красивую легенду, и похорон как бы уже и не было. Завтра жизнь поставит иные задачи, и другие люди будут им использованы так же целеустремленно и так же без всякой оглядки на их судьбы и интересы... <...>». В случае с Булгаковым так и произошло. А в Художественный театр писатель и обратиться не успел: оттуда позвонили и пригласили. Уже в мае 1930 г. он был принят на должность режиссера и приступил к инсценировке «Мертвых душ» Н.В. Гоголя; в январе 1932 г. во МХАТе были возобновлены «Дни Турбиных» и в марте начались репетиции «Кабалы святош» («Мольера»). Жизнь начала улучшаться.
Разговор со Сталиным вселил в Булгакова хоть какую-то надежду в условиях общественного бойкота и «почти враждебного окружения». И запомнился навсегда. Позже он писал В.В. Вересаеву: «Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? Ведь он же произнес фразу: «Быть может, вам действительно нужно уехать за границу?»... Он произнес ее! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня? <...> Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу. <...>». Эти мысли отразились и в творчестве: в написанной тогда же пьесе «Адам и Ева» последние слова, обращенные к автобиографическому герою, звучат так: «Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь».
Между тем в творческих кругах Москвы живо обсуждался сталинский звонок Булгакову. Похоже, «кремлевский Макиавелли» сумел поставить общественное мнение с ног на голову: из грозного диктатора и гонителя свобод вождь, как по мановению волшебной палочки, превращался чуть ли не в добряка, демократа, создателя «советского либерализма»! Все эти настроения внимательно отслеживала Лубянка. Из совсекретной агентурно-осведомительной сводки 5-го отделения СООГПУ от 24 мая 1930 г. № 61: «...В литературных и интеллигентских кругах очень много разговоров по поводу письма Булгакова. <...> Феликс Кон, получив это письмо, написал резолюцию: «Ввиду недопустимого тона оставить письмо без рассмотрения». Проходит несколько дней, и в квартире Булгакова раздается телефонный звонок.
— Вы тов. Булгаков?
— Да.
— С вами будет разговаривать тов. Сталин.
Булгаков был в полной уверенности, что это мистификация, но стал ждать. Через две — три минуты он услышал в телефоне голос:
— Я извиняюсь, тов. Булгаков, что не мог быстро ответить на ваше письмо, но я очень занят. Ваше письмо меня очень заинтересовало. Мне хотелось бы с вами переговорить лично. Я не знаю, когда это можно сделать, т.к., повторяю, что я крайне загружен, но я вас извещу, когда смогу вас принять. Но во всяком случае, мы постараемся для вас что-нибудь сделать.
Булгаков по окончании разговора сейчас же позвонил в Кремль, сказав, что ему сейчас только звонил кто-то из Кремля, который назвал себя Сталиным. Булгакову сказали, что это был действительно тов. Сталин. Булгаков был страшно потрясен. Через некоторое время, чуть ли не в тот же день, Булгаков получил приглашение от т. Кона пожаловать в Главискусство. Ф. Кон встретил Булгакова с чрезвычайной предусмотрительностью. <...> Вскоре Булгаков получил приглашение явиться в МХАТ 1-й, где уже был напечатан договор с ним как с режиссером. Вот и вся история, как все говорили, похожая на красивую легенду, которая многим кажется просто невероятной. Необходимо отметить те разговоры, которые идут про Сталина сейчас в литературных интеллигентских кругах. Такое впечатление, словно прорвалась плотина, и все вдруг увидали подлинное лицо тов. Сталина. Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, ненависти, мнений как об озверелом тупом фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий, недостатков, разрухи и т. п., как о каком-то кровожадном существе, сидящем за стенами Кремля. Сейчас разговор:
— А ведь Сталин действительно крупный человек. Простой, доступный.
Один из артистов театра Вахтангова, О. Леонидов, говорил:
— Сталин раза два был на «Зойкиной квартире». Говорил с акцентом: «Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного не вижу».
Рассказывают про встречи с ним, когда он был не то Наркомнац, не то Наркомом РКИ: совершенно был простой человек, без всякого чванства, говорил со всеми как с равными. Никогда не было никакой кичливости. А главное, говорили о том, что Сталин совсем ни при чем в разрухе. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу. Нужно сказать, что популярность Сталина приняла необычную форму. О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова. <...>».
В «Заметках автобиографического характера», записанных в 1928—1929 гг. другом Булгакова, филологом П.С. Поповым, писатель доверительно сообщал: «Первый рассказ написал лет семи: «Похождения Светлана». Начинался рассказ так: «Внизу большое поле...», потому что всадник мог видеть поле перед собой. До 5-го класса гимназии не писал, наступил перерыв. Затем стал писать юморески. В революционные годы писал фельетоны. Наиболее выдающийся — «День главного врача», где описывается военная обстановка. <...> Свой роман («Белая гвардия». — Б.М.) считаю неудавшимся, хотя выделяю из своих других вещей, так как к замыслу относился очень серьезно. По вопросу предпочтения повествовательной или драматической формы полагаю, что тут нет разницы в смысле выделения одного в противовес другому — обе формы связаны так же, как левая и правая рука пианиста. Потребность слушать музыку для меня очень характерна. Можно сказать, что музыку, хорошую, я обожаю. Способствует творчеству. Очень люблю Вагнера. Предпочитаю симфонический оркестр с трубами... <...> Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе».
10
Рубеж 1929 — начала 1930-х гг. был насыщен для Булгакова драматическими событиями не только сугубо творческого характера. Назревали новые серьезные перемены в его личной жизни. Л.Е. Белозерская отметила в своих мемуарах: «По мере того как росла популярность М.А. как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых... проявляли уж чересчур большую настойчивость...». Тогда же, 28 февраля 1929 г., как вспоминала Любовь Евгеньевна, у Михаила Афанасьевича произошло знакомство с будущей третьей женой: «...Мы с М.А. поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они в доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная дама — Елена Сергеевна Нюренберг (см.), по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме».
Не менее дружеские чувства к Е.С. Шиловской испытывал на первых порах и Булгаков, но скоро они поняли, что любят друг друга. Елена Сергеевна происходила из интеллигентной рижской семьи Нюренбергов. Отец, адвокат С.М. Нюренберг (см.), — перешедший в православие потомок многодетной еврейской семьи из г. Бердичева, мать — Александра Александровна (в девичестве Горская) (см.) — была дочерью православного священника Псковской губернии. Получив в Риге гимназическое образование и оказавшись с родителями в Москве, она начинает свою службу в РОСТА, затем работает в секретариате газеты «Известия». Первое ее замужество — с офицером Г.М. Нееловым — было кратковременным: осенью 1921 г. она выходит замуж за сослуживца Неелова, командарма Е.А. Шиловского (см.), в браке с которым у нее рождаются двое сыновей, Евгений и Сергей.
Отношения Булгакова с Е.С. Шиловской приобрели новый поворот и во многом изменили жизнь писателя. В 1967 г. Елена Сергеевна вспоминала, почему она хотела познакомиться именно с Булгаковым: «Я интересовалась им давно. С тех пор, как прочитала «Роковые яйца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совершенно особый писатель, хотя литература 20-х годов у нас была очень талантлива. Необычайный взлет был у русской литературы. И среди всех был Булгаков, причем среди этого большого созвездия он стоял как-то в стороне по своей необычности, необычности языка, взгляда, юмора: всего того, что, собственно, определяет писателя. Все это поразило меня...». По утверждению Елены Сергеевны, ни она, ни Михаил Афанасьевич первоначально не хотели идти в гости на масленицу 1929 г. к художникам Моисеенко, но в конце концов оба пошли (Елена Сергеевна — во многом из-за ожидавшегося присутствия Булгакова): «В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь. Я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было бы ни смысла жизни, ни оправдания ее».
Но, по воспоминаниям очевидцев, все это для Е.С. Шиловской происходило далеко не в идиллических обстоятельствах. На парижском издании романа «Белая гвардия» Булгаков сделал многозначительную надпись: «Справка. Крепостное право было уничтожено в ... году. Москва, 5.II.31 г.», а полтора года спустя приписал: «Несчастье случилось 25.II.31 года». М.А. Чимишкиан (супруга драматурга С.А. Ермолинского в 1930-х гг.), друг Булгакова и Л.Е. Белозерской, передавала описание этого памятного дня в квартире на Б. Пироговской улице со слов Любови Евгеньевны: «Тут такое было! Шиловский прибегал, грозил пистолетом...». По словам Марики Артемьевны, Булгаков с Белозерской рассказали ей, что Шиловский каким-то образом узнал о связи драматурга и Елены Сергеевны, причем «Люба тогда против их романа ... ничего не имела — у нее тоже были какие-то свои планы...».
Есть и другая версия этого объяснения, исходящая уже от Елены Сергеевны: «Шиловский потребовал, чтобы Булгаков пришел к нему». Елена Сергеевна не слышала их разговора, муж не позволил ей присутствовать. Пряталась за воротами церкви, неподалеку. Видела, как Булгаков, «понурый и бледный», входил в их дом. Во время разговора Шиловский выхватил пистолет. Как должен был на это ответить Булгаков? Наверное, так, как передает Елена Сергеевна: «Побледнев, сказал тихо и сдержанно: «Не будете же вы стрелять в безоружного?.. Дуэль — пожалуйста!». То ли от этой угрозы, то ли оттого, что Шиловский заявил, что в случае развода он детей не отдаст, Елена Сергеевна и Булгаков расстались на 18 месяцев. Писатель одной из пяти своих жизненных «роковых ошибок» считал «робость и слабость» при выяснении отношений с Шиловским.
Остановимся еще на одном булгаковском биографическом факте рубежа 1930—1931 гг. На факте почти уникальном в жизни писателя. Последние дни декабря 1930 г. Михаил Булгаков провел в работе над совсем обычной для него рукописью: в архиве писателя (Рукописный отдел РЕБ, ф. 562, к. 17, ед. хр. 3) сохранился помеченный 28 декабря набросок с более тридцатью полурифмованными — полуоборванными строчками, изображающими начальную стадию черновой редакции задуманного стихотворения, озаглавленного по латыни «Funeralis» («Похороны»). По мнению исследователей, стихотворение (или попытка его) носит «исповедально-итоговый» характер. А памятуя о негативном отношении Булгакова к стихам (кроме пушкинских), эту рукопись следовало бы назвать совсем необычной — нужны были выходящие из ряда вон причины (даже в богатой «причинами» биографии Булгакова), чтобы он обратился к решительно чуждому и неприемлемому для него жанру, имея в запасе опыт составления детских и сатирических виршей, над которыми сам и посмеивался.
А события декабря 1930 г., о которых сегодня нам известно, не заставляют думать, что у писателя могли быть некие «похоронные» настроения. Действительно, после знаменитого сталинского звонка он был срочно принят в труппу ТРАМа (с которой отдыхал в Крыму) и МХАТа (где активно работал над постановкой «Мертвых душ»), Ленинградский Красный театр заказал ему новую пьесу (будущую пьесу «Адам и Ева»), и, наконец, отношения его с возлюбленной Еленой Сергеевной, его «тайной женой», были тогда как нельзя лучше: буквально завтра, 29—30 декабря, он уезжал для встречи с ней в подмосковный дом отдыха. Почему же загрустил Михаил Афанасьевич? Что за депрессия на него напала? В этом полустихотворном черновом наброске есть такие тревожные строчки: «...Я уткнусь головой белобрысой // В недописанный лист...», «...Почему ты меня не берег? // Почему он меня подстерег?»... Наконец, почти полностью сохранившееся четверостишие, которое чаще всего любят комментировать исследователи: «Почему ты явился непрошенный, // Почему ты [молчал, не] кричал, // Почему твоя лодка брошена // Раньше времени на причал?». Здесь есть над чем подумать: ведь две последние строчки удивительным образом буквально совпадают с четырьмя стихами из второго «лирического» вступления к поэме В.В. Маяковского «Во весь голос» (М.О. Чудакова), а ведь сейчас уже известно, что «фрагменты, которые принято считать подготовительными материалами ко второму («лирическому») вступлению в поэму «Во весь голос», Булгаков никоим образом не мог знать в конце 1930 г., так как они находились в записных книжках погибшего поэта и впервые попали в печать лишь несколько лет спустя» (М.С. Петровский).
Итак, литературная загадка? А между тем, приведенные стихотворные строчки Булгакова действительно перекликаются со строчками Маяковского — с его предсмертным письмом, опубликованным во всех газетах на следующий день после самоубийства — 15 апреля 1930 г.: «Как говорят — «инцидент исперчен», // Любовная лодка разбилась о быт. // Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень // Взаимных болей, бед и обид». Вот поэтому можно с достаточной степенью вероятности предположить, что «расчет с жизнью» и составляет смысл столь неожиданных у Булгакова «исповедально-итоговых» стихов. В его возможно неожиданной декабрьской рефлексии и депрессии могли совпасть воспоминания о смерти и похоронах поэта, в которых участвовал и писатель, о произошедшем на следующий день разговоре со Сталиным, его нимало не удовлетворившем; и еще — вероятное место, где могли быть написаны такие печальные строки: в домике (Мансуровский пер., 9), снимаемом М.А. Чимишкиан (с мужем С.А. Ермолинским), в которую Маяковский был некогда влюблен... Сейчас об этом вряд ли узнаем. Но то, что это — «Маяковский» смысл, подтверждается, кажется, еще несколькими аналогичными рефлексиями в тех же стихах: такими, например, как метафорический ряд «дальних созвездий», в которых «загорится еще одна свеча». Нужно, видимо, приглядеться к строчкам «И ударит [мне] газом // В позолоченный рот...»; газы здесь у Булгакова пороховые: речь идет о самоубийстве, а «позолоченный рот» — портретная черта Маяковского, носившего золотые зубные коронки...
Трагически-высокий и сниженно-бытовой стили смешались в этом булгаковском черновом наброске. В реконструированном виде стихотворение «Похороны» можно представлять в разных версиях, одна из которых предлагается вниманию читателя:
Надо честно сознаться
(Да поможет всевышний Господь),
Вспомнить вновь постараться
Брата — юнкера, кровь и плоть.
Почему ты явился повитый?
Почему так раздроблен твой рот?
Ты в бою неубитый, убитый
Наповал или пулей в живот?
Вспомню ангелов, жгучую водку,
Газы бьют в позолоченный рот,
И во мне перевернутой лодкой
Он в монашеской рясе плывет.
Почему ты явился непрошеный,
Почему ты молчал, не кричал,
Почему твоя лодка брошена
Раньше времени на причал?
Есть в отместку достойная кара.
Почему ты меня не берег?
Я гоним под Господним ударом,
Почему он меня подстерег?
В тот же миг в нашем подполе крысы
Прекратят свой флейтиный свист...
Я уткнусь головой белобрысой
В недописанный лист.
Вероятно, собака завоет,
Улетит нескончаемый страх,
Наконец-то оставят в покое, —
И меня обнимает монах.
Нет, ни разу поганой ложью
Я не пачкал свои уста.
Но боялся, порою, до дрожи
Тех, чья совесть была не чиста.
В землю мерзлую тело залезет,
Но душа отлетит, горяча...
В белых россыпях дальних созвездий
Загорится моя свеча.
11
На время вынужденного разрыва с Е.С. Шиловской приходится у Булгакова короткая романтическая история, связанная с молодой и интересной дамой, Маргаритой Петровной Смирновой (ур. Архангельская, 14.07.1899—15.02.1990), которая потом, после публикации главного романа писателя, уверенно зачисляла себя в прототипы булгаковской Маргариты, обращая внимание, в частности, на сходство имен, предметов личных вещей, некоторые биографические детали. Действие их романа происходило в районе Мещанских улиц в Москве, вблизи Виндавского (Рижского) вокзала. М.П. Смирновой запомнился внешний вид Булгакова, представшего перед ней в охотничьем или мотоциклетном костюме, в крагах, провожавшего ее домой на Третью Мещанскую (теперь Щепкина) улицу, 43, к небольшому деревянному дому. Мемуаристка видит в своем жилище прототип «арбатского готического особняка» Маргариты (этот домик не сохранился, но солидный дом рядом — № 47 — со стрельчатой, под готику, угловой башенкой цел до сих пор), а муж героини этого кратковременного увлечения писателя, как и в «Мастере и Маргарите», был высокопоставленным инженером: Алексей Николаевич Смирнов (27.03.1895—15.02.1978) занимал посты комиссара-инспектора железных дорог РСФСР (в 1920-х гг.) и помощника начальника Коммунального отдела Северной железной дороги (в 1930-х гг.).
Маргарита Петровна выросла в учительской интеллигентной семье. Отец, Петр Иванович (1861—1931), преподавал литературу и русскую словесность в Духовной семинарии, позже был священником. Мать, Анна Дмитриевна (ур. Введенская, 1863—1927) получила гимназическое образование. Маргарита была последним, седьмым ребенком в семье; после гимназии служила в системе НКПС, преподавала; она свободно читала на французском языке, хорошо рисовала. Ее двое детей: педагог Наталья Алексеевна (в замуж. Гринчар, р. 20.09.23) и врач Владимир Алексеевич (р. 19.02.26) — живут в Москве. Супруги Смирновы разошлись в 1957 г. Оба похоронены на Новодевичьем кладбище. Н.А. Гринчар сохранила заинтересовавшую Булгакова мамину сумочку с вышитой желтой буквой «М».
М.П. Смирнова не ошибалась, описывая Булгакова в спортивном костюме: в то время он увлекался мотоциклом, предоставленном ему одним из видных деятелей МХАТа. Л.Е. Белозерская увлекалась конной ездой и автомобилем. Интересы супругов были разнообразны, и Любовь Евгеньевна, очевидно, до последнего момента не рассматривала связь мужа с Е.С. Шиловской серьезно, отнеся ее к ряду тех многочисленных мимолетных увлечений, каким было, в частности, увлечение М.П. Смирновой. Но с Еленой Сергеевной получилось иначе. Сама она рассказывала о дальнейшем так: «...Все-таки это была судьба. Потому что, когда я в первый раз (после возвращения домой из Лебедяни в середине августа 1932 г. — Б.М.) вышла на улицу, то встретила его; и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что». На последнем листе парижского издания «Белой гвардии» Булгаков записал: «А решили пожениться в начале сентября 1932 года. 6.IX.1932 г.». Теперь Шиловский поступил действительно как благородный человек и дворянин. Сохранился отрывок письма к нему от Булгакова, датированный тоже 6 сентября 1932 г.: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. И мы хотим пожениться...».
Трудное для себя решение преподаватель Военно-воздушной академии Е.А. Шиловский принял несколько раньше. За три дня до письма к нему Булгакова, 3 сентября 1932 г., он писал в Ригу родителям покидающей его жены: «Когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой...». Такое решение созрело, видимо, уже в середине лета этого же года. Цитируя рассказ Е.С. Шиловской, современный исследователь пишет: «Летом Елена Сергеевна уехала с детьми в Лебедянь, отдыхать. И оттуда после мучительных раздумий, написала мужу: «Отпусти меня!..». Молила Бога об ответе — и откуда-то сверху упал конверт: бросил в форточку почтальон... Пошла искать место, где бы прочесть без детей: Шиловский отпускал меня. Он писал: «Я относился к тебе как к ребенку, был не прав... Можно мне приехать?». Приехал, жил несколько дней. Вдруг — стал умолять, чтобы осталась в доме. Я, дура, согласилась... Вернулась в Москву в конце лета. Миша сказал мне, когда узнал, что я собираюсь остаться в доме: «Ты что, с ума сошла?». Я написала Шиловскому в Сочи. М.А. приписал: «Дорогой Евгений Александрович, пройдите мимо нашего счастья...». Шиловский прислал ответ — мне. Была приписка: «Михаил Афанасьевич, то, что я делаю, я делаю не для Вас, а для Елены Сергеевны». Миша побледнел. Всю жизнь это горело на лице как пощечина...».
3 октября 1932 г. Шиловские были разведены, а 4 октября зарегистрирован брак между Еленой Сергеевной и Булгаковым. Сохранилась шутливая записка Михаила Афанасьевича, переданная вдень бракосочетания на заседании в Художественном театре режиссеру В.Г. Сахновскому: «Секретно. Срочно. В 3¾ дня я венчаюсь в Загсе. Отпустите меня через 10 минут». Так они стали законными мужем и женой. Дети с прежним мужем были «поделены». Старший, Женя, хотя и боготворил мать, но вынужден был остаться с отцом, воспитываясь вскоре уже и мачехой, новой женой Е.А. Шиловского, М.А. Толстой-Дымшиц. Младший, пятилетний Сережа, переселился с матерью к Булгакову (на Б. Пироговскую ул., 35а). Михаил Афанасьевич полюбил его как родного, тот отвечал взаимностью, называя своего отчима Потапом. Сам Евгений Александрович в глубине души Булгакова не простил, с ним практически не встречался, но бывшей жене и сыну старался посильно помогать. Летом 1932 г. Булгаков вступил в писательский кооператив, надстраивающий дом в Нащокинском переулке (ул. Фурманова, 3—5); в новую квартиру (№ 44) семья въехала 18 февраля 1934 г. Временно же они жили на Б. Пироговской, причем Л.Е. Белозерской купили однокомнатную квартиру в этом же доме. Отношения с бывшей женой были выяснены в том же октябре. Булгаковское письмо помечено Л.Е. Белозерской как «Последняя записка в общем доме». Этот разговор Любовь Евгеньевна впоследствии вспоминала: «Мы поговорили. Боже мой! Какой же был разговор. Бедный мальчик... Но я все поняла. Слезы лились между его пальцев (лицо загородил руками)...». Нелегко далось Булгакову прощание со второй женой; видно, как и с Т.Н. Лаппа, он чувствовал свою вину, как мог помогал Л.Е. Белозерской материально.
Разрыв с Белозерской не привел, как раньше, к большим переменам в жизни Булгакова: и Б. Пироговская улица, и Нащокинский переулок также относились к «влиянию» Пречистенки, были, так сказать, в «пречистенском регионе». Сестры в Москве и братья в Париже встретили с пониманием изменения в судьбе брата. Не было больших перемен в друзьях и знакомых в круге общения Булгакова. И с Любовью Евгеньевной, и с Михаилом Афанасьевичем сохранили отношения и дружили с Еленой Сергеевной Павел Сергеевич Попов и его жена Анна Ильинична — внучка Л.Н. Толстого, Н.Н. Лямин и Н.А. Ушакова, С.А. Ермолинский и М.А. Чимишкиан, многие другие. Елена Сергеевна так вспоминала о самых близких людях, многие из которых приятельствовали и с Белозерской: «У нас был небольшой круг друзей, были художники — Дмитриев Владимир Владимирович, Вильямс Петр Владимирович, Эрдман Борис Робертович (брат драматурга. — Б.М.). Это был дирижер Большого театра Мелик-Пашаев, это был Яков Леонтьевич Леонтьев, директор Большого театра. Все они с семьями, конечно, с женами. И моя сестра Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь Художественного театра, со своим мужем Калужским, несколько артистов Художественного театра: Конский, Яншин, Раевский, Пилявская. Это был небольшой кружок для такого человека, как Михаил Афанасьевич, но они у нас собирались почти каждый день...».
Именно в таких сложных личных обстоятельствах — и драматических, и радостных — Булгаков приступил к осуществлению своего главного произведения — будущего романа «Мастер и Маргарита». На различных рукописях Булгаков по-разному датировал начало работы над ним — то 1928-м, то 1929 годом. Скорее всего, в 1928 г. роман был только задуман, а в 1929-м началась работа над текстом первой редакции. 8 мая 1929 г. писатель сдал в издательство «Недра» главу «Мания фурибунда» из романа «Копыто инженера» (под псевдонимом К. Тугай). В переводе с медицинской латыни название главы означало «мания ярости», и она примерно соответствовала по содержанию главе в окончательной редакции «Дело было в Грибоедове» (сохранился лишь только первый лист черновика). Этой публикацией Булгаков рассчитывал хоть немного поправить свое материальное положение, но глава в «Недрах» так и не появилась.
В марте 1930 г. первая редакция будущего «Мастера и Маргариты» (вместе с «черновиком романа о театре» и «черновиком комедии») была Булгаковым уничтожена (сохранена лишь часть черновиков). По свидетельству Л.Е. Белозерской, рукопись уже существовала в виде машинописи, хотя Любовь Евгеньевна не могла точно сказать, был ли роман в этой редакции фабульно завершен или нет. Образ типа будущей Маргариты в романе, как ей помнилось, присутствовал уже тогда, причем Любовь Евгеньевна утверждала, что это она «подсказала» героиню, чтобы уравновесить преобладание мужских персонажей (в сохранившихся фрагментах этой «Маргариты» нет). Представляется все же, что мемуаристка несколько ошибается. Ранний вариант романа не предполагал в виде главных героев ни мастера, ни Маргариту, появившихся в более поздних редакциях в середине 1930-х гг. Главная же побудительная причина создания таких героев была сугубо биографическая — третья женитьба писателя. Ведь именно в Елене Сергеевне Булгаков наконец обрел возлюбленную, для которой в жизни главным было его творчество (вероятно, двум первым женам этого качества не хватало, что и способствовало разрыву). И именно она явилась главным прототипом героини «Мастера и Маргариты», именно ей посвящен в романе гимн истинной любви: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!.. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!».
Не способствовали укреплению семьи Булгакова и Белозерской занятия, которыми неожиданно увлеклась Любовь Евгеньевна. Она поступила в автошколу, стала рьяной любительницей конного спорта, занималась в манеже на Поварской улице. Дом порой заполняли мужчины в промасленных куртках, жокеи с ипподрома, шло обсуждение скачек... Елена Сергеевна Шиловская, бывавшая в их доме, впоследствии вспоминала: «Однажды он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила беспечно: — Ничего, ты не Достоевский! — Быть может, это был самый тяжелый камень, брошенный в него. Он побледнел, когда рассказывал об этом. Он никогда не мог простить этого Любе...» (Приведем в скобках характерную запись в дневнике булгаковского знакомца по Владикавказу писателя Ю.Л. Слезкина — он выведен в некоем Плаксине в повести «Тайному другу», узнаваем в «пожилом литераторе» Ликоспастове в «Записках покойника», в «беллетристе Бескудникове» в «Мастере и Маргарите», — считавшего в начале 1930-х годов Булгакова «хитрым мещанином, выстраивающим карьеру «по женской линии»: «<...> Все три жены Булгакова являются как бы вехами трех периодов его жизни и вполне им соответствуют. Скромная и печальная Татьяна была хороша только для поры скитаний, неустройства и неизвестности. <...> Она могла быть лишь незаметной, бессловесной и выносливой нянькой и очень неказиста была бы в блестящем театральном окружении... Любочка — прошла сквозь огонь, воду и медные трубы — она умна, изворотлива, умеет себя подать и устраивать карьеру своему мужу. <...> Сожительство их продолжалось до нового разрешения пьесы «Дни Турбиных»и принятия к постановке «Мольера». <...> К славе снова притекли деньги — чтобы стать своим человеком во МХАТе, нужно было с ним связать не только свою творческую, но и личную судьбу — так назрел третий брак. <...>». — Б.М.).
С Е.С. Шиловской все обстояло по-иному; в письме (13.II.1961) к брату, А.С. Нюренбергу, в Гамбург, в преддверии 32-й годовщины знакомства с Булгаковым Елена Сергеевна так описала их первую встречу: «Сидели мы рядом, у меня развязались какие-то завязочки на рукаве <...>, я сказала, чтобы он завязал. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь». Здесь она же процитировала надпись, сделанную в день ее именин Булгаковым в 1933 г. на сборнике «Дьяволиада»: «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М. 21 мая» (В том же году Булгаков сделал надпись своей жене на другой книге — «Белой гвардии», вышедшей в Риме в 1930 г. в переводе на итальянский: «3.XI.1933. Москва. Люсе. Дорогой друг! Я не могу, к сожалению, подарить тебе колечко с бриллиантом. Дарю тебе эту книжку, не забудь про то, что в ней parteterza — поддельный, не мною сочиненный конец. Но мы с тобой, если так же, как теперь, будем любить друг друга, переживем все дрянные концы, и победим, и взлетим. М.»).
И Елена Сергеевна, и Михаил Афанасьевич, очевидно, верили в судьбу, верили, что именно ее воля соединила их навек. И с момента брака с Е.С. Шиловской более женщин в жизни Булгакова биографами не замечено. Елена Сергеевна стала единственной, любимой, бывшей с ним до конца. С 1 сентября 1933 г. Елена Сергеевна по просьбе мужа начинает вести дневник, который является одним из наиболее важных источников биографии Булгакова (сам он, после конфискации ОГПУ в 1926 г. дневника «Под пятой», дневниковых записей из соображений безопасности больше не вел, да и к собственному дневнику, не предназначавшемуся к публикации, сильно охладел еще за несколько месяцев до его изъятия органами). В письме к родителям 11 сентября 1932 г. она утверждала: «...Полтора года разлуки мне доказали ясно, что только с ним жизнь моя получит смысл и окраску. Михаил Афанасьевич, который прочел это письмо, требует, чтобы я приписала непременно: ...тем более что выяснилось, с совершенной непреложностью, что он меня совершенно безумно любит». 14 марта 1933 г. Булгаков передал жене доверенность на заключение договоров с издательствами и театрами по поводу своих произведений, а также права на получение авторских гонораров, сохраненные ею и после смерти мужа как единственной наследницей писателя и владелицей его творческого архива. Елена Сергеевна печатала под диктовку почти все произведения Булгакова 1930-х гг.
12
С начала 1930-х гг. писатель и драматург оказался буквально завален работой. Сталинский звонок, о котором говорила вся литературная и театральная Москва, а главное — конкретные действия властей предержащих в отношении Булгакова возымели свой положительный результат. С апреля 1930 г. он работает в Театре рабочей молодежи (ТРАМе) консультантом, с 10 мая — во МХАТе режиссером-ассистентом. В ТРАМе приходилось рецензировать потоком поступавшие туда пьесы молодых авторов, радости не доставлявшие, и почти через год (15.III.31) Булгаков оттуда уходит. Во МХАТе же новый режиссер сразу был назначен в планировавшуюся постановку гоголевских «Мертвых душ», и ему заново пришлось писать текст инсценировки (премьера состоялась 28 ноября 1932 г.). Были и другие работы, и не всегда с удачным финалом. Булгаков сотрудничает с Московским передвижным санитарно-просветительным театром Института санитарной культуры, пишет инсценировку «Войны и мира» (по роману Л.Н. Толстого) для Большого драматического театра в Ленинграде и для Ленинградского Красного театра фантастическую пьесу о будущей войне — «Адам и Ева». Последней пьесой заинтересовался и Московский театр им. Евг. Вахтангова: осенью 1931 г. драматург читает ее в театре. Присутствовавший на чтении глава Военно-воздушных сил Красной армии Я.И. Алкснис заявил, что пьесу нельзя ставить, так как по ходу действия гибнет Ленинград. Театры отказались от постановки «Адама и Евы».
В это же время судьба порой и улыбалась драматургу: было принято правительственное решение о возобновлении во МХАТе спектакля «Дни Турбиных». Заведующий конторой и главный администратор театра Ф.Н. Михальский (знаменитый Филипп Филиппович Тулумбасов из «Театрального романа») вспоминал: «...Ясно хранится в памяти день, когда в доме К.С. Станиславского раздался телефонный звонок члена комиссии по руководству Большим и Художественным театрами А.С. Енукидзе, задавшего вопрос: «Сможет ли театр примерно в течение месяца возобновить «Турбиных»?. — «Да, да. Конечно!». Созваны дирекция, режиссерская коллегия, постановочная часть, и тотчас же все принялись за работу по восстановлению спектакля. Я немедленно позвонил Михаилу Афанасьевичу домой. И в ответ после секунды молчания слышу упавший, потрясенный голос: «Федор Николаевич, не можете ли вы сейчас приехать ко мне?» Я помчался на Пироговскую <...>, вхожу в первую комнату. На диване полулежит Михаил Афанасьевич. Ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте!». Я несколько раз повторяю рассказ и о звонке А.С. Енукидзе, и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. Ведь что-то надо делать. «Едем! Едем!». И мы отправляемся в Союз писателей, в Управление авторских прав и, наконец, в Художественный театр. Здесь его встречают поздравлениями, дружескими объятиями и радостными словами. И с этого мгновения «Турбины» надолго остаются в репертуаре театра, включаются в гастрольные поездки в Ленинград и Киев, куда неоднократно Михаил Афанасьевич ездил с нами. <...>».
Сам же Булгаков так делился впечатлениями от произошедшего в письме к П.С. Попову в конце января 1932 г.: «<...> 15-го января днем мне позвонили из театра и сообщили, что «Дни Турбиных» срочно возобновляются. Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце! <...> Что же это такое? Полагаю — волшебное происшествие. Далее — театр. Павел Сергеевич, мою пьесу встретили хорошо, во всех цехах, и смягчилась душа моя! А далее плеснуло в город. Мать честная, что же это было? Жители города решили сами объяснить, что это значит, видя, что ни автор пьесы, ни кто другой не желает или не может этого объяснить. И они наобъясняли, Павел Сергеевич, такого, что свет померк в глазах. Кончилось тем, что ко мне ночью вбежал хорошо знакомый человек с острым носом, с больными сумасшедшими глазами. Воскликнул: «Что это значит?!» — «А это значит, — ответил я, — что горожане и, преимущественно, литераторы играют IX-ую главу твоего романа, который я в твою честь, о великий учитель, инсценировал (то есть поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души». — Б.М.). Ты же сам сказал: «...в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях... вызначилась порода маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни». Укрой меня своей чугунной шинелью!» И он укрыл меня, и слышал я уже глуше, как шел театральный дождь <...>. Я знаю: в половину января 1932 года, в силу причин, которые мне не известны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХАТ замечательное распоряжение — пьесу «Дни Турбиных» возобновить. Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни <...>».
Увы, возобновление «Дней Турбиных» во МХАТе было лишь счастливым исключением из наметившейся неблагоприятной тенденции. Но работа драматурга продолжалась: в июле—ноябре 1932 г. Булгаков сочиняет для Театра-студии Ю.А. Завадского пьесу «Полоумный Журден» по известным комедиям Ж.-Б. Мольера, тогда же по договору с издательством «Жургаз» он пишет биографию этого драматурга для серии «Жизнь замечательных людей», в 1933—1934 гг. работает над новой редакцией пьесы «Бег» для МХАТа, пишет комедию «Блаженство, или Сон инженера Рейна» для Ленинградского мюзик-холла и Московского театра сатиры. Все эти проекты не получили практического завершения: книга была отклонена, пьесы не поставлены.
В процессе создания книги «Жизнь господина де Мольера» Михаил Афанасьевич писал своему брату Николаю, жившему в Париже: «Мне нужно описание памятника Мольеру». Н.А. Булгаков с присущей ему аккуратностью и тщательностью выполнил просьбу писателя: он выслал фотографию памятника великому драматургу, подробный план улиц и зданий вокруг памятника, скопировал надпись на подножии скульптуры. Позднее Е.С. Булгакова, работая над текстом романа при подготовке его к изданию, писала Николаю Афанасьевичу 14 сентября 1961 г.: «Мишина книга начинается и кончается памятником Мольеру, и поэтому мне непременно хочется поместить фото памятника. Я должна сказать, что, действительно, это стоило больших трудов — добиться согласия на издание. Ведь я бьюсь над этим двадцать один год. Бывало, что совсем-совсем, казалось, добились. И опять все летело вниз, как сизифов камень. В этом — моя жизнь. Мне выпало на долю — невероятное, непонятное счастье — встретить Мишу. Гениального, потрясающего писателя, изумительного человека. Не думайте, что это я пишу, потому что я — жена его, человек, обожающий его. Нет — все (и очень большие, и очень разнообразные люди), все, кто смог познакомиться полностью с его творчеством (я не всем даю такую возможность), — все употребляют именно это выражение — гениальный. Мне попала в руки совершенно случайно рецензия в Союзе писателей о Мише, и там под его именем стояли год рождения, год смерти и слова, начинающие текст: «Великий драматург...» (видимо, один из проектов афиш вечера 70-летия со дня рождения М.А. Булгакова. — Б.М.). И ведь они не знают (только слышат) — какая у него проза. Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя...».
Осенью 1933 г. редакция «Литературного наследства» распространила среди писателей анкету с вопросами о значении творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ответы писателей редакция предполагала опубликовать. Булгаков обычно к подобного рода официальным опросам относился отрицательно. Но тут речь шла о писателе, которого он считал своим учителем: «...Влияние на меня Салтыков оказал чрезвычайное, и, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Сочиняя для собственного развлечения обличительные фельетоны, я подражал приемам Салтыкова, причем немедленно добился результатов: мне не единожды пришлось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны. <...> Я уверен в том, что всякие искусственные попытки создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Она создается сама собой, внезапно. Она создается тогда, когда появится писатель, который сочтет несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художественному обличению ее. Полагаю, что путь такого художника будет весьма и весьма труден». Таким писателем Булгаков видел в первую очередь себя: еще в марте 1930 г. он заявил в своем письме «Правительству СССР», что «стал сатириком нашей эпохи». (Булгаковские ответы на анкету о Салтыкове-Щедрине были опубликованы лишь в 1976 г.)
Несмотря на временные неудачи, Булгаков не прекращает работу над романом «Мастер и Маргарита», личные обстоятельства жизни только благоприятствуют творческому процессу. В конце 1933 г. он на практике использует и свои актерские данные: профессия актера еще с юношеских дачных спектаклей привлекала писателя и драматурга — Михаил Афанасьевич был подлинным человеком театра. 3 и 14 ноября состоялись генеральные репетиции спектакля «Записки Пиквикского клуба» по инсценировке Н.А. Венкстерн романа Ч. Диккенса. При этом не обошлось без действительного участия Булгакова — и в написании этой инсценировки, и на самой мхатовской сцене в роли Президента суда. О первой репетиции запись в дневнике Елены Сергеевны: «Сегодня я была на генеральной «Пиквика». <...> Публика принимала реплики М.А. (он судью играет) смехом. Качалов, Кторов, Попова (известные артисты МХАТа. — Б.М.) и другие мне говорили, что он играет как профессиональный актер. Костюм — красная мантия, белый завитой длинный парик. В антракте после он мне рассказал, что ужасно переволновался — упала табуретка, которую он смахнул, усаживаясь, своей мантией. Ему пришлось начать сцену, вися на локтях на кафедре. А потом ему помогли — подняли табуретку». О следующей репетиции оставил свои впечатления тогдашний завлитчастью МХАТа В.Я. Виленкин. Об актерском дебюте Булгакова он рассказывает так: «...К.С. Станиславский принимал первую самостоятельную режиссерскую работу В.Я. Станицына. <...> Началась сцена «В суде». «Президент» суда, в тяжелом седом парике, с багровым толстым носом и злющими глазками, расставив локти, приступил к допросу. Президент этот, как известно, почему-то яростно ненавидит всех животных и поэтому не выносит никаких метафор или сравнений из животного мира, а тут ими, как на грех, так и прыщет адвокатское красноречие. Знаменитая реплика: «Да бросьте вы зверей или я лишу вас слова!» — прозвучала с такой неподдельной яростью, что захохотал весь зал, а громче всех Станиславский. «Кто это?» — быстро прошептал он Станицыну, не узнавая актера. — «Булгаков». — «Какой Булгаков?» — «Да наш, наш Булгаков, писатель, автор «Турбиных». — «Не может быть». — «Да Булгаков же, Константин Сергеевич, ей-Богу!» — «Но ведь он же талантливый...». И опять захохотал на что-то, громко и заразительно, как умел хохотать на спектакле только Станиславский. <...>». В дальнейшем, в 1934—1935 гг., Булгаков играл в театре эту роль регулярно, а также принимал участие в радиоспектакле «Пиквикский клуб» во главе бригады коллег-актеров. Опубликованы воспоминания гримера МХАТа в 1931—1936 гг. В.Г. Павлова, который рассказывал, как он гримировал Булгакова-артиста для этой роли, как Булгаков участвовал в массовых сценах спектаклей «Дни Турбиных» и «Реклама».
Весна и лето 1935 г. у супругов Булгаковых прошли отчасти, так сказать, под «американским флагом». После восстановления дипломатических отношений между СССР и США (при президенте Ф.Д. Рузвельте) первый американский посол Уильям К. Буллит, весьма примечательная и экстравагантная личность, начал политику активного сближения с творческой (и не только) московской элитой. 23 апреля 1935 г. в резиденции посла «Спасо-хаусе» вблизи Арбата был дан бал, на который были приглашены М.А. и Е.С. Булгаковы. В приглашении, полученном еще 29 марта, была приписка внизу золотообрезного картона: «Фрак или черный пиджак», что, по воспоминаниям близких, немного смутило Михаила Афанасьевича. Тем не менее новый черный костюм был пошит, и Булгаковы отправились... Впечатления от этого ночного бала Елена Сергеевна описала в дневнике: «...М.А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к двенадцати часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков». Советники посла и сотрудники посольства встречали гостей: «Боолен и Файмонвилл спустились к нам в вестибюль, чтобы помочь. Буллит поручил м-с Уайли нас занимать. В зале с колоннами танцуют, с хор — прожектора разноцветные. За сеткой оркестр, выписанный из Стокгольма. М.А. пленился больше всего фраком дирижера — до пят. Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углах столовой — выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата. По стенкам — клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники и петухи запели. Стиль рюсс. Масса тюльпанов, роз из Голландии. В верхнем этаже — шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу всюду шампанское, сигареты. Хотели уехать часа в три, американцы не пустили — и секретари, и Файмонвилл (атташе), и Уорд, все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский кадиллак и поехали домой. Привезла домой громадный букет тюльпанов от Боолена. <...>».
Несколько позже — в апреле и мае — встречи продолжились. Булгаковы бывали в посольстве, на квартирах дипломатов, принимали американцев у себя.
Они вели себя так, будто были знакомы с дипломатами уже давно, и отчасти это было действительно так. В декабре 1933 г. Е.С. Булгакова отмечает в дневнике официальное сообщение о прибытии в Москву «нового американского посла». Что-то заинтересовало Булгаковых. Проще всего представить, что это были заботы об авторском праве на постановку «Дней Турбиных» в Америке, о чем время от времени велись переговоры. И, действительно, Буллит сразу посетил спектакль «Дни Турбиных», через некоторое время запросил через ВОКС рукопись пьесы и держал ее на своем рабочем столе. В марте 1934 г. «Дни Турбиных» были поставлены в Йейле, родном университете У. Буллита.
Булгаков и Буллит познакомились в сентябре 1934 г. во МХАТе на очередном спектакле «Дни Турбиных». Подойдя к драматургу, Буллит сказал, что «смотрит пьесу в пятый раз», всячески хвалил ее. Он смотрит, имея в руках английский экземпляр пьесы, говорит, что «первые спектакли часто смотрел в него». Посол многократно и охотно демонстрировал свою дружбу с писателем, знакомил Булгакова с европейскими послами, хвалил его пьесы. Однажды после очередного дружеского вечера Буллит написал Рузвельту: «Я, конечно, не могу ничего сделать для того, чтобы спасти хоть одного из них». А помощь была нужна. Все это время Булгаковы пытались подать документы на выезд. 11 апреля 1935 г., еще до посольского бала «Фестиваль весны», Булгаковы принимают у себя двух секретарей американского посольства — Ч. Боолена и Ч. Тейера. «М.А. сказал, что подает прошение о заграничных паспортах. Американцы нашли, что это очень хорошо, что ехать надо», — записывала Елена Сергеевна. В июне 1935 г. документы были приняты инстанциями; в августе Елена Сергеевна записывает о получении очередного отказа. 16 октября Булгаков один едет на дачу к Тейеру. 18 октября Булгаковы на обеде у посла: «Буллит подошел, и долго разговаривали сначала о «Турбиных», которые ему страшно нравятся, а потом — «Когда пойдет «Мольер»?» (Здесь и далее до конца абзаца приведены дневниковые записи Е.С. Булгаковой). «Мольер» пошел только в феврале 1936 г., и на генеральной репетиции был Тейер с коллегами: «Американцы восхищались и очень благодарили». 21 февраля Буллит был на просмотре «Мольера»: «За чаем в антракте Буллит необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М.А, вообще, называл его мастером» (понятно, какое значение имело это слово для Булгакова).
Петербургский психолог и литературовед А.М. Эткинд, исследователь темы «Булгаков и Буллит», так комментирует многочисленные встречи писателя с американским послом и его сотрудниками: «О чем он беседовал там? Чего-то Елена Сергеевна могла не знать, что-то она и знала, но предпочла не писать об этом. Во всяком случае, планы отъезда писателя с женой наверняка обсуждались, эти намерения поддерживались, и трудно себе представить, чтобы Булгаков не связывал теперь с ними и, прежде всего, с самим послом, своих главных надежд. Уильям Буллит, пациент, соавтор и спаситель З. Фрейда, дипломатический партнер Ленина и Сталина, сотрудник Рузвельта и покровитель Булгакова, заслуживает того, чтобы о нем писались романы. Но, может быть, роман о нем — и великий роман — уже написан?» — спрашивает исследователь. И сам же отвечает, что «это роман «Мастер и Маргарита», где Воланд наделен чертами У. Буллита». Но есть и отличия: «Голос Буллита, любителя роскоши, музыки и Гете, задававшего на Арбате балы, производившие на непривычных москвичей впечатление сатанинских, мы слышим в уговорах Воланда в романе. Не то ли самое говорил он другому «трижды романтическому» человеку — Фрейду, который сам себя называл «старым Мастером» и тоже колебался уезжать из бойни, говоря, что народ, породивший Гете, не способен причинять зло, и которого Буллит, в конце концов, подобно Воланду, сумел-таки вытащить «в тишину и покой». Но Буллит оказался бессилен сделать для Булгакова то, что он в аналогичной ситуации сумел сделать для Фрейда — помочь эмигрировать, и после отъезда Буллита Булгаков в посольстве не бывал». «Американские дни» закончились...
13
Вернемся немного назад в нашем рассказе. В начале и середине 1930-х гг., без сомнения, главной для Булгакова стала пьеса о Мольере — «Кабала святош». Начатая еще в октябре 1929 г. (в декабре закончена ее первая рукописная редакция), то разрешаемая Главреперткомом (3.X.31), то запрещаемая, она готовилась к постановке сразу в двух театрах. Название «Кабала святош» цензуре не понравилось, и было снято, видимо, чтобы не порождать ненужных аллюзий. 12 октября 1931 г. Булгаков заключил договор о постановке пьесы с Ленинградским БДТ, а 15 октября — с МХАТом. Однако выход «Мольера» в Ленинграде сорвал рядом критических статей в местной прессе драматург Всеволод Вишневский, видевший в Булгакове не только идейного противника, но и опасного конкурента. Во МХАТе судьба пьесы тоже сложилась не очень благополучно. Репетиции затянулись на пять лет, превратившись для актеров и режиссеров (Н. Горчаков и сам Булгаков) в изнурительный марафон.
В середине сентября 1933 г. Булгаков писал брату Николаю в Париж: «...вопрос о «Мольере» затягивается». Причины задержки с постановкой «Мольера» были, как говорили, «чисто внутренне театральными». С самого начала постановочная работа не ладилась, поскольку все усилия руководства МХАТа были направлены на выпуск «Мертвых душ». В этом спектакле были заняты ведущие актеры театра, в том числе и великолепный И.М. Москвин, назначенный на роль Мольера. С Москвиным были связаны надежды на успех. Но тут произошло непредвиденное: Москвин отказался от роли. Несколько десятков лет спустя Е.С. Булгакова так опишет это событие: «Играть Мольера должен был Москвин. Но в это самое время он расходился со своей старой женой и у него был пылкий роман с А.К. Тарасовой; он пришел к нам и сказал: не могу репетировать, мне кажется, что про себя все рассказываю. У меня с Любовью Васильевной (женой И.М. Москвина. — Б.М.) дома такие же разговоры, все повторяется, мне трудно. Вся Москва будет слушать как будто про меня... Это погубило спектакль: Станицын, которому передали роль, очень хороший эпизодический артист, но нести на себе весь спектакль не может, и в пьесе все перекосилось...». Конечно, «погубило спектакль», главным образом, не это, вернее, не только это. По разным причинам отказались от ролей в спектакле и некоторые другие ведущие актеры, в том числе и Н.П. Хмелев, сменился художник, на судьбы участников спектакля как бы проецировались образы и сюжеты булгаковской пьесы. Н.М. Горчаков, в 1933 г. руководивший репетициями «Мольера» в качестве режиссера, внезапно узнает, что у его жены А.И. Степановой (она исполняла роль Арманды) вспыхнули романтические отношения с драматургом Н.Р. Эрдманом. Все эти люди были вхожи в дом Булгаковых. Сам К.С. Станиславский никак не мог приступить к непосредственному руководству постановкой «Мольера», а весной 1933 г. он тяжело заболел и уехал лечиться за границу.
В конце лета 1934 г. Станиславский вернулся в Москву, а с весны следующего года приступил к репетициям «Мольера». Но работа не заладилась. Е.С. Булгакова записывала в своем дневнике 1935 г.: «12 апреля. Вчера в театре на «Мертвых душах» мне передали протокол репетиции «Мольера», на которой М.А. не присутствовал. Из него видно, что К.С. (Станиславский. — Б.М.) всю пьесу собирается ломать и сочинять наново. М.А. тут же продиктовал мне письма Станиславскому и Горчакову с категорическим отказом от переделок и просьбой вернуть пьесу, если она не подходит театру в этом виде: «...я вынужден отказаться от переделки моей пьесы «Мольер», так как намеченные в протоколе изменения по сцене Кабалы <...> нарушают мой художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с нею не согласен». Споры между Станиславским и Булгаковым в ходе репетиций пьесы «Мольер» достигли большого накала, поскольку Станиславский предлагал драматургу написать совершенно иную пьесу. Каждый из них отстаивал свое видение Мольера. Отношения стали ухудшаться. Резкое письмо Булгакова в конечном счете привело к полному разрыву. Для режиссера оно было неожиданным и даже непонятным. Он полагал, что Булгаков капризничает, не может преодолеть авторского самолюбия. Но Станиславский, как психолог театра, в данном случае не учел в сложившейся ситуации именно психологического состояния писателя. С одной стороны, Булгаков был в то время по-прежнему в опале, подтверждением чему были почти пятилетние бесплодные репетиции «Мольера», а с другой стороны, к нему, как к одному из крупнейших и ведущих драматургов страны, стремительно нарастало внимание, лестные предложения театров уже не были редкостью, а дипломатический корпус ряда влиятельных стран постоянно выражал ему свое восхищение и признание. В то же время физические силы писателя истощались, многолетняя изнуряющая работа не имела логического завершения. Булгакову был необходим — как воздух! — положительный результат, а его-то как раз и не было. Станиславский не уловил этого особого состояния писателя. И Булгаков решил вовсе не ходить на репетиции, потеряв к ним всякий интерес. Между тем Станиславский не стал добиваться изменений в тексте, но решил актерскими и режиссерскими средствами доказать свою правоту.
При этом не исключено, что многоопытный режиссер сознавал уязвимость пьесы с точки зрения ее «автобиографичности», о чем говорил ему и М. Горький (в 1931 г.), и многие участники спектакля. Возможно, Станиславский стремился уберечь автора и театр от очередного погрома. Но трагичность ситуации заключалась в том, что самому Булгакову была не нужна приглаженная пьеса, отличающаяся от его первоначального замысла. А вскоре возникли новые противоречия, в которые были втянуты уже и актеры. Спектакль стал разваливаться. Нашлись «доброжелатели», которые стали спекулировать на трениях между драматургом и постановщиком. Булгаков в это время практически отошел от Художественного театра. За спиной Станиславского плелись интриги, но режиссер продолжал упорно, не отходя от авторского текста, репетировать пьесу. В то же время уже было принято решение о его замене другим корифеем театра — Вл.И. Немировичем-Данченко. Булгаков воспринял известие сдержанно, но с удовлетворением. Елена Сергеевна отметила этот факт победным восклицанием. Станиславский же, по свидетельствам очевидцев, в одной из бесед заметил с горькой иронией, что после отстранения от «Мольера» он стал «безработным в театре». И, как показали дальнейшие события, Булгаков в результате разрыва со Станиславским лишился последней реальной поддержки в борьбе с «черной Кабалой».
После первой генеральной («черновой, без начальства») и успешной репетиции спектакля «Мольер» Е.С. Булгакова записала в своем дневнике (7 февраля 1936 г.): «...М.А. окончательно решил писать пьесу о Сталине». Причину такого, в конечном счете судьбоносного для Булгакова, решения можно отчасти понять, предположив, что он, как бы получив одобрение на постановку «Мольера» от самого Сталина (такова была практика МХАТа — придворного театра), ощутил возможность взаимопонимания со стороны человека-вождя, действия и поступки которого писатель давно и мучительно пытался разгадать. Ибо трудно было не увидеть в пьесе параллели между французским прошлым и советским настоящим. И Сталин при всей его проницательности, подозрительности и мнительности, не мог не заметить (текст пьесы, безусловно, ему предоставили) того, что явно просматривалось. Тем не менее получалось так, что вроде бы Сталин снисходительно отнесся к «шалостям» драматурга и не отреагировал даже на монолог Мольера о тиране! Булгаков прекрасно знал о закулисной возне, понимал, что информация поступает на самый верх. И до самой премьеры не верил в положительный исход. И все же, пьеса репетировалась и вскоре вышла, чтобы быть показанной в семи спектаклях, а потом снятой самим руководством МХАТа. Но это было несколько позже, а тогда, в начале февраля 1936 г., драматург, возможно, решил, что настало время для реализации давно зародившейся идеи — написать пьесу о Сталине.
5 февраля 1936 г. прошла первая генеральная репетиция, с публикой, а 16 февраля состоялась премьера «Мольера». Публике спектакль понравился, а драматургу — не очень. Пышные декорации и игра актеров делали из «Мольера» пьесу на историческую тему. Казалось, все было хорошо и ничто не предвещало катастрофу. Однако участь постановки была очень быстро решена вне всякой зависимости от мнения зрителя. 29 февраля 1936 г. председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР П.М. Керженцев представил в Политбюро записку «О «Мольере» М. Булгакова (в филиале МХАТа)». Партийный чиновник информировал вождей: «М. Булгаков писал эту пьесу в 1929—1931 гг., <...> т. е. в период, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к постановке, <...> он хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. Несмотря на всю затушеванность намеков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намеков не заметит. Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV».
Сталин предложение председателя Комитета по делам искусств одобрил, другие члены Политбюро, естественно, тоже. Было решено напечатать а центральных газетах статью по материалам записки Керженцева с осуждением «Мольера». Предвидя такой поворот событий, Булгаков дал мхатовской многотиражке «Горьковец» интервью «Он был велик и неудачлив», где утверждал: «Меня привлекла личность учителя многих поколений драматургов — комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагичного человека в личной жизни... Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность...» (При этом следует отметить, что слова о великом комедиографе из булгаковского интервью оказались вполне применимы и в наше время к характеристике создателя «Кабалы святош»: ведь Булгакова вплоть до сегодняшнего дня многие «доброжелатели», совсем как когда-то Мольера, пытаются сохранить в виде мумии или иконы, выступая против предания гласности ряда фактов его личной жизни.).
Главный удар по спектаклю «Мольер» был нанесен 9 марта 1936 г., когда в газете «Правда» (главном государственном официозе) появилась инспирированная Политбюро и Керженцевым редакционная статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», повторяющая основные тезисы председателя Комитета по делам искусств. «Мольер» в ней назван «реакционной» и «фальшивой» пьесой, Булгаков же обвинен в «извращении» и «опошлении» жизни французского комедиографа, а МХАТу вменялось в вину «прикрытие недостатков пьесы блеском дорогой парчи, бархата и всякими побрякушками». Руководители театра сами отказались от продолжения представлений. Пьеса успела пройти только семь раз. Повторилась история десятилетней давности, но теперь время было другое: Станиславский уже не мог пригрозить уходом из театра, как ради постановки в 1926 г. «Дней Турбиных», а сам вместе с Немировичем-Данченко снял спектакль. В кампании против «Мольера» принял постыдное участие и М.М. Яншин, один из ближайших друзей Булгакова, блестящий исполнитель ролей в его пьесах (Лариосика в «Днях Турбиных» и Бутона, слуги Мольера). 17 марта в газете «Советское искусство» появилась его статья «Поучительная неудача», где утверждалось, что «на основе ошибочного, искажающего историческую действительность текста поставлен махрово-натуралистический спектакль». Как ни оправдывался потом Яншин, как ни открещивался от статьи, утверждая, что репортер газеты, записывавший эту статью-беседу, злонамеренно исказил его мысли (и это, наверняка, было сущей правдой), Булгаков навсегда разорвал дружбу с Михаилом Михайловичем.
Не поддержал драматурга (а скорее, наоборот) и его бывший товарищ по журналистской работе в газете «Гудок» Ю.К. Олеша. Автор нашумевшего романа «Зависть», как полагают исследователи, чувствовал и в жизни уже литературную зависть к своему собрату-драматургу. В своей статье, опубликованной в мхатовской многотиражке «Горьковец» и посвященной премьере булгаковского «Мольера», Ю.К. Олеша сравнивал сюжет пьесы с драмой Э. Ростана «Сирано де Бержерак»: «Булгаков очень хороший драматург, и все, что выходит из-под его пера, блестяще, талантливо. Не лишена этого свойства и пьеса «Мольер». Но когда смотришь эту пьесу, нельзя отделаться от воспоминаний о «Сирано де Бержераке» Ростана. Обе пьесы говорят об одном и том же: поэте и власти. В обеих — горестная судьба поэта и торжество «сильных». Возможно, что Булгаков, создавая своего «Мольера», сводил счеты с тем впечатлением, какое в свое время произвела на него замечательная пьеса Ростана». Здесь важно, что наблюдательный Олеша заметил в «Мольере» (едва теплющуюся у Ростана) главную ситуацию всего творчества Булгакова — противостояние поэта, пророка, правдолюбца и «бессудной власти» — и то, что театральные впечатления откладывались в его творчестве не одними лишь прямыми упоминаниями виденных некогда спектаклей, но особым «сведением счетов» со всем, некогда виденным в театре, сведением счетов со всем театром, со всей культурой вообще.
Мхатовцы (режиссер Н. Горчаков и другие) просили драматурга написать «оправдательное письмо», покаяться, переделать и изменить сюжет «Мольера», но Булгаков отказался: «Запятой не переставлю». В своем дневнике 9 сентября 1936 г. Елена Сергеевна отметила: «Из МХАТа М.А. хочет уходить. После гибели «Мольера» М.А. там тяжело: — Кладбище моих пьес». Его пригласили на работу в Большой театр «консультантом-либреттистом». В письме к писателю В.В. Вересаеву (Смидовичу) 2 октября Булгаков так излагал обстоятельства, приведшие его в Большой театр: «Из Художественного театра я ушел. Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». Тесно мне стало в проезде Художественного театра, довольно фокусничали со мной. Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто!». Свой «роман» с МХАТом, и счастливый и драматический, писатель изобразил в знаменитых «Записках покойника» («Театральном романе»), оставшихся незаконченными ни на страницах рукописи, ни в жизни...
14
Булгаков не любил поэзию и стихи (кроме, как он признавался, пушкинских: «Пушкин — не стихи»), однако признавал талант выдающихся современников-поэтов. Дружил и встречался с А.А. Ахматовой, уважал Б.Л. Пастернака. Однажды на именинах у жены драматурга Тренева, его соседа по писательскому дому, Булгаков и Пастернак оказались за одним столом. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи с грузинского. После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил: «Я хочу выпить за Булгакова!» В ответ на возражение именинницы-хозяйки: «Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова!» — Пастернак воскликнул: «Нет, я хочу за Булгакова! Вересаев, конечно, очень большой человек, но он — законное явление. А Булгаков — незаконное!» Много позже Елена Сергеевна изложила этот эпизод в мемуарном эссе «Б.Л. Пастернак» (1968), несколько по-другому излагая события: ««К нам как-то зашел вечером Вересаев. Посидев немного, сказал, что должен идти к Треневу (над нами), там какое-то празднество. Через пять минут Тренев позвонил и несколько сконфуженно пригласил к себе. Мы пошли. В маленькой треневской квартире (какие-то конуры вместо комнат) толкалось много народу, всякого, меж собой даже почти незнакомого, вплоть до цыганок. Наконец хозяйка стала приглашать к столу, составленному из нескольких столов и столиков; она юлила больше всего вокруг Бурденко (Н.Н. Бурденко, тогда известный практикующий хирург. — Б.М.); усадила его на генеральское место, а сама стала за его спиной, положив ему руки на плечи и сияя от счастья. Пастернак поднялся и сказал, что хочет произнести первый тост. — Да, да!! — в восторге закричала хозяйка, Лариса Ивановна. Пастернак начал говорить на большой высоте — что человек этот, за которого он хочет выпить, такой необычайный (да, да!!), такой талантливый, гениальный (да, да!!!), что большое счастье знать, что он живет рядом с нами, в наше время (да, да!!!) и т. д. и т. д. Все время его речь прерывалась восклицаниями Ларисы Ивановны с каким-то уже придыханием от волнения. И, наконец, Пастернак, доведя до высшей ноты, говорит: «Я предлагаю выпить за здоровье Михаила Афанасьевича Булгакова! — Нет, нет!!! — взвизгивает хозяйка. — Мы должны выпить за здоровье Егора Нилыча Бурденко! (может быть, я путаю имя, отчество). — Ну, конечно, конечно, мы выпьем потом и за Егора Нилыча, — спокойно говорит Пастернак, — но Егор Нилыч — явление законное, а Булгаков — незаконное!» <...> Когда Миша был уже очень болен, и все понимали, что близок конец, стали приходить — кое-кто из писателей, кто никогда не бывал... <...> был Пастернак, вошел с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул, и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: «Все будет хорошо». Миша потом сказал: «А этого всегда пускай, я буду рад»».
Вспоминая о встречах с писателем, завлитчастью МХАТа В.Я. Виленкин отмечал: «Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный — всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, — уже вторично, зависимо от этого главного, привлекающего к себе как магнит». Сохранились и другие воспоминания о писателе хорошо знавших его людей, друзей и знакомых. Приведем фрагменты некоторых из них. Журналист Э.Л. Миндлин: «В Булгакове все — даже недоступные нам гипсово-твердый, ослепительно-свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целования ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, — решительно все выделяло его из нашей среды. И уж, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав!». Актриса МХАТа С.С. Пилявская: «Необыкновенно элегантный, подтянутый, со все видящими, все замечающими глазами, с нервным, очень часто меняющимся лицом. Холодный, даже немного чопорный с чужими и такой открытый, насмешливо-веселый и пристально внимательный к друзьям или просто знакомым...». Драматург А.А. Файко: «Булгаков был худощав, гибок, весь в острых углах светлый блондин, с прозрачно-серыми, почти водянистыми глазами. Он двигался быстро, легко, но не слишком свободно... он появлялся в лихо отглаженной черной паре, черном галстуке-бабочке на крахмальном воротничке, в лакированных, сверкающих туфлях, и ко всему прочему еще и с моноклем, который он иногда грациозно выкидывал из глазницы и, поиграв некоторое время шнурком, вставлял вновь, но, по рассеянности, уже в другой глаз...». Работник МХАТа П.А. Марков: «Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и поразительно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни. И уж, конечно, его юмор не всегда можно было назвать безобидным — не потому, что Булгаков исходил из желания кого-либо унизить (это было в коренном противоречии с его сущностью), но его юмор порой принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма. Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только внешние его повадки, гиперболизируя их в немыслимую, но вполне вероятную характерность, но, самое главное, — он вникал в психологическую сущность человека. В самые горькие минуты жизни он не терял дара ей удивляться, любил удивляться...».
Середина 1930-х была для Булгакова временем обращения и к творчеству своего обожаемого Гоголя, и к биографии Пушкина: в январе 1937 г. широко отмечалась круглая траурная дата — сто лет со дня гибели поэта. Булгаковская инсценировка «Мертвых душ» с успехом шла в Художественном театре. В 1934 г. началась работа над киносценарием по поэме Гоголя «Похождения Чичикова», совместно с кинорежиссером И.А. Пырьевым. Одновременно Булгаков заключает договор с киевской киностудией «Украинфильм» о создании киносценария «Ревизора» совместно с режиссером М.С. Каростиным. Продолжалось сотрудничество и с московскими театрами: для Театра сатиры он перерабатывал принятую уже пьесу «Блаженство» в другую пьесу, впоследствии получившую название «Иван Васильевич». А для Театра им. Евг. Вахтангова Булгаков начинает работу над пьесой о Пушкине, и позже, в 1938—1939 гг., пишет для этого театра инсценировку «Дон Кихота» по роману М. Сервантеса.
После неудачи с «Мольером» во МХАТе Булгаков пробует себя в написании учебника по истории СССР, на который был объявлен открытый конкурс. Обложившись исторической литературой, писатель начинает интенсивно работать, но уже в июне 1936 г. он эту работу прекращает, успев написать более или менее связный текст, посвященный истории России 1720-х — 1870-х гг. Очевидно, Булгаков понял, что не успеет закончить книгу в конкурсный срок, да и не позволят ему стать автором учебника истории СССР — после снятия пьесы в Художественном театре он опять оказался как бы в полуопальном положении: публиковаться не давали, но и не отнимали средств к существованию. 7 ноября 1936 г. неизвестный информатор ОГПУ НКВД передавал разговор с Булгаковым «у себя дома»: «Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалование, пока еще не гонят с места (Большой театр), и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — исторической и из времени Гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — ее запретят негласно, если выйдет плохая — ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: еще с 1929—30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают (так было с «Мольером» в Ленинградском БДТ из-за В. Вишневского и в Московском театре сатиры с «Иваном Васильевичем» из-за одного из руководителей МК партии Фурера. — Б.М.). В истории с «Мольером» (в Художественном театре. — Б.М.) одним из таких людей был Ю. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту. Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс, троцкисты, ну еще будет — ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли... Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен. А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял».
Основания к такому пессимизму у писателя были. Издатели отложили его биографию Мольера, неудачными стали и его попытки участвовать в создании кинофильмов. Пырьеву расхотелось снимать «Мертвые души», Каростин хотя и начал снимать «Ревизора», но успел сделать лишь пару эпизодов. В феврале 1936 г. эти фрагменты были подвергнуты критике за «формализм» со стороны директора «Украинфильма» кинорежиссера А.П. Довженко и начальника Главного управления кинематографии Б.З. Шумяцкого. Съемки были прекращены. Как показывают тексты сценариев, у Булгакова были задатки режиссера не только в театре, но и в кино. В своих киноинсценировках он во многом предвосхитил современное монтажное кино, а гротескные образы вставных эпизодов «Мертвых душ» или «Ревизора» напоминают работы режиссеров, заложивших в 20-е и 30-е годы основы сюрреализма в кинематографе. Не случайно весьма кинематографичны и булгаковские романы «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита». Но обстоятельства не позволили Булгакову реализовать себя и как кинорежиссера. Он не стал своим в мире кинематографистов, а к его сценариям режиссеры относились только как к материалу для собственных замыслов, требуя переделок текста по своему усмотрению и вкусу.
Не более удачной была судьба и написанных Булгаковым оперных либретто. Словно драматурга преследовал злой рок. Либретто, может быть, один из наименее самостоятельных жанров литературы, оно живет только вместе с музыкой. И музыка, в конечном счете, определяет его особенности и будущее. Первое либретто Булгаков начал писать еще до поступления в Большой театр. В июне 1936 г. он вместе с композитором Б.В. Асафьевым приступил к работе над оперой «Минин и Пожарский». Театру срочно требовалась опера на патриотическую тему. Вплоть до весны 1937 г. композитор работал над музыкой, писатель над либретто. Но их опера еще не была завершена, когда в марте этого года в Большом театре родилась идея возобновить новую редакцию оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», переименованную, дабы избежать обвинений в прославлении монархизма, в «Ивана Сусанина» (Булгакову позднее пришлось править либретто этой оперы, написанное поэтом С.М. Городецким). Вследствие этого опера «Минин и Пожарский» так и не была поставлена на сцене, хотя и Асафьев написал в общем неплохую музыку. Условием работы в Большом театре было обязательство писать по одному либретто ежегодно. И в 1937 г. Булгаков пишет либретто «Черное море» (с использованием элементов сюжета пьесы «Бег») о взятии Перекопа и Крыма в Гражданскую войну. Музыку к этому либретто должен был написать композитор С.Н. Потоцкий, но, поскольку главным героем здесь оказался нелюбимый Сталиным М.В. Фрунзе (Михайлов), осторожный композитор все время «переключался» то на различные «колхозные сюиты», то на музыкальное оформление кинофильмов, ныне почти забытых. Опера так и не была создана.
Сам Булгаков явно не считал писание либретто своим делом. Но тексты он делал неплохие, хотя в некоторых случаях для оперных либретто его мастерство, возможно, оказывалось даже избыточным. Два таких либретто он все-таки создал (они, к сожалению, разделили участь предыдущих). В феврале 1937 г. Булгаков решил писать еще одно либретто «Петр Великий» для композитора Б.В. Асафьева и 7 июня приступил к работе. Однако это либретто было на корню загублено «специалистом по творчеству» писателя, председателем Комитета по делам искусств П. Керженцевым еще до того, как Асафьев приступил к сочинению музыки. Керженцев, как и в случае с мхатовским «Мольером», выполняя «партийный заказ», не смог оценить по достоинству драматургический талант писателя и ясную композиционную структуру его творения. Он требовал от Булгакова расширить содержание текста — чуть ли не до масштабов романа А.Н. Толстого «Петр I» — и даже тематически наметить будущие (!) государственные перевороты и междуцарствия. В соответствии с «духом времени» Керженцев добивался у писателя также изображения иностранного шпионажа. Один из пунктов «замечаний» гласил: «Не показано, что новое государство создавалось на жестокой эксплуатации народа (надо вообще взять в основу формулировку Сталина)». Учитывая, что эти «замечания» были высказаны в 1937 г., нельзя не отдать должное гражданскому мужеству Булгакова, отказавшегося переделать либретто в подобном духе...
Другим и последним либретто драматурга явилось сочинение «Рашели», написанной по мотивам новеллы Ги де Мопассана «Мадмуазель Фифи». Музыку должен был написать ленинградский композитор И.О. Дунаевский. Опера «Рашель», как и рассказ Мопассана, из эпохи Франко-прусской войны 1870—1871 гг., несла в себе сильную антигерманскую тенденцию. А зимой и весной 1939 г. отношения СССР с Францией были не самыми лучшими из-за Мюнхенского соглашения и намечавшегося уже курса советского руководства на временное сближение с Германией. Летом 1939 г., в связи с переговорами СССР с Англией и Францией о заключении военной конвенции, надежды на постановку «Рашели» ненадолго возродились, но были перечеркнуты советско-германским пактом о ненападении: было исключено сценическое ее воплощение, где прусские погромщики XIX века напоминали гитлеровцев. Дунаевский написал к «Рашели» лишь несколько эскизов. В начале 1940 г. он пробовал вернуться к работе над оперой, однако Булгаков был уже болен и от новой переделки «Рашели» отказался. Неудачи даже с такими второстепенными для творчества драматурга произведениями, как либретто «Минин и Пожарский» и «Петр Великий», в немалой степени сочинениями вынужденными, во многом определяли осенью 1937 г. настроение Булгакова. Дневник Елены Сергеевны того времени отражал смятение его мыслей, вертящихся все в том же кругу: «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать ли роман и представить? Ничего нельзя сделать, безвыходное положение!» (Запись от 23 сентября 1938 г.).
События лета и осени усиливают нерешительность Булгакова в отношении эпистолярного варианта действий. 5 октября 1938 г. это отразится в дневнике жены: «Надо писать письмо наверх. Но это страшно». 23 октября ее запись отметит поворотный биографический момент: «У Миши созревает решение уйти из Большого театра. Это ужасно — работать над либретто! Выправить роман (дьявол, мастер, Маргарита) и представить». Слово «представить» здесь особенно важно. Выбор способа действия был сделан. Одновременно это был выбор из перебираемых в последний год форм контакта с постоянным адресатом Булгакова — генеральным секретарем. Роман должен был заменить очередное письмо к Сталину. Адресат оставшихся безответными писем теперь был избран на роль читателя романа, первого и главного. По мере писания романа этот первый и важнейший адресат — тот «человек действия», кому на суд собирался Булгаков его представить, — постоянно присутствовал в сознании автора. Последний то верил, что роман, ставший уже главным делом его жизни, понравится «первому читателю» и дело его сдвинется с мертвой точки, то терял надежду на успех этого первого чтения, то полностью отвлекался от всяких расчетов. Работая над сценой «предъявления» мастером Воланду романа о Пилате («Рукописи не горят»), Булгаков не только не мог забыть специфичного потенциального эпистолярного контекста своего романа. Он предполагал также, что, попав на стол адресату писем, роман и для него окажется в том же контексте. Поэтому, помимо всех других истолкований реплики Воланда «Рукописи не горят!», следует иметь в виду и еще одно. В письме 28 марта 1930 г. Булгаков написал, что «бросил в печку черновик романа о дьяволе...». Эта фраза почти буквально повторена мастером: «Я сжег его в печке». Автор был, видимо, уверен, что, читая (предполагаемый к отправке вождю) роман, Сталин вспомнит письмо и свою реакцию на него. И реплика призвана была напомнить вождю его же реакцию: этой репликой адресату письма и романа навязывался высокий тон предполагаемого контакта. По верному наблюдению М.С. Петровского, в определенном, рассчитанном только на одного читателя смысле роман был новым письмом; он должен был возродить в памяти адресата все предшествующие письма, и даже настаивал на отождествлении их автора с героем романа: «первому читателю» предлагался ключ для понимания личности настойчивого корреспондента.
Этому читателю фигура всесильного духа зла, совершающего благо (Воланд — Сталин), по мнению Булгакова могла бы в какой-то степени и импонировать. И все же возможное самоотождествление, надо думать, пугало автора (что и подтвердилось, в конечном счете, в связи с будущей судьбой пьесы «Батум»). Поэтому в «Мастере и Маргарите» единственный (кроме Маргариты) читатель всего романа мастера (Воланд же его как таковой не читает) возвышен до Небесных сфер. Этим приоткрыта потенциальному «первому читателю» романа возможность более высоких, так сказать, более лестных аналогий. «Он прочитал сочинение мастера», — говорит Левий Матвей; «Ваш роман прочитали», — сообщает мастеру Воланд. Навязчивая, колеблющаяся в процессе писания романа авторская мысль о том его главном чтении, которое решит судьбу и книги, и ее автора, отрывается, наконец, от ожидаемого практического результата. Сам факт «решающего чтения» оставлен в романе. Но этот факт выводится за границу земной конкретности и передается в сферу высших сил. Роман переадресовывается будущим читателям: время действия в эпилоге дано так, чтобы оно могло быть совмещено с любым временем чьего бы то ни было чтения. Написанные в 1939 г. новые страницы за год до этого оконченного романа — сцена Воланда с Левием Матвеем и эпилог — свидетельство совершившегося к этому моменту полного расчета с надеждой на благоприятный исход «первого чтения», на котором долгое время было сосредоточено столько авторских упований. Роман не дошел до одного конкретного адресата. Адресат исчез, роман остался. Шифр, рассчитанный на одного читателя, стал частью творческой истории — так некоторые прототипические связи, важные самому автору и узкому кругу современников, со временем теряются навсегда.
15
Участь трех написанных для драматического театра пьес второй половины 1930-х гг. оказала трагическое влияние на судьбу самого Булгакова. В своих последних пьесах драматург вынужден был уделять основное внимание истории, а не современности. Пьесу «Александр Пушкин» он начал совместно с В.В. Вересаевым (автором биографических хроник «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни», книги «Спутники Пушкина»), который предоставлял соавтору документально-мемуарный материал. Еще 17 декабря 1934 г. ими был заключен договор с Театром им. Евг. Вахтангова. В дальнейшем Вересаев не принял булгаковской концепции образа Дантеса и снял свое имя с рукописи. В ответ на замечания историка Булгаков отвечал Вересаеву: «Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика... У меня эта фигура гораздо более зловещая, нежели та, которую намечаете Вы...». В итоге Дантес в пьесе — достойный противник так и не появляющегося на сцене Пушкина и один из самых сильных образов (чего не скажешь о булгаковской Наталье Николаевне Пушкиной, не поднимающейся над уровнем штампов тогдашнего пушкиноведения). Постановку пьесы долго не разрешали, Театр им. Евг. Вахтангова от нее отказался в пользу МХАТа, который показал премьеру через три года после смерти автора — 10 апреля 1943 г. с замененным названием — «Последние дни», оставив «Александр Пушкин» как подзаголовок. Уникальную драматическую композицию в пьесе «Александр Пушкин» — последние дни поэта без сценического образа самого поэта — Булгаков, как полагают исследователи (М.С. Петровский и др.), заимствовал (использовал идею) из мистерии Великого Князя Константина Романова (псевдоним К.Р.) «Царь Иудейский» (1914), где проходят последние дни Христа — без Христа. Взятый из пьесы К.Р. композиционный принцип понадобился писателю не для эстетского изыска, не для пикантной оригинальности и уж, конечно, не потому, что драматург позорно спасовал перед задачей, прямо скажем, необычайной трудности — создать сценический образ Пушкина.
Цель была иная и глубоко творческая: отсылающее к мистерии К.Р. отсутствие главного героя становилось содержательным языком мистериальности пьесы и уподобления главного пророка русской культуры тому пророку, чья история рассказана в «Царе Иудейском», то есть Иисусу Христу. Евангельская аллюзия содержится в самом названии булгаковской пьесы — в другом ее названии — «Последние дни». По верному наблюдению Е.А. Яблокова, «в «юбилейной» пьесе «Александр Пушкин» Булгаков не вывел главного героя на сцену, превратив его, по принципу «короля играет свита», в некое загадочное Нечто, которое каждый из персонажей интерпретирует в соответствии с собственным характером, а «критерий истины» при этом нарочито отсутствует. Так у Булгакова равноправными оказываются все точки зрения, сколь бы противоположными они ни были: все они лишь относительно верны, но сущность явления, называемого «Пушкин», остается неуловимой и неявной; образ Пушкина принципиально двойственен, он объединяет противостоящие друг другу мифы о нем; здесь драматург гротескно развивает собственно пушкинское представление о поэте, которому равно чужды «хвала и клевета», поскольку звучат они из уст людей — в то время как поэт, по сути, по определению непричастен земному, а лишь на время «воплощается» в человеческом мире, и значит — «не оспоривай глупца»... Пьеса «Александр Пушкин» — это и мистерия последних дней российского пророка. Его Страстной недели, завершающих шагов его крестного пути. Отсутствующий на сцене Поэт становится главным действующим лицом и событийным центром пьесы-трагедии — незримо вписанная в пьесу мистериальная модель берет на себя главную смыслообразующую роль. Правильное, соответствующее авторскому замыслу понимание «Пушкина» требует прочтения пьесы, так сказать, по евангельскому сюжетному коду и ходу. История последних дней поэта в пьесе Булгакова непрерывно подсвечивается легендой о последних днях Христа. Так судьба поэта уподобляется судьбе евангельского пророка, вместо евангельского пророка явлен его «заместитель»: русская культура мыслится как предмет исповедания.
24 июня 1937 г. Булгаков получил письмо от художественного руководителя вахтанговского театра В.В. Кузы с предложением инсценировать «Дон Кихота». Драматург долго колебался, браться ли за это: судьба предыдущих пьес оптимизма не добавляла. Наконец решился, и летом 1938 г. первый вариант пьесы был написан. Это произошло в Лебедяни, маленьком городке в верховьях Дона. Булгаков туда приехал на отдых, к Елене Сергеевне, бывшей там со своими детьми, приехал после напряженнейшей работы над машинописной редакцией «Мастера и Маргариты», текст которой под диктовку виртуозно печатала сестра его жены Ольга Сергеевна Бокшанская (см. Нюренберг О.С.). Писатель каждый день отправлял в Лебедянь открытки и письма, в одном из которых признавался: «Передо мною 327 машинописных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное — корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых страниц. «Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего... Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще немножко приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму ящика. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно». В Лебедяни Булгаков пробыл с 26 июня по 21 июля, живя в доме счетовода В.И. Андриевского. Там были и написаны строки «Дон Кихота», ставшие сегодня крылатыми: «...Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!». Эти слова странствующего рыцаря Дон Кихота применимы и к Булгакову. По договору с театром спектакль должен был выйти к 1 января 1940 г., но до премьеры, осуществленной 8 апреля 1941 г., драматург уже не дожил. Два театра успели сделать премьеры пьесы раньше вахтанговцев. Театр им. А.Н. Островского в Кинешме 27 апреля 1940 г., всего полтора месяца спустя после смерти Булгакова, и в конце января 1941 г. — Театр им. А.С. Пушкина в Ленинграде с блистательным Н. Черкасовым в главной роли. Напечатана пьеса была в 1962 г.
Несмотря на житейские трудности, дом супругов Булгаковых был всегда открыт для друзей и коллег, был он знаменит не только феноменальным хлебосольством (Елена Сергеевна приводила в беседах слова своего мужа: «У нас лучший трактир в Москве»), но и не менее феноменальным живым общением, своего рода «домашним театром». Об этом вспоминали с удовольствием многие. А драматург С.А. Ермолинский, близко знавший писателя и друживший с ним, написал в 1960-х гг. серию мемуарных очерков о М.А. Булгакове. Приведем фрагмент одного из них: «...О нем (Булгакове. — Б.М.) говорили, что он от природы одарен «чувством театра». Нет, — это тоже театральность, не чувство театра, а характер. Это лучше всего проявлялось в личном общении с ним. Устные рассказы Булгакова ... они возникали у него в разговоре, как средство выражения мыслей и наблюдений, иногда неожиданно превращаясь в скетчи, и в их разыгрывание тут же вовлекались друзья-собеседники. Так, например, случилось с рассказом о «палешанах», неудачно дебютировавших в качестве художников-оформителей спектакля «Богатыри» в Камерном театре. Спектакль был снят, как искажающий русский былинный эпос и так же, как и поэма Демьяна Бедного «Слезай с печки», был признан вредным (начались гонения и на бедного Демьяна). А.Ш. Мелик-Пашаев (в те годы главный дирижер Большого театра. — Б.М.) и В.В. Дмитриев (театральный художник. — Б.М.), друзья и частые гости булгаковского дома, с увлечением подхватывали его рассказ. И начиналось все с того, что перепуганные палешане возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и поднявши к небу свои бороды. Дмитриев, губасто похохатывая, изображал унылого, страдающего насморком палешанина, а черный жук Мелик-Пашаев — его товарища, все еще хорохорящегося: мы-де покажем, ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском... Но у обоих кошки скребут на сердце, им слышится грозный голос жены — жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке! Высунулись! Слезли с печки! Добро бы мальчишки, а то ведь за сорок уже! Срам — а гонорария ни шиша! А то и хуже будет — возьмут и посадят...».
Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик-Пашаев буквально подползает к дверям своего дома и робко стучит: «Это я, я, — тихонько, замирая до шепота, произносит он. — Потерял копеечку...» — поет он как юродивый в «Борисе Годунове»... Дверь распахивается, в дверях Булгаков — жена. Хохолок спереди взвит кверху, на голове повязан платок. Баба, настоящая баба. И взор столь гневен, что Мелик немеет окончательно. — «Искусству захотел! Вот тебе искусству!» — замахивается «жена». Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет. А Дмитриев с горя уже хватил по дороге не один шкалик и валяется в канаве (под столом), разглядывая в пустую поллитровку ночные светила (люстру) и распевая непристойные песни: «Э-эх! Семь бед — один ответ, пропади пропадом коробочка лакированная!» — и трахнул крепким русским словцом. А Вильямс (П.В. Вильямс — театральный художник. — Б.М.) поджимал губы: «Не выражайтесь, тут дамы»».
Были рассказы с продолжением. Если бы их записать — получился бы целый цикл, состоящий, например, из диалогов между в меру пуганным литератором Транпазлином и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. По странному стечению обстоятельств, Сталин благоволит к Транпазлину, и тот даже позволяет себе фамильярничать с ним. Сталин давно позабыл такой тон разговора с собой, и это чем-то приятно щекочет его. В общем, уже и жить без Транпазлина скучно, поговорить по душам абсолютно не с кем. Так что стал советоваться с ним по всем государственным вопросам... Почти каждый день Булгаков сообщал: «Вообрази, он опять звонил Транпазлину. Спрашивал, как быть с Художественным театром, если он так мало играет Булгакова? Транпазлин сказал, что пьеса про офицеров ему нравится, надо бы еще одну поставить. А тот ни в какую. Тогда Транпазлин бросил в сердцах трубку. И представь... сегодня мне звонили из театра, сказали — а не поставить ли «Бег»? Чувствую, что влипну с этим Транпазлином»...
Многие новости, наши театральные, литературные и о наших общих знакомых рассказывались мне через Транпазлина, что придавало им самую неожиданную окраску. О Транпазлине упоминает в своих мемуарах и К.Г. Паустовский — но очень не точно — и называет его почему-то «Тарзаном» (К. Паустовский «Книга скитаний» //«Новый мир», № 10, 1963). У Е.С. Булгаковой, насколько мне известно, сохранились записи многих рассказов этого цикла. Думаю, они интереснее, чем то, что я могу написать — лишь вкратце, по памяти. <...>». (Воспоминания С.А. Ермолинского приводятся по его авторской машинописи конца 1964 — начала 1965 гг.; позже они несколько раз публиковались в разных редакциях. Драматург не ошибся, вспоминая булгаковские устные рассказы о Транпазлине: Елена Сергеевна их записала и они были изданы в 1990 г. под общим заголовком «Будто бы»).
С.А. Ермолинский верно подметил неточность К.Е. Паустовского из его мемуаров: писатель простительно перепутал два похожих слова — «Транпазлин» и «Тарзан» (последнее было на слуху у кинозрителей конца 1940-х — начала 1950-х гг. из-за демонстрации «трофейного» одноименного фильма) и еще кое-что. Но в остальном — его рассказ правильный, дающий картину происходившего в доме Булгакова «действа» под иным углом: «<...> Я помню один такой рассказ. Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается «Тарзан». Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия (?!) немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете!». Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает не торопясь:
— Это вы мне эти письма пишете?
— Да, я, Иосиф Виссарионович!
Молчание.
— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.
— Да, ничего. Интересно пишете.
Молчание.
— Так, значит, это вы — Булгаков?
— Да, это я, Иосиф Виссарионович.
— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!
— Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения:
— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть! В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:
— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя. Однажды Булгаков приходит к Сталину, усталый, унылый.
— Садись, Миша. Чего ты грустный?
— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.
— А где бы ты хотел поставить?
— Да, конечно, во МХАТе, Иосиф Виссарионович.
— Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись. — Сталин берет телефонную трубку:
— Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Кто это? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Кто это? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор? Как? Умер? Только? Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел! Пошутить нельзя!».
О веселых литературных вечерах в гостеприимном доме Булгаковых вспоминал и бывший завлит МХАТа В.Я. Виленкин: «...Начался ужин, и все как-то сразу оказались втянутыми в интересный, живой, очень веселый разговор. <...> Михаил Афанасьевич был очень оживлен и много рассказывал. Это и были, очевидно, булгаковские новеллы, о которых я столько слышал: одна смешнее другой, одна другой острее и неожиданней. Я и сейчас не мог бы определить, в чем именно заключается этот особый его талант, почему эти новеллы возникали так непринужденно, а били всегда в самую точку, почему они не линяли от повторения, почему мы все чуть под стол не валились от хохота, в то время как он сохранял полнейшую серьезность и, казалось, ничего не делал ради комического эффекта. Знаю только, что это были рассказы писательские, а не актерские. Не имитация, не «показывание», не шаржи, а блистательные фейерверки импровизации, отточенность деталей и неожиданная изюминка сюжета, мастерски подготовлявшаяся всевозможными оттяжками и отступлениями. И еще знаю, что пытаться воспроизвести булгаковские застольные рассказы — дело совершенно гиблое, и это не раз уже доказано. Запомнились характерные названия: «Про скелет», «Покойник в поезде», «Разворот у инженера Н.Н.». Импровизировались и сюжеты острозлободневные, соль которых состояла в том, что лиц, всем известных, представляли вдруг в совершенно неожиданном сатирическом остранении. <...>».
16
Последней пьесой Булгакова стал «Батум» («Пастырь»), о молодых годах генерального секретаря. Писатель так излагал историю создания пьесы сестре Наде: «1. «Солнечная жизнь». 2. Образ вождя. Романтический и живой... Юноша...». Н.А. Земская (Булгакова) по-своему передавала собственные слова брата: «А знаешь, как я хотел себе строить солнечную жизнь?». Впервые о том, чтобы построить себе «солнечную жизнь» посредством написания пьесы о Сталине, драматург стал думать после генеральной репетиции «Мольера». 7 февраля 1936 г. Елена Сергеевна записала в дневнике: «Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине». Но в связи с неудачей «Мольера» и уходом Булгакова из Художественного театра замысел был приостановлен. Вновь вернуться к пьесе драматурга побудил тот же МХАТ: 9 сентября 1938 г. его посетили представители литчасти театра П.А. Марков и В.Я. Виленкин, которые просили забыть старые обиды и написать новую пьесу на современную тему. Такой пьесой Мхатовцы видели пьесу о Сталине: она была необходима им в преддверии празднования 60-летия вождя, которое готовились отмечать 21 декабря 1939 г. Но Булгаков сомневался и говорил В.Я. Виленкину: «Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится». Думается, однако, что об опасности для себя драматург говорил применительно к пьесе на современную тему вообще, а не к пьесе о Сталине. Ведь совершенно невероятно, чтобы против пьесы, где главным героем выступает глава государства, осмелились бы развернуть кампанию какие-либо журналисты и критики. Именно Сталин как главная фигура произведения мог бы стать гарантом того, что никакой травли не будет. Было очевидно, что судьбу такой пьесы решит единолично сам прототип основного персонажа (еще в начале 1931 г. в черновике письма Сталину Булгаков просил его «стать моим первым читателем»). Риск был только в одном: понравится пьеса вождю или нет, сочтет ли он необходимой ее постановку. Театр и драматург рисковали, Булгаков рисковал больше всех. И он дал себя уговорить, решился: 24 июля 1939 г. пьеса (договор на которую был подписан еще 15 июня) была закончена. Все, кому Булгаков читал пьесу, ее хвалили (храбрецов, осмеливающихся ругать произведение о Сталине, не было), Главрепертком и руководство Художественного театра встретили написанное на ура.
Как отмечают исследователи, отношение Булгакова к «кремлёвскому горцу» в конце 1930-х гг. было другим, чем десятилетие назад. Он, видимо, предстал в глазах писателя гораздо более сложной и страшной личностью и более сложным и загадочным государственным деятелем, чем казалось прежде. Хотя, по мнению литературоведов (С.В. Никольского и др.), уже в повести «Роковые яйца» есть некоторые черты генсека в образах «капитана дальнего плавания», «механического толстяка» — репортера Степанова, с левой искусственной ногой-протезом (возможный намек на левую сухорукость и «левокопытность» Сталина и известную левонаправленность большевизма), а также в образе эпизодического (в одной сцене) персонажа, «рыжеусого шофера потрепанного полугрузовичка», привезшего авантюристу Рокку гибельные «змеиные яйца». А филолог из США С. Иоффе видит Сталина (вместе с К. Ворошиловым) в Климе Чугункине, «преображенном» в Шарикова в повести «Собачье сердце»... «Капитан дальнего плавания» — это, конечно же, «кормчий», или образное определение далеко метящего человека, или то и другое одновременно. Того же происхождения, как и «левая механическая», по-видимому, и такая подробность, как родинка именно на левом ухе в описываемых приметах революционера Сталина в пьесе «Батум». В творческой истории этой пьесы, рассказывающей о молодом Сталине периода батумской демонстрации, можно найти и другие параллели к образу «капитана дальнего плавания».
Таким изменениям отношений и интересов к личности вождя, конечно, способствовало и в чем-то неожиданное внимание генсека к пьесам самого Булгакова, которые явно не вписывались в официальную идеологию, на чем настаивало в печати большинство их рецензентов. И тем не менее остается фактом, что Сталин 16 раз смотрел «Дни Турбиных» (во МХАТе) и 9 раз «Зойкину квартиру» (в Театре им. Евг. Вахтангова). Большим событием в жизни Булгакова стал личный телефонный звонок Сталина к нему в апреле 1930 г. Правда, потом были и другие факты, подтверждающие неоднозначность ситуации, в которой находился писатель. Булгакову даже могли импонировать в определенном смысле и тенденции к восстановлению некоторых державно-патриотических традиций, наметившиеся к середине 1930-х гг. С другой стороны, писатель был, конечно, далек от идеализации происходящего в стране. Особенно с учетом страшных репрессий 1937 г. Булгаков замысливал пьесу в одной ситуации, а реализовал ее в совсем другой. Начало 1936 г. было иным, чем вторая половина и последующие два года. И сама работа над «Батумом» отодвинулась на несколько лет. Автором владели очень сложные мысли и чувства, что отразилось и на творческой истории, и на особенностях пьесы, которая и в наши дни вызывает несовпадающие прочтения и интерпретации. Высказываются даже мнения, не хотел ли Булгаков напомнить Сталину о благих романтических порывах его юности и о том, как он был гонимым и преследуемым.
«Батум» — пьеса историческая, полагает М.С. Петровский и добавляет: ее задумал автор исторических пьес о Пушкине и Мольере, двойник мастера — профессионального историка («Мастер и Маргарита»), сам мысливший себя историком, когда засел за сочинение конкурсной рукописи по истории СССР. Задумав пьесу о Сталине и практически приступив к работе над ней, Булгаков повел себя именно как историк: вознамерился познакомиться с архивными материалами о своем будущем персонаже. Это намерение оказалось легкомысленным и тщетным: к архивам его не допустили. Апологетическая биография, сочиненная к тому времени Емельяном Ярославским, фальсификаторское сочинение о ранних годах революционной деятельности Сталина, подписанное Лаврентием Берия, еще несколько подобных сочинений, — вот и все, на что мог опереться Булгаков, приступая к «Батуму». При этом ему осталось воспользоваться несколькими несомненными фактами, достаточно простыми и известными: уход Сталина (тогда Джугашвили) из семинарии, участие в Батумской демонстрации, ссылка в Сибирь, бегство оттуда (в пути беглец свалился в прорубь)... Для пьесы, скажем прямо, не густо. Но и горсточки фактов могло хватить на пьесу драматургу с такой фантазией, какой был наделен Булгаков. Для блистательного выдумщика фактологическая бедность не порок, недостаток фактов даже выгрышен — есть где развернуть свое дарование. Разве он так уж считался с фактами в пьесах о Пушкине и Мольере? Но здесь как раз был другой случай. В «Батуме» ему предстояло иметь дело с персонажем, прототип которого был жив и обладал, мягко говоря, некоторым общественным положением, был фактическим хозяином страны. С персонажем, на котором фантазии не разгуляться: она жестко задана и ограничена соображениями государственной важности. Тут, в области фантазирования по поводу своего персонажа, Булгаков в действительности ходил по цирковой проволоке, и малейшая неосторожность была чревата гибелью. И все же с точки зрения государственной важности пьеса выглядит несколько холодновато — нейтральной: крен в сторону льстивой апологетики в ней не просматривается, что удивительно само по себе. Драматург оказался зажатым в тиски между двумя невозможностями: с одной стороны — невозможно использовать исторический архивный материал, с другой — невозможно дать волю своей рвущей узду фантазии. В этом узком пространстве и была осуществлена пьеса. Автору «Батума» оставалось одно: осторожно прибегая к вымыслу, до предела нагрузить смыслом санкционированные факты, подчинить их своей творческой задаче. Он и пошел по этому пути.
Можно задаться вопросом: а зачем он пошел по такому пути, для чего вообще было писать пьесу о Сталине, в чем состояла творческая задача, да и просто причина, побудительный мотив? Отвечают на этот вопрос биографы драматурга и комментаторы пьесы (М.О. Чудакова, А.М. Смелянский, А.А. Нинов, В.В. Новиков, В.И. Лосев, Б.В. Соколов, С.В. Никольский, В.П. Муромский, М.С. Петровский, Е.А. Яблоков и др.) по-разному, но сходятся в одном: помимо лично-бытовых причин (поправить свое общественное и материальное положение, потрафить друзьям-мхатовцам и т. п.) отчетливо просматривается и «второе дно»: мистериальность пьесы в контексте окружающей действительности, на фоне хроники сталинских репрессий конца 1930-х гг., каждодневных страшных известий, обступавших квартирку затравленного писателя все более тесным кольцом. Такая отчаянная ситуация требовала осмысления, и вот эта задача (а не намерение польстить и спастись), видимо, и породила «Батум». Исследователи сравнивают мотивы сюжета пьесы с пушкинским «Борисом Годуновым», а образ молодого Сталина с самозванцем Гришкой Отрепьевым. «Батум» — типично булгаковское произведение в ряду других, подобных: пьеса о столкновении молодого пророка-революционера со старой властью. И молодой Сталин как будто становится в ряд этих булгаковских героев-пророков, и подобно другим пророкам, эти также «подсвечиваются» образом главного пророка в творчестве Булгакова — того самого, который в романе «Мастер и Маргарита» выведен под именем Иешуа Га-Ноцри. Но есть и существенные отличия этих образов: булгаковский Сталин — ненастоящий, мнимый, «как будто» пророк, потому что вместе с чертами высочайшего образа — Иешуа Га-Ноцри — в нем просматриваются и черты вечного антагониста Христа. Булгаков тем самым проделал неслыханный по дерзости (художественной, моральной, политической) эксперимент: соединения в образе Сталина черт пророка и демона, Христа и Сатаны, то есть сказал — на булгаковском языке достаточно внятно, что герой — Антихрист. «Батум», повторим, как и все другие главные произведения о пророках, пьеса именно о последних днях пророка, потому что проснется он — за пределами пьесы — уже в другом качестве. Пьеса кончается в момент гибели пророка, в момент рождения вождя. Перед нами пьеса о переходе пророка в «инобытие» вождя, но о вожде в ней не говорится ни слова. А засыпание героя в конце (чтобы проснуться вождем) — это недвусмысленный сигнал о самозванничестве лжепророка, снова отсылающий читателя (зрителя) к одному из литературных прототипов образа — к Самозванцу из трагедии Пушкина «Борис Годунов». Булгаков написал «Батум» о том же, о чем написаны и все остальные его пьесы: о диалектических сложностях противоречия между добром и злом. Непрерывно испытывая разные варианты этих противоречий, он столкнулся со случаем превращения пророка в вождя, с проблемой самозванничества. По жанру, по смыслу художественного исследования «Батум» оказался ближе всего к «Мольеру» («Кабала святош») и «Пушкину» («Последние дни»). И вместе с этими пьесами он образует вполне осмысленный триединый ряд: пророк пытается приспособиться к власти, пророк, осуществляя свой дар, бросает вызов власти, пророк становится властью. Булгаков написал к юбилею Сталина свою пьесу, ждали же от него совсем другого. Это и определило судьбу «Батума», а судьба автора уже была определена.
Пьеса «Батум» была написана Булгаковым за несколько недель, но шел он к ней многие годы. По существу, это единственное произведение писателя, посвященное рабочему классу, его революционной деятельности на Кавказе. Фигура Сталина, пожалуй, с конца 1920-х гг. постоянно была в мыслях писателя. Справедливо заметил драматург С.А. Ермолинский, многие годы друживший с Булгаковым, что «мысль написать о Сталине забродила в нем <...>. Вдруг стало ясно: все ближайшее будущее страны — и собственная жизнь, и жизнь каждого — зависела, и с каждым дыханием все больше, от этого всесильного человека. Он вырастал, как сила громадная, подавляющая. Можно ли было не думать об этом?» Булгакова-художника всегда интересовали яркие исторические личности — правители народов, характеры которых проявлялись в самых необычных формах правления, в том числе и в форме тирании.
Надежда встретиться со Сталиным («писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично Вами», просьба в письме «стать его первым читателем» и др.) и обсудить вопросы, столь волновавшие его как писателя, многие годы не покидала Булгакова. Эта мысль не оставляла его и в последние месяцы и дни жизни. Но встреча со Сталиным не состоялась, и желаемого диалога не последовало: поэтому Булгакову оставалось лишь продолжать высказывать свои взгляды в своих произведениях (и он считал это своим писательским и человеческим долгом). В середине 1930-х гг. Булгаков все ближе стал подходить к началу практического воплощения своего «сталиноведческого» замысла. По свидетельству Е.С. Булгаковой, постоянной темой их бесед с мужем был Сталин. Непременным героем его устных рассказов, сочинявшихся экспромтом, был Сталин. В своем дневнике Е.С. Булгакова впоследствии отмечала: «До чего люблю слушать рассказы про Сталина. Пусть многие апокрифичны. Но Миша всегда говорил: вокруг великих людей складываются легенды, но о каждом только своя, неповторимая для другого. <...> Вспоминала рассказ Александра Николаевича Тихонова. Он раз поехал с Горьким (при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского «Самоубийцу». Сталин сказал Горькому: «Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — интонационно). Это мне нравится!».
Но, судя по сохранившимся документальным свидетельствам, Булгаков не преувеличивал «доброго» отношения к нему Сталина. Свое положение он оценивал трезво. И ни для кого тогда не было секретом, что Сталин проявлял особый интерес к творчеству Булгакова, часто вел разговоры с руководством МХАТа о его работе, выделял «Дни Турбиных» среди других пьес, просмотренных им. Но мало кто знал, что Сталин был осведомлен о жизни и работе Булгакова в деталях, так как был знаком с дневниками писателя, которые тот вел в 1920-е гг. в течение нескольких лет. (Дневники были взяты ОГПУ в мае 1926 г. при обыске квартиры Булгаковых и скопированы). Заслуживает внимания мнение писателя К.М. Симонова по поводу пьесы о Сталине, выраженное им в рецензии на одну из книг о Булгакове: «Проблема Сталина. Серьезная проблема. В книге о Булгакове нельзя так, двумя строчками пройти мимо пьесы «Батум». Над этим надо серьезно подумать. Если уж говорить о Сталине в связи с Булгаковым, а очевидно это нужно, то нужно реально представить себе отношение Булгакова к Сталину в тот или иной период. Я думаю, например, что пьеса «Батум», наверное, не могла бы быть написана в 37 году, в разгар ежовщины. И могла появиться из-под пера Булгакова в 39 году, когда начали выпускать людей, и когда ежовщина была признана перегибами, и когда Сталин стремился создать ощущение и создал в значительной мере его, что не он, а другие дурные люди повинны в том, что произошло, а он увидел это, хотя бы и поздно, и исправил. Я даю очень примитивную формулировку, сознаю это, но, может быть, именно отзвуки этих представлений могли вызвать к жизни пьесу «Батум», которая, как мне кажется, не могла бы появиться из-под пера Булгакова в разгар репрессий 37-го года, даже если бы от появления этой пьесы зависела бы его собственная жизнь».
Тридцатые годы (особенно вторая половина этих лет), если судить по произведениям, были для Булгакова, безусловно, временем трудного переосмысления своих политических взглядов. Благотворно влияло на него семейное счастье. У Е.С. Булгаковой нашлись в дневнике и такие слова об этом времени: «На глазах у всех Миша стал успокаиваться, как-то, если можно так выразиться, расцветать внешне, к 1939 году он был прелестен и внешне и душевно». Это, конечно, часть правды. Другая ее часть состояла в том, что писательское положение его было тягостным и беспросветным, а работа либреттиста-консультанта даже в знаменитом Большом театре не могла его удовлетворить. Поэтому Булгаков внутренне как бы обрадовался, когда в сентябре 1938 г. к нему «с повинной» пришли представители МХАТа и предложили вновь сотрудничество. Повторилась отчасти история почти пятнадцатилетней давности, как с «Днями Турбиных», и Булгаков, после очень долгих колебаний, хотя и шла речь о давно задуманной им пьесе, дал согласие. Переговоры были длительными и исключительно острыми, обида на руководство Художественного театра из-за «Мольера» не исчезала. «Никогда я еще не видел его таким злым, таким мстительным, — вспоминал один из участников переговоров В.Я. Виленкин. — Чего только не было сказано в пароксизме раздражения о театре, о Станиславском, о Немировиче-Данченко... Но прошло несколько месяцев, и атмосфера разрядилась. Что ему самому явно хочется писать, мы почувствовали, когда он еще был настроен непримиримо. Театр предлагал осуществить его давний замысел и написать пьесу о молодом Сталине, о начале его революционной деятельности. Тем, что подобная тема предлагалась именно Булгакову, заранее предопределялась ее тональность: никакой лакировки, никакой спекуляции, никаких фимиамов; драматический пафос может родиться из правды подлинного материала, подлежащего изучению, — конечно, если только за него возьмется драматург такого масштаба, как Булгаков. <...> У него давно уже были заготовки пьесы о молодом Сталине, и в театре об этом знали от него самого...». Булгаков, испытывая естественное желание возвратиться к своему любимому делу и имея давний замысел написать пьесу о Сталине, сначала категорически отказался это сделать, а затем, согласившись, уже в процессе работы неоднократно выражал сомнения в возможности положительного исхода.
Можно представить себе те сложности, с которыми пришлось столкнуться Булгакову на этапе продумывания замысла в ходе работы над пьесой. Главная трудность, конечно, заключалась в том, чтобы создать исторически правдивый образ Сталина. Сделать это в условиях беспримерного восхваления этой личности было чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Но и поступиться собственной совестью и своими творческими принципами Булгаков также не мог. И, как представляется, драматург нашел исключительно удачный ход, решив показать Сталина совсем молодым человеком, только что вступившим на революционный путь. Тем самым Булгаков сразу освободил себя от множества вопросов, связанных с последующим стремительным возвышением Сталина и его деятельностью. Приведем вновь слова К.М. Симонова, который писал: «Прочитал я «Батум». Пьеса талантливая, как и все, что делал Булгаков. Что касается Сталина, то в этой пьесе, конечно, есть отношение к нему как к крупной личности, и в то же время нет никакого намека на коленопреклонение. Пьеса, по-моему, справедливая. Это очень важно». Действительно, Булгаков очень корректно, но с достоинством ведет беседу с грозным властелином, используя средства художественного воздействия. Не случайно драматург все время подчеркивает те трудности, которые приходится преодолевать Сталину в молодые годы. Булгаков как бы призывает Сталина вновь мысленно вернуться к тому времени, когда он был гоним властями и подвергался всевозможным издевательствам в тюрьме. Многократно произносятся слова о «слабой груди» Сталина и о том, что только чудо спасло его от верной гибели в Сибири. По мысли писателя, человек, прошедший тяжкие испытания в трудной борьбе с властью, а затем, в изменившихся условиях, достигнувший самого высокого положения в государстве, должен стремиться к справедливости и милосердию. Очевидно, Булгаков еще надеялся разбудить в очерствевшей душе правителя нечто человеческое. Ведь пьеса «Батум» по сути своей была глубоко гуманистической, осуждала практику насилия. И это, видимо, прекрасно впоследствии понял Сталин и по-своему оценил, хотя многое в пьесе ему могло и понравиться.
Драматург десятки раз менял название пьесы. Самые ранние наброски к «Батуму» на столе Булгакова появились 16 января 1939 г. Первая редакция называлась «Пастырь». В основу пьесы была положена история Батумской рабочей демонстрации 8—9 марта 1902 г., организованная Сталиным. Главным источником послужила книга «Батумская демонстрация 1902 года», выпущенная Партиздатом в марте 1937 г. (к 35-летию ее проведения) и содержавшая документы и воспоминания, призванные возвеличить первые шаги вождя по руководству революционным движением в Закавказье. В качестве вариантов заглавия, кроме «Пастыря», Булгаков рассматривал «Бессмертие», «Битва», «Рождение славы», «Аргонавты», «Геракл», «Кормчий», «Юность штурмана», «Так было», «Кондор», «Комета зажглась», «Штурман вел корабль», «Молния», «Вставший из снега», «Штурман вел по звездам», «Юность командора», «Юный штурман», «Юность рулевого», «Поход аргонавтов», «Штурман шел по звездам», «Море штормит», «Когда начинался шторм», «Шторм грохотал», «Будет буря», «Мастер» (!), «Штурман вел аргонавтов», «Комета пришла», «Как начиналась слава», «У огня», «Дело было в Батуме» и, наконец, самое точное и мудрое — «Батум». Поскольку действие пьесы разворачивается в основном в черноморском порту и на месте древнегреческой колонии, Булгаков пробовал названия, связанные с морем или героями древнегреческих мифов — аргонавтами, Гераклом. В ряде названий, начиная с «Пастыря», фигурирует образ молодого Сталина, выступающего в пьесе в качестве положительного героя мифа (иная трактовка по условиям цензуры была невозможна).
Булгаков набросал вчерне давно задуманную первую картину Пролога — сцену исключения Сталина из тифлисской семинарии — с участием Ректора, служителей семинарии и учеников. Среди реальных источников для первой картины в записях Булгакова названы «Духовный вестник Грузинского Экзархата» за 1894—1897 гг. Его особое внимание привлекли №№ 1, 23 и 24 за 1894 г. и № 24 за 1897 г. Привлекли не случайно. В черновых материалах к сцене исключения поставлены вопросы: «Зал? Церковь? День исключения? Процедуры? Обедня? Кто ректор? Каков?» Название пьесы (как уже отмечалось ранее) в первой редакции — «Пастырь»; зачеркнутый подзаголовок: «10 страниц жизни»; поверх заглавия сбоку написано: «Сны». Однако форма «снов», в отличие от пьесы «Бег», так и не была использована автором в этой работе, и, видимо, потому, что он знал недовольство Сталина количеством «снов» в «Беге» из письма вождя драматургу Билль-Белоцерковскому в 1929 г.
Картиной исключения Сталина из духовной семинарии Булгаков не только раздвинул хронологические рамки пьесы «Батум» (пьесы в 10 картинах), но также расширил ее общий исторический фон и идейный смысл. Целенаправленные действия своего героя он вывел из определенной идеи, из смены господствующего мировоззрения, когда старые религиозные ценности были безоговорочно отброшены, а на вооружение взята новая материалистическая революционная теория, понятая молодым Сталиным на уровне его политического, культурного и нравственного развития. Исследователи отмечали, что мрачная и по своему сильная речь Ректора семинарии, призывающая кару Господню на голову молодого отступника, была, наверное, единственным в своем роде открытым поношением Сталина (пусть и в прошедшей исторической эпохе) в советской драматургии 1930-х гг.: это был голос религиозного консерватизма, отказывающего идее безбожия и политического бунта против существующей власти в каком-либо нравственном оправдании. Булгаков поставил потенциальных читателей и зрителей своей пьесы перед фактором коренной перемены исторической роли и характера центрального действующего лица «Батума», равно как и полной перемены исторических декораций, отличавших эпоху Сталина от эпохи Николая II. Между двумя ипостасями вождя, обожествленного в массовом сознании современников — молодым революционером начала века и кровавым тираном 1930-х гг., — существовала, конечно, тайная путаная нить политической и психологической преемственности, никем еще тогда не распутанная и почти никак не осознанная. Булгаков был в числе первых русских писателей, кто на свой риск и страх едва заметно потянул эту нить из прошлого, не вполне представляя, каковы будут последствия этого последнего и самого опасного шага. В «Батуме» содержится не ответ, а только вопрос: каким образом молодой безвестный бунтарь, прошедший школу царской тюрьмы и ссылки, не только уцелел физически, но и стал тем, кто он есть, — абсолютным диктатором, затмившим на вершине государственной власти своих настоящих исторических предшественников — русских царей?
Следует отметить, что молодому Сталину места в «сталинском мифе» не находится и по сей день. Булгаков (и, что особенно характерно, вместе с ним и руководство МХАТа, и чиновники от искусства) вряд ли мог осознавать несоответствие образа молодого романтика-революционера тогдашнему официальному мифу, но Сталин такое несоответствие сразу же уловил. Высказывались предположения, что Булгаков в «Батуме» высмеял тирана, пусть в скрытой, эзоповой форме, или сознательно уподобил его Антихристу. Действительно, многие эпизоды пьесы в наши дни прочитываются довольно двусмысленно, в том числе сцена избиения главного героя тюремной стражей, позаимствованная из созданной в 1935 г. французским писателем-коммунистом Анри Барбюсом апологетической биографии Сталина. Трудно допустить, чтобы Булгаков, памятуя о печальной участи своей пьесы о Мольере, рискнул сознательно сделать какие-то двусмысленные намеки в пьесе о Сталине. Дело здесь в другом — во всеобщем свойстве любого мифа, который и от писателя (или драматурга, режиссера) и от читателя (зрителя, критика) требует строго однозначного, одинакового взгляда на события и героев. Положительный культурный герой всегда и всеми должен восприниматься положительно, отрицательный — отрицательно. Иного восприятия не могло быть у подавляющего большинства читателей и зрителей Булгакова в конце 1930-х годов. Мало кто рискнул бы представить себе Сталина отрицательным героем или даже просто обыкновенным живым человеком, а тем более обратил бы внимание на те или иные «подозрительные» моменты в биографии вождя (это было крайне рискованно и «непроходимо» для сцены); при перемене же точки зрения на события и героев такой миф непременно превращается в гротеск.
Отчасти, скорей интуитивно это понимал и сам драматург: у Булгакова уже было дурное предчувствие от первых восторгов слушателей. И, к сожалению, оно сбылось: драматические, а потом и трагические события не заставили себя ждать. 14 августа он вместе с женой во главе «бригады» мхатовцев выехал в Грузию для сбора в Батуми и Тбилиси материалов (грузинский фольклор, пейзажные зарисовки для декораций и т. п.) к постановке пьесы. Через два часа после отбытия из Москвы, в Серпухове, на имя Булгакова в вагон принесли телеграмму директора театра Г.М. Калишьяна: «Надобность поездки отпала возвращайтесь в Москву». Вернулись на машине из Тулы: от полученного морального удара у Булгакова обострились симптомы наследственной почечной гипертонии — нефросклероза, что привело к резкому ухудшению зрения (он велел зажечь свечи) и общему недомоганию... Что же произошло?
Вскоре, 17 августа 1939 г., к нему на квартиру пришли руководящие деятели МХАТа В.Г. Сахновский и В.Я. Виленкин. Согласно записи Е.С. Булгаковой, Сахновский заявил, что «театр выполнит все свои обещания, то есть — о квартире, и выплатит все по договору». Дело в том, что МХАТ, агитируя Булгакова писать пьесу о Сталине, прельстил его обещанием добиться лучшей квартиры — «квартирный вопрос» волновал писателя до конца жизни. Выполнить это обещание театр не успел, а деньги по договору честно выплатил. Сахновский также сообщил: «Пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв: нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать... Наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе». Власти и лично Сталин попали в точку, отчасти сказанное было сущей правдой. Булгаков, отвергая утверждение о «мосте», доказывал, что пьесу о Сталине он задумал в начале 1936 г., когда только что вышел «Мольер» и вот-вот должен был появиться на сцене «Иван Васильевич». Однако объективного значения «Батума» как попытки найти компромисс с властью этот факт принципиально не менял. Позднее, 10 октября, Сталин, разговаривая во МХАТе с Немировичем-Данченко, сказал, как записала в дневнике Елена Сергеевна, что «пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». Передавали и более пространный сталинский отзыв: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине». Очевидно, вождь по каким-то причинам не желал видеть на сцене себя молодого. Для мифа требовался образ уже умудренного жизнью человека, лидера великой страны. Для этой цели лучше всего годилась фигура Сталина конца 20-х — начала 30-х годов, когда он уже достиг «высшей власти». Молодой Иосиф Джугашвили в этом качестве для мифа не годился.
17
Немного оправившись от несостоявшейся поездки в Грузию в связи с «Батумом», 10 сентября 1939 г. Булгаковы поехали отдохнуть в Ленинград. Здесь писатель частично снова потерял зрение. Вернулись в Москву, где врачи установили острый гипертонический нефросклероз. Булгаков, сам врач, вспомнив смертельную болезнь отца, сразу осознал безнадежность своего положения. Власти проявили к больному определенное внимание: 11 ноября, явно после указания свыше, его посетил глава советских писателей А.А. Фадеев. С 20 ноября по 19 декабря Булгаков находился в правительственном санатории в Барвихе, где его состояние временно улучшилось. Драматург даже попытался вернуться к задуманной еще в мае 1939 г. пьесе «Ласточкино гнездо» — тематическое продолжение «Батума», которое могло бы составить с ним дилогию о Сталине. В задуманном драматургическом действии главными героями должны были стать затравленный опальный писатель, пытающийся с помощью конъюнктурной пьесы добиться, чтобы его впустили в «версальские залы», и соблазняющий его всесильный чин НКВД Ричард Ричардович. Но надежды героя «Ласточкиного гнезда» не сбылись: всесильный Ричард в конце концов кончал с собой, разоблаченный «человеком с трубкой» — Сталиным, а писатель оставался у разбитого корыта.
Часто навещали Булгакова артисты и режиссеры Большого театра. Ведь он был непременным и активным участником почти всех новых постановок. За советом к писателю приходили и во время его болезни. Тоскуя по театру, он забрасывал вопросами всех навещавших его. Почувствовав некоторое облегчение, Булгаков немедленно приехал на репетицию «Хованщины», а через несколько дней присутствовал на спектакле «Спящая красавица». К всеобщей радости сотрудников театра, Булгаков, скромно улыбаясь, заявил: «Видите, а мне все-таки удалось обмануть медицину». Конечно, писатель прекрасно понимал, что «обмануть медицину» ему не суждено. Он писал своему давнему другу-медику А. Гдешинскому в Киев, охарактеризовав со свойственной ему проницательностью свое трагическое положение: «До сих пор не мог ответить тебе, милый друг, и поблагодарить за милые сведения. Ну, вот, я и вернулся из санатория (Барвихи. — Б.М.). Что же со мною?.. Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать. Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется. Поточнее говоря о болезни: во мне происходит ясно мной ощущаемая борьба признаков жизни и смерти. В частности, на стороне жизни — улучшение зрения. Но, довольно о болезни! Могу лишь добавить одно: к концу жизни пришлось пережить еще одно разочарование — во врачах-терапевтах. Не назову их убийцами, это было бы слишком жестоко, но гастролерами, халтурщиками и бездарностями охотно назову. Есть исключения, конечно, но как они редки! Да и что могут помочь эти исключения, если, скажем, от таких недугов, как мой, у аллопатов не только нет никаких средств, но и самого недуга они порою не могут распознать. Пройдет время, и над нашими терапевтами будут смеяться, как над мольеровскими врачами. Сказанное к хирургам, окулистам, дантистам не относится. К лучшему из врачей, Елене Сергеевне, также. Но она одна справиться не может, поэтому принял новую веру и перешел к гомеопату. А больше всего да поможет нам всем больным — Бог! <...>».
Особая забота была проявлена к Булгакову после неудачи с пьесой «Батум» и во время развивавшейся болезни. Характерна реакция коллектива МХАТа на запрещение пьесы. По свидетельству очевидцев, актеры «были убиты» этим сообщением. Первый осенний сбор труппы прошел под впечатлением этого печального события. Руководством МХАТа сразу же было заявлено Булгакову, что театр ни в коем случае не меняет своего отношения ни к пьесе, ни к нему лично. Более того, было обещано полностью выплатить ему по договору и предоставить квартиру. Интерес же к пьесе не ослабевал. С.А. Самосуд, главный дирижер Большого театра, например, немедленно предложил Булгакову переделать пьесу в либретто, а Шостаковичу написать к ней музыку. «Ведь опера должна быть романтической», — уговаривал он. Однако писатель любезно отказался. Поступил ряд предложений от киностудий о подготовке сценария по «Батуму». В ответ последовал корректный отказ. Московские и многие периферийные театры предлагали Булгакову заключить договоры на подготовку новых пьес. Аналогичные предложения поступили и от Комитета по делам искусств. Писатель же сохранял равнодушие к предложениям: подступившая болезнь не давала ему работать. Е.С. Булгакова, несмотря на тяжелую обстановку, старалась записывать в дневнике наиболее важные, с ее точки зрения, события. Она не переставала верить в возможность чуда. Записи в дневниках пронизаны именно этой верой: «1940 год. 1 января. <...> Вчера часов в 11 пришел Ермолинский, и мы вчетвером — Миша, Сережа (Шиловский. — Б.М.), Сергей Ермолинский и я — тихо, при свечах встретили Новый год: Ермолинский с рюмкой водки в руках, мы с Сережей — белым вином, а Миша — с мензуркой микстуры. Сделали чучело Мишиной болезни — с лисьей головой (от моей чернобурки), и Сережа, по жребию, расстрелял его. <...> 16 января. 42 градуса. <...> Сережа не пошел в школу конечно. Окна обледенели, даже внутренние стекла. Работа над романом. <...> Сестра Миши — Елена пришла, читала роман запоем («Мастер и Маргарита»). Пришел Ермолинский в валенках, читал вслух кусочек романа — воробушек. Мишин показ воробушка. Сережка наш — в военной форме — томится от бездействия. <...> Ужин на письменном столе — Мишином. Я верю, что он поправляется. 17 января. 42°. За окном какая-то белая пелена, густой дым. <...> Сегодня днем в открытую на кухне форточку влетела синичка. Мы поймали ее, посадили в елисеевскую корзину. Она пьет, ест пшено. Я ее зову Моней, она прислушивается. Говорят, птица приносит счастье в дом. <...>». Но и эта синица не принесла счастья в дом. В конце января начался новый сильнейший приступ болезни...
Конец 1939-го и начало 1940-го гг. для Булгакова были отчасти и творческими, несмотря на прогрессирующую болезнь. В Ленинграде в составе третьего тома собрания сочинений Мольера вышла пьеса «Скупой» в булгаковском переводе. В это же время происходит усиленная правка («авторская корректура») машинописного варианта романа «Мастер и Маргарита», выполненного летом 1938 г. Хотя из него вычеркивались старые и вписывались новые сюжеты и отдельные сцены, сам роман пробрел уже известную теперь завершенность и фабульную структуру. Исчезли прежние названия начала-середины 1930-х гг. — «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы», — утвердилось окончательное заглавие — «Мастер и Маргарита». Внесение поправок умирающей писатель делал до 13 февраля 1940 г. — всего лишь за месяц до своей кончины (когда окончательно ослеп, он продолжал диктовать Елене Сергеевне). Правка остановилась на словах Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Скоро эта фраза осуществилась, увы, буквально. 8 февраля ведущие артисты МХАТа В.И. Качалов, А.К. Тарасова, Н.П. Хмелев по просьбе Елены Сергеевны обратились с письмом к Сталину через А.Н. Поскребышева. Они сообщили сталинскому секретарю о тяжелой болезни Булгакова и резком ухудшении его состояния: «Трагической развязки можно ожидать буквально со дня на день. Медицина оказывается явно бессильной, и лечащие врачи не скрывают этого от семьи. Единственное, что, по их мнению, могло бы дать надежду на спасение Булгакова, — это сильнейшее радостное потрясение, которое дало бы ему новые силы для борьбы с болезнью, вернее — заставило бы его захотеть жить, — чтобы работать, творить, увидеть свои будущие произведения на сцене. Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычной чуткости к нему, его поддержке. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону десять лет тому назад, о разговоре, вдохнувшем тогда в него новые силы. Видя его умирающим, мы — друзья Булгакова — не можем не рассказать Вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдете возможным сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу».
Явным следствием данного обращения стал визит к Булгакову Фадеева 15 февраля. Елена Сергеевна записала в дневнике: «Разговор вели на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления». Похоже, давнишняя и нереализованная мечта о заграничной поездке теперь могла бы стать действительностью, но больному писателю уже не суждено было ее осуществить... Булгаков умирал долго и мучительно. 4 марта 1940 г. Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике одно из последних его высказываний: «Я хотел служить народу... Я хотел жить в своем углу... Я никому не делал зла...» Е.С. Булгакова вспоминала и самые последние слова мужа: «...Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье — лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и «да» и «нет». Я сказала: «Мастер и Маргарита»? Он, страшно обрадованный, сделал мне знак головой, что «да, это». И выдавил из себя два слова: «Чтобы знали, чтобы знали»».
Умер Булгаков 10 марта 1940 г. в 16 часов 39 минут.
Через 20 лет Елена Сергеевна писала Н.А. Булгакову о Михаиле Афанасьевиче: «Он умирал так же мужественно, как и жил... не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник — правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество — безмерно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, — невозвратима».
Организацию гражданской панихиды и похорон взял на себя Литфонд Союза писателей с привлечением МХАТа и ГАБТа, последнего места работы Булгакова. 11 марта состоялась гражданская панихида в здании Союза советских писателей на Поварской улице. Перед панихидой московский скульптор С.Д. Меркуров снял с лица покойного посмертную маску. Газета «Вечерняя Москва» сообщала: «11 марта днем гроб с телом покойного драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова был переведен в помещение Союза советских писателей. На гроб возложено много венков и цветов. В почетном карауле стояли тт. И.К. Луппол, Вс. Иванов, Л.М. Леонов, С.Я. Маршак, В.Г. Сахновский, Н.П. Хмелев, А.М. Файко, С.А. Самосуд, Я.Л. Леонтьев, М.И. Прудкин, А.О. Степанова, В.Я. Станицын и др. Гражданскую панихиду открывает академик И.К. Луппол. От имени Союза писателей выступает Вс. Иванов <...>. От имени Всесоюзной комиссии по драматургии, театру и кино выступает А.М. Файко. <...>. По поручению коллектива Художественного театра выступает народный артист РСФСР В.О. Топорков. <...> От коллектива Большого театра глубокую скорбь выражает главный режиссер театра Б.А. Мордвинов. <...> Траурное собрание закончено. До позднего вечера с прахом покойного приходили проститься советские писатели, артисты, интеллигенция столицы».
На следующий день были сами похороны. По завещанию писателя хоронили без церковного отпевания, без музыки, с кремацией тела (мемуаристы и родственники М.А. Булгакова отмечают, что, несмотря на атеистичность, «расцерковленность», он соблюдал некоторые христианские обряды: праздники, именины, он был «по-своему верующий», вместе с Еленой Сергеевной испрашивал разрешения у Патриарха на развод и новый брак. И перед смертью просил П.С. Попова отслужить панихиду после его кончины, что и было тайно сделано. Сестра Надежда так записала в своем дневнике о последних днях брата: «<...> Сажусь у постели в кресло. Миша: «Ну, давайте веселиться!» Разговор об Андрюшиной (А.М. Земского, мужа Н.А. Земской. — Б.М.) бороде: «Вы еще тогда в 60-е годы — в народ. <...> Последний раз я вижу его умирающим в ночь с 9.III на 10.III. Вера (сестра) приезжает ночью за мной на автомобиле. <...> Похороны. Поведение Жени (Шиловского) (?). Нежить вокруг. Поведение писателей. <...>».)
Ставшая вдовою Е.С. Булгакова записала в специальной тетради «Март 1940 г.»: «У крематория масса машин, очень много мхатовцев, из Большого театра, литературно-артистическая интеллигенция. На гроб возложила цветы О.Л. Книппер-Чехова. Речь говорил Сахновский...». Один из руководителей МХАТа В.Г. Сахновский, в частности, сказал: «Непреодолима потребность Художественного театра выразить всю глубину признательности, который он испытывает к Михаилу Афанасьевичу... Михаил Афанасьевич был для нас не только близким человеком, он был тем драматургом, встречи с которым в Художественном театре не так уж часты. Значительность этих встреч вряд ли мы можем оценить полностью теперь, трудно оценить и потом, что перед нами его образ как человека — и как человека мы его утратили... Но Художественный театр знает, что искусство сильнее смерти, — и для нас Михаил Афанасьевич есть подлинный рыцарь искусства. Мы видим его для нас как художника сложного, острого, мудрого, доброго. И его утрата для нас, конечно, необыкновенно тяжела. Но мы не прощаемся с ним, не расстаемся...». И последняя запись Елены Сергеевны: «После речи Сахновского гроб опустился. Толпа, что очень поражало, была сплошь интеллигентная. Будто бы был мой <...> муж-военный (Е.А. Шиловский. — Б.М.). Передавали разговор: вот, наконец, культурные похороны...».
О последних днях умирающего писателя так вспоминал С.А. Ермолинский: «Это были дни молчаливого нравственного страдания. Слова медленно умирали в нем... Обычные дозы снотворного перестали действовать. И появились длиннющие рецепты, испещренные кабалистическими латинизмами. По этим рецептам, превосходившим все полагающиеся нормы, перестали отпускать лекарства нашим посланцам: яд. Мне пришлось самому пойти в аптеку, чтобы объяснить в чем дело. <...> Я поднялся в зал, попросил заведующего. Он вспомнил Булгакова, своего обстоятельного клиента, и, подавая мне лекарство, печально покачал головой. <...> Ничего уже не могло помочь. Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы были близко, и как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и, даже тихонько не застонав, говорил, едва слышно, одними губами: «Вы хорошо это делаете... Хорошо...». Никого, кроме нас, он уже к себе не подпускал. Он ослеп. Когда я наклонялся к нему, он ощупывал мое лицо руками и узнавал меня. Лену (Елену Сергеевну. — Б.М.) он узнавал по шагам, едва только она появлялась в комнате. Булгаков лежал на постели голый, в одной набедренной повязке (даже простыни причиняли ему боль), и вдруг спросил меня: «Похож я на Христа?..» Тело его было сухо. Он очень похудел. Все последние ночи со мною вместе (в комнате маленького Сережи, на полу) ночевал Дмитриев и Борис Эрдман. С утра приходил Женя, старший сын Лены. Булгаков трогал его лицо, узнавал его и улыбался. <...> Днем он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете. <...> Ночью приехал из Вышнего Волочка Николай Эрдман. В Москве ему жить было запрещено, он приехал тайно. Пробыл два часа в молчании и уехал. Пахло формалином. Меркуров снимал маску. <...> Очень много народу перебывало в квартире. Меньше всего было литераторов. Когда его везли в крематорий, заехали в Художественный театр. Вся труппа и служащие ждали его у подъезда. Потом проехали к Большому театру — там, у колонн, стояла толпа, тоже ждали его. Он не видел, как много людей пришло проводить его. Знал ли он их? В последнее время он стал несправедливо недоверчив к людям, ожесточился и он не увидел, что был неправ. Он не узнал, сколько смелых и честных людей, не просто людей — граждан — вырастила наша страна, и писателей в том числе; не дожил до того, чтобы увидеть изданные книги беззаконно осужденных и погибших его товарищей. Как не увидел и эти страницы, написанные про него уже в другое время» (Запись 1964—1965 гг.).
Посреди безмолвного горя и страшной обыденности похорон требовательно, словно из другого мира, зазвонил телефон. Подошел Сергей Ермолинский. Звонили из секретариата Сталина: «Правда ли, что умер товарищ Булгаков?» — «Да, он умер». На другом конце провода помолчали и аккуратно положили трубку. Далее последовали внешне разрозненные события, связь между которыми видна лишь сегодня.
15 марта в «Литературной газете» появились фотография и некролог: «Умер Михаил Афанасьевич Булгаков — писатель очень большого таланта и блестящего мастерства...» Подпись одна, коллективная — «Президиум Союза советских писателей». Тогда же глава ССП А. Фадеев, благоразумно отсутствовавший на похоронах, прислал Е.С. Булгаковой неожиданно смелое, прочувствованное письмо, как и напечатанный некролог, написанное сердечно, не казенно. Там были и такие строки: «...Мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный и очень умный — с ним, даже с тяжело больным, было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он — человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что его путь был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил».
Время дало оценку этому теперь широко известному высказыванию «писательского генерала» об умершем Булгакове. А ведь в тогдашней литературе, официальной, советской ее части, давно не существовало такого писателя. Булгаков молчаливо считался «явлением незаконным». Высокопоставленные литчиновники из секретариата ССП старались не замечать, избегали встреч. Фадеев же писал, что автор «Мастера и Маргариты» якобы «...не все видел так, как оно было на самом деле...» Современные исследователи, комментируя эти строки, подчеркивают, что очень разные итоги судеб Булгакова и Фадеева показывают: на самом деле все обстояло как раз наоборот. В предсмертном письме застрелившегося в мае 1956 г. А.А. Фадеева о себе сказано горестно: «И нет никакого стимула в душе, чтобы творить...», а о М.А. Булгакове так: «Лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте...». Приведенные строки перекликаются со словами фадеевского письма 1940 г.: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью...» Даже если бы слова эти были сказаны вдове опального писателя с глазу на глаз, они, с точки зрения тогдашних «людей политики», выглядели бы непростительной, опасной оплошностью. Но они содержатся в официальном письме одного из руководителей Союза писателей СССР, заметного и влиятельного члена ЦК ВКП (б). Значит, Фадеев знал, что делал, и говорил он не только от своего имени: в его формулировке — «люди политики» — это Политбюро во главе со Сталиным.
Похоронили Булгакова на Новодевичьем кладбище неподалеку от могил Чехова и известных деятелей МХАТа. При этом удивляет загадочная смелость обычно осторожнейших советских чиновников. Как они решились на это? Ведь ни Художественный, ни Большой театры, где работал писатель, не имели права, да и не захотели бы хоронить прах беспокойного и не очень значительного своего служащего в заповедной земле, предназначенной в лучшем случае для народных артистов СССР. И по линии Союза писателей такую льготу вряд ли можно было бы предположить. Тем не менее урна с прахом Булгакова была захоронена (правда, не сразу, в марте, а три месяца спустя) на мхатовском участке среди вишневых деревьев в Старой части кладбища...
Анна Ахматова, давнишний друг Булгакова и его семьи, узнав о смерти писателя, написала стихи в его память. Там есть такие строки:
Вот это я тебе взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья,
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты, как никто, шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне. <...>
Придется поминать того, кто полный сил
И светлых замыслов и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь смертельной боли.
* * *
Жизнь, между тем, продолжалась. Ставшая вдовой, Елена Сергеевна Булгакова прилагала массу усилий, чтобы после организованных так пышно похорон не наступило, как это бывает, тягостное молчание забытья. По ее инициативе была образована наследственная комиссия во главе с А.А. Фадеевым. Е.С. Булгакова имела на это полные права. Еще 10 октября 1939 г. ее мужем было оформлено нотариально заверенное «Завещание»: «Город Москва, улица Фурманова, дом № 3, квартира № 44. Настоящим завещанием, на случай моей смерти, делаю следующее распоряжение: 1. Все мое имущество, какое только в день смерти моей окажется мне принадлежащим, где бы таковое ни находилось и в чем бы ни заключалось, завещаю в полную собственность жене моей БУЛГАКОВОЙ Елене Сергеевне. <...> [Подпись: М. Булгаков Подпись: нотариус Зенюк А.А.]».
И уже 24 марта 1940 г. в газете «Советское искусство» появилась такая информация: «Литературное наследство М.А. Булгакова. Президиум Союза советских писателей СССР образовал Комиссию для приема и разработки литературного наследства покойного М.А. Булгакова. В состав Комиссии вошли: Н.Н. Асеев, Е.С. Булгакова, В.Я. Виленкин, П.А. Марков, С.Я. Маршак, П.С. Попов, А.М. Файко, К.А. Федин, Н.П. Хмелев и С. Шафаров». (В другой газете — «Вечерняя Москва» за 22 марта — после перечня членов Комиссии была приписка: «Президиум Союза писателей поручил Комиссии по разработке литературного наследства Булгакова подготовить к печати собрание избранных произведений писателя»). Судя по всему, Комиссия начала активно действовать. Уже 11 июня 1940 г. в той же «Вечерней Москве» появилась такая заметка: «Пьесы М. Булгакова. В издательстве «Советский писатель». После смерти талантливого драматурга Президиум Союза советских писателей СССР принял решение об издании его литературного наследства. На заседании редакционного совета издательства «Советский писатель» было заслушано сообщение критика Ю. Юзовского о драматургическом наследии Булгакова. М.А. Булгаковым написано шесть пьес: «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», «Дон Кихот», «Александр Пушкин» и «Иван Васильевич». Большинство этих пьес неизвестно зрителям, и все шесть неизвестны читателям, поскольку ни одна из них никогда и нигде не печаталась. <...> Заслушав и обсудив сообщение тов. Юзовского, редакционный совет постановил издать все пьесы Михаила Булгакова отдельной книгой». Увы, этому прекрасному решению не суждено было осуществиться. Помешали различные обстоятельства, а через год грянула война... Первый сборник пьес вышел только через 15 лет.
Дети Булгаковых: Вера и Миша. 1894 г. Брат и сестра перед объективом фотокамеры на время оставили игру в «вертепные» куклы — «Деву Марию» и «Черта», персонажей театрализованного «вертепного действа», происходившего в дни Рождества Христова в Киеве
Булгаков Афанасий Иванович. 1880-е гг.
Покровская (Булгакова) Варвара Михайловна. 1914 г.
Дети Булгаковых: Вера, Миша, Надя, Варя. 1897 г.
Дети Булгаковых. 1906 г. Слева направо, стоят: Вера, Миша, Варя, Надя; сидят: Коля и Ваня; внизу Елена (Лёля)
1908 г.
Лаппа Татьяна. 1906 г.
Булгакова Варвара Михайловна с детьми. 1907 г. Слева направо, стоят: Михаил и Вера; сидят: Надя, Варвара Михайловна, Коля, Варя; внизу: Елена, Ваня.
Семья Булгаковых. 1907 г. Слева стоит Надя; у стола впереди стоят Коля и Лёля; слева направо за столом сидят: Ваня. Илария (Лиля), Вера, Миша, Варвара Михайловна, Костя («японец»), Цитович (Булгакова) Ирина Лукинична
1909 г.
Михаил с сестрой Надей (сидит) и женой Татьяной. 1915 г.
1916 г.
1916 г.
Булгаковы-Покровские с родственниками и друзьями. Сентябрь 1913 г. Слева направо: Михаил Михайлович Покровский, Иван Павлович Воскресенский, Варя, Варвара Михайловна, Николай Михайлович Покровский, Борис Богданов, Леля (Елена), Муся Лисянская, Надя, Михаил, Ирина Лукинична Булгакова. (Архив И.А. Гусевой)
Молодые Булгаковы и их друзья в маскарадных костюмах. 1910 г. Вверху (справа) в гриме «Негра» (в белой фуражке) — Михаил
Начало 1920-х гг. (фотоснимок из журн. «Рупор», 1922, № 4).
1920-е гг.
Портрет М.А. Булгакова, сделанный на заседании «Никитинских субботников» 22 декабря 1923 г. Художник А. Куренной
М.А. Булгаков. Шарж художника Е. Мазаева. Середина 1920-х гг.
М.А. Булгаков. Шарж художников Кукрыниксы 1924 г. Этот дружеский шарж родные и друзья Булгакова называли «Мака Булгака — блошиный царь», имея в виду феноменальный успех Михаила Афанасьевича в модной тогда настольной игре в «блошки» и его домашнее шутливое имя — Мака
Три московских писателя. 1920-е гг. Слева направо: В.П. Катаев, Ю.К. Олеша, М.А. Булгаков
М.А. Булгаков. Шарж неизвестного художника. 1970-е гг.
Середина 1920-х гг.
Листовничий Василий Павлович. 1900-е гг.
Крынская (Листовничая) Ядвига Викторовна. 1900-е гг.
Листовничий Василий Павлович с дочерью Инной Листовничей (в замужестве Кончаковской). 1910-е гг.
Середина 1920-х гг.
Середина 1920-х гг.
Белозерская Любовь Евгеньевна. 1925 г.
Белозерская Любовь Евгеньевна. 1900-е гг.
Белозерская Любовь Евгеньевна. 1910-е гг.
Белозерская Любовь Евгеньевна. 1916 г.
1926 г.
Покровский Николай Михайлович. 1915 г.
Покровский Михаил Михайлович. 1900 г.
Лямин Николай Николаевич. 1920-е гг.
Ушакова Наталья Абрамовна. 1920-е гг. (Архив А.А. Задикяна)
Попов Павел Сергеевич. 1940 г.
Чимишкиан Марика Артемьевна. 1920-е гг.
Шпет Густав Густавович. 1920-е гг.
Шапошников Борис Валентинович. 1930 г.
Долгорукий Владимир Николаевич. 1930-е гг.
Топленинов Сергей Сергеевич. 1920-е гг. (Архив А.А. Задикяна)
Середина 1920-х гг.
Портрет «М.А. Булгаков в Коктебеле. 1295 г.» Масло. Художник А.П. Остроумова-Лебедева
Артист МХАТа Николай Павлович Хмелев в роли полковника Алексея Турбина в спектакле «Дни Турбиных». 1926 г. (Архив Ю.М. Кривоносова). В этой роли Н.П. Хмелева очень любил Сталин. Он говорил артисту: «Не могу забыть вашего Алексея, мне даже его черные усики снятся... <...>»
Взятие «крепости» МХАТ. Шарж художников Кукрыниксы. Середина 1920-х гг. Слева направо: «обороняют» — Г. Ибсен, А. Чехов, Л. Толстой; «нападают и проникают» — Ю. Олеша, В. Катаев, М. Булгаков, Вс. Иванов, П. Марков, Л. Леонов
У Лямина Н.Н. 1920-е гг. Николай Николаевич Лямин (слева) и Сергей Сергеевич Топленинов за шахматами. Двойной групповой портрет (фото-шутка). (Архив А.А. Задикяна)
1927 г.
1928 г.
Супруги Булгаковы с друзьями. 1926 г. Слева-направо: С.С. Топленинов, М.А. Булгаков, Н.Н. Лямин, Л.Е. Белозерская (Булгакова)
Конец 1920-х гг.
Сталин Иосиф Виссарионович. 1920-е гг.
М.А. Булгаков (в центре) с московскими литераторами. Апрель 1930 г. Слева — М. Файнзильберг, В. Катаев; справа — Ю. Олеша, И. Уткин. (Архив Ю.М. Кривоносова)
Чимишкиан Марика Артемьевна. 1920-е гг. (Архив А.А. Курушина)
М.А. Булгаков и его «пречистенские друзья». 1930 г. Слева направо: М.А. Булгаков, В.Н. Долгорукий (Владимиров), С.С. Топленинов, П.И. Васильев
1928 г.
Смирнова Маргарита Петровна. Конец 1920-х гг. (Архив А.Б. Славиной)
Смирнов Алексей Николаевич и Смирнова Маргарита Петровна. Середина 1930-х гг.
Проект обложки к изданию романа «Мастер и Маргарита». 1970-е гг. Художник Н.А. Ушакова.
Середина 1930-х гг.
1930-е гг.
В роли Президента суда спектакля МХАТа «Записки «Пиквикского клуба». 1934 г.
Уильям Буллит. 1933 г.
М.А. Булгаков и артисты МХАТа в радиоспектакле «Пиквикский клуб» 27 декабря 1934 г. Слева-направо: М.А. Булгаков (в роли президента суда), Владимир Грибков (Пиквик), Михаил Болдуман (Фогг), Александр Карев (Додсон), Евгения Морес (Малютка Бардль и другие женские роли), Иосиф Раевский (Перкер), Василий Топорков (Сэм Уэллер). (Фото из журн. «Говорит СССР», 1935, № 3. Атрибуция Ф.Р. Балонова).
Супруги Булгаковы: Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна. Апрель 1935 г.
Апрель 1935 г.
Февраль 1936 г.
Булгаковы: Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна. 1934 г.
Булгаковы: Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич. 1936 г.
Керженцев Платон Михайлович. 1925 г.
Середина 1930-х гг.
М.А. Булгаков. Шарж художника Б. Ливанова. 1930-е гг.
1927 г. (Архив Ю.М. Кривоносова)
1936 г.
1930-е гг.
Булгакова Елена Сергеевна. 1936 г.
Середина 1930-х гг.
Середина 1930-х гг.
Рукописная афиша о чтении М.А. Булгаковым пьесы «Батум» во МХАТе 27 июля 1939 г. (Из дневника Е.С. Булгаковой: «27 июля. В 4 часа гроза. Калишьян (директор МХАТа. — Б.М.) прислал машину за нами. В театре, в новом репетиционном помещении — райком, театральные партийцы и несколько актеров. Когда подъехали к театру — висела афиша о читке «Батума», написанная акварелью, вся в дождевых потеках. «Отдайте ее мне!» — сказал Миша Калишьяну. — «Да что вы, зачем она вам? Знаете, какие будут у вас афиши? Совсем другие!» — «Других я не увижу». <...>»).
Декабрь 1939 г. На одной такой фотографии, сделанной в сана тории «Барвиха», где писатель в черных очках, шубе и шапке из меха американского медведя гризли, была сделана такая памятная надпись: «Жене моей Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, надписываю этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличить правду от неправды. М. Булгаков, 11 февр. 1940 г.».
С больным Михаилом Афанасьевичем Е.С. Булгакова, П.С. Попов, Сережа Шиловский, М.А. Чимишкиан. Январь 1940 г.
Февраль 1940 г. (Архив Ю.М. Кривоносова)
Михаил Афанасьевич с Сережей Шиловским и С.А. Ермолинским. Февраль 1940 г.
Посмертная маска. Скульптор С.Д. Меркуров
11 марта 1940 г.
Могила М.А. Булгакова на Новодевичьем кладбище. 1960-е гг.
Могила Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых на Новодевичьем кладбище. 1970 г.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |