Помимо черт типологического сходства в проблематике и художественной структуре антиутопий Карела Чапека и Михаила Булгакова, у русского писателя существовал, судя по всему, и творческий контакт с Карелом Чапеком. В истории создания его пьесы «Адам и Ева» (1931) есть, видимо, точки соприкосновения с драмой К. Чапека «R.U.R.» (1920) — той самой, в которой впервые в мировой литературе была высказана и развита идея робота и появилось само слово «робот». И.Е. Ерыкалова, комментируя пьесу Булгакова «Адам и Ева» в собрании его сочинений, отметила: «В 1924 году А. Толстой написал по мотивам "Р.У.P." К. Чапека пьесу "Бунт машин", в которой есть герой-робот по имени Адам, обладающий чувством боли, страха и пола. Несомненно, этот сюжет был использован Булгаковым при создании лишенного нравственной предыстории первого человека Адама, который занят поисками человеческого материала (для осуществления своих идей и планов. — С.Н.)»1. Правда, в другом, позднее написанном варианте комментария дана более осторожная, предположительная формулировка: «Возможно, что и этот сюжет был использован Булгаковым при создании...»2. Тем не менее существуют действительно веские основания считать вероятность такого контакта достаточно высокой. Тем более небезынтересно эти пьесы сопоставить.
Для ясности дальнейшего изложения напомним в самых общих чертах содержание драмы Чапека «R.U.R.». В основе ее лежит увлекательное научно-фантастическое допущение, будто некоему ученому удалось найти способ искусственного получения живой материи, а затем были созданы существа, внешне неотличимые от человека, хотя и не обладающие многими его свойствами и качествами. Они были лишены каких бы то ни было чувств, переживаний, эмоций, не знали ощущения боли и наслаждения, инстинкта самосохранения, страха смерти, любви и ненависти. Подобно машине, они были полностью безразличны ко всему происходящему как вокруг них, так и с ними самими. Естественно, им неведома была духовная жизнь. Они обладали лишь способностью к труду и механическому мышлению, лишенному творческого начала. Словом — двойник человека без человеческой сущности. Вскоре было налажено фабричное производство искусственных людей, их стали использовать на всевозможных работах и в военном деле. Праздное человечество тем временем деградирует. Однажды была выпущена партия роботов, которым привили некоторую толику чувств, но они по иронии судьбы стали инициаторами мятежа. Роботы восстают против людей, и все население планеты погибает. Правда, из финала пьесы ясно, что человеческому роду суждено возродиться в очеловеченных роботах. Двое из них познают тайну любви.
Главные действующие лица драмы — генеральный директор комбината по производству роботов Домин, несколько руководителей различных отделов и гостья комбината, а вскоре затем жена Домина, красавица Елена. Она и является прежде всего олицетворением авторской позиции. Если Домин одержим идеей форсированного прогресса и персонифицирует представление о радикальном волевом вмешательстве в жизнь, о силе, о власти, о технократии (само имя «Домин» образовано от латинского «dominus» — «господин»), то Елена — воплощение чувства, сочувствия, привязанности к естественному, природному и духовному началу в человеке. И на остров, где расположен комбинат, она прибыла как представительница Лиги гуманности. Чем дальше, тем все больше ею овладевает зловещая тревога, которую вызывает у нее деятельность мужа, атмосфера техницистско-коммерческой цивилизации, движимой лишь погоней за увеличением производства и дивидендов и вытесняющей человечность. В самом производстве нелюдей-роботов ей чудится измена и угроза человеческой природе. В чапековской антиутопии даже возникает мечта-утопия Елены о бегстве из этого чуждого ей мира и о создании маленькой колонии, основанной на истинно человечных отношениях и способной указать иной путь жизни человеческому роду. В конце концов в порыве смятенных чувств Елена сжигает рукописи, в которых хранились сложные формулы производства роботов3.
Драма Чапека «R.U.R.» попала в поле зрения Алексея Толстого, который познакомился с ней в 1923 г. (незадолго до своего возвращения из эмиграции на родину) в постановке одного из берлинских театров4. Он высоко оценил пьесу как «динамитную по содержанию и динамичную по силе развития действия» и отметил, что тема ее «мощна, грандиозна и Символична»5. Драма настолько увлекла его, что он создал нечто вроде своего ее варианта под названием «Бунт машин». Премьера состоялась в апреле 1924 г. в Петрограде. Тогда же появилось книжное издание. В предисловии Толстой сообщил: «Написанию этой пьесы предшествовало мое знакомство с пьесой ВУР чешского писателя К. Чапека. Я взял у него тему. В свою очередь ВУР заимствована с английского и французского. Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов»6. В этом сообщении есть две неточности. Во-первых, не соответствует действительности, будто Чапек также у кого-то заимствовал тему своей пьесы. Никаких подтверждений этому не существует. Драма Чапека еще в 20-е гг. получила всемирную известность благодаря воплощенной в ней эвристической идее робота. Об этой драме много писали в разных странах, но утверждение Толстого о якобы заимствованной Чапеком теме осталось единственным в своем роде (некоторая связь чешского писателя с традициями Уэллса, естественно, еще не означает заимствования темы). Во-вторых, не вполне точно, что сам Толстой взял у Чапека только тему. Им сохранена фабульная канва, основные сюжетные узлы, многие частные мотивы и даже отдельные подробности. Не так уж сильно изменена система действующих лиц. Сохранен в основных чертах и образ Елены; без изменений оставлено даже имя (возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что у обоих авторов были ассоциации со знаменитой античной героиней, ставшей символом женской красоты). Сохранена и оппозиция образов Елены и Домина (в драме Толстого он носит имя Морей). Пьеса русского писателя по сути представляет собой творческие вариации на тему фантастической драмы Чапека. Да позднее и сам Толстой в «Автобиографии» отнес «Бунт машин» к числу своих «театральных переработок»7. Все это не исключает ни талантливого перевоплощения ряда мотивов, ни введения нескольких новых персонажей, ни новых акцентов и определенных художественных находок. Тем не менее читатель (зритель), знакомясь с пьесой Толстого, по существу знакомится в основных чертах и с пьесой Чапека, что, естественно, относится и к Булгакову.
О пьесе Чапека и о «Бунте машин» Булгаков, по всей вероятности, услышал впервые от самого Алексея Толстого — скорее всего в конце лета — начале осени 1923 г., когда они много общались. Заочно они были знакомы и раньше. Еще находясь в эмиграции и участвуя в издании сменовеховской газеты «Накануне», выходившей в Берлине (с литературным приложением) и доставлявшейся в крупные города СССР, Толстой выделял Булгакова среди других авторов и просил московских сотрудников редакции присылать побольше его материалов8. Очное знакомство состоялось весной 1923 г., когда Толстой на короткое время приезжал из Берлина в Москву. 24 мая Булгаков упомянул об этом событии в дневнике (с. 50), а пять дней спустя, 30 мая, организовал литературный вечер в честь него. Первая жена Булгакова Т.Н. Лаппа вспоминала: «Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Коморским, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали. <...> Но Зина (жена Коморского. — С.Н.) заболела и лежала в постели, и они решили меня позвать, потому что нужна была какая-то хозяйка, угощать этих писателей. Народу пришло много, но я не помню кто. Катаев, кажется, был. Слезкин <...>. Может быть, еще Пильняк был, Зозуля. Не помню. Алексею Толстому все прямо в рот смотрели...»9. Позднее этот ужин был с юмором описан Булгаковым в «Театральном романе», где Алексей Толстой выведен в образе Измаила Александровича Бондаревского. Под вымышленными именами обрисованы также Пильняк, Слезкин, Леонов. (Т.Н. Лаппа отметила, что пиршество было все же более скромным, чем описано в романе.)
Встречи Булгакова с Толстым возобновились спустя три месяца, после окончательного возвращения графа из эмиграции. Он прибыл на родину 1 августа 1923 г. и поселился в Петрограде, но вскоре вместе с женой отправился в Москву и довольно долго пробыл там. В конце августа Булгаков присутствует на лекции сменовеховцев и отмечает в дневнике, что Толстой, говоря о литературе, назвал в числе современных писателей его и Катаева. Дальше последовали встречи в более узком кругу. Дважды Толстой приглашал Булгакова к себе на дачу. «Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково), — читаем запись в дневнике от 2 сентября. — Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо искоренимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями. Все, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать нео[реальную] школу. Он стал даже немного теплым:
— Поклянемся, глядя на луну...
Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны» (Дневник, 52—53).
На следующий день в обществе Толстого Булгаков побывал в пивном баре на Страстной площади. «Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война» (Дневник, 53).
9 сентября на даче у Толстого Булгаков читал свой рассказ «Дьяволиада». В дневнике упомянуто, что Толстой хвалил рассказ и по собственной инициативе взялся устроить его в петроградский журнал «Звезда» со своим предисловием. Для публикации именно в этом журнале готовилась и пьеса «Бунт машин», работу над которой Толстой в сентябре как раз завершал, — драма вышла во втором номере «Звезды» за 1924 г. В Петрограде у Толстого велись также переговоры о постановке пьесы «Бунт машин» в Большом Драматическом театре, где она и появилась на сцене весной 1924 г. В Москве возможность постановки обсуждалась с Третьей студией МХАТ, которая проявила интерес к драме (правда, замысел потом не был осуществлен). Короче говоря, Толстой жил тогда этой пьесой. Поэтому попросту маловероятно, чтобы о ней не заходила речь во время московских бесед, тем более что Толстой не принадлежал к числу авторов, не склонных раскрывать свои творческие планы и занятия до их завершения. Наоборот, он любил делиться ими. О своей работе над пьесой по мотивам Чапека он еще в середине августа увлеченно и даже, пожалуй, не без упоения рассказал в интервью еженедельнику «Жизнь искусства»10. Рассказано было и об интересе к драме со стороны петроградских и московских театров. Между прочим, текст интервью также мог побывать в руках Булгакова. Любопытно, что и в интервью Толстого и в пьесе Булгакова «Адам и Ева» революционеры называются «организаторами» человечества.
Пьеса «Бунт машин» и связанные с ней темы могли затрагиваться и при дальнейших встречах Булгакова с Толстым. В начале января 1924 г., например, состоялся вечер, устроенный в честь Толстого издателями газеты «Накануне». Он проходил в Бюро обслуживания иностранцев в Денежном переулке в Москве. Булгаков присутствовал на нем.
Близость Булгакова с Алексеем Толстым не ушла и от внимания осведомителей ОГПУ. Один из них сообщал, например, в 1926 г. об авторе «Дней Турбиных» (которые казались ему «апологией белогвардейцев»): «Он близок с Лежневым и Ал. Толстым. <...> Алексей Толстой говорит пишущему эти строки, что "Дни Турбиных" можно поставить на одну доску с чеховским "Вишневым садом"»11 (Толстой имел, вероятно, в виду не только художественную силу, но и общую для обеих пьес атмосферу ностальгии по прошлому и по интеллигентным людям).
Оговоримся, что со временем в отношениях между Булгаковым и Толстым все же наметилось охлаждение. Но это не меняет всего сказанного. А сказанное дает основания предположить знакомство Булгакова с пьесой «Бунт машин» по меньшей мере в пересказе Алексея Толстого. Вместе с тем вслед за Ерыкаловой можно полагать, что Булгаков мог быть знаком и с текстом самой драмы Толстого — по журнальной или книжной публикации. В пользу этого как будто говорит и сходство ряда мотивов в пьесах обоих авторов. Конечно, в отдельности каждый очаг сходства может оказаться случайным. Скорее убеждает общая их «сумма». Впрочем, существует, кажется, и более отчетливый след чтения Булгаковым пьесы Толстого. Весьма подозрительно выглядит совпадение одного мотива в «Бунте машин» и в повести Булгакова «Роковые яйца». В пьесе Толстого есть взволнованный диалог Елены с главным инженером комбината по производству искусственных людей — Пулем. Елена удручена кровавой социальной войной, разразившейся в мире, и восстанием роботов против людей. Ее собеседник с горькой иронией отвечает на ее смятенные мысли: «Дорогая мистрис Морей, займитесь физиологией. Это очень успокаивает нервную систему — например, посмотреть в микроскоп на капельку воды... Вот где вечный бунт. Вот где грызня... Наши пращуры, — инфузории грызут инфузорий...» (с. 65). Практически тем же мотивом уже открывается повесть Булгакова «Роковые яйца»: профессор Персиков наблюдает под микроскопом бешеное взаимоистребление амеб (которое тоже соотнесено в общем контексте повести с борьбой за существование в человеческом мире): «Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. <...> они <...> отличались какой-то особенной злобой и резвостью» (2, 54). Совпадение поистине поразительное: в обоих случаях картина наблюдается под микроскопом, в обоих случаях речь идет о простейших, там и там — взаимное пожирание особей не другого вида, а своих сородичей, там и там аналогия с отношениями в мире людей. Причем у Булгакова это исходный, сюжетослагающий мотив повести, лежащий в ее основе и дающий начало и научно-фантастическому действию, и развертыванию социально-политического иносказания. Не означает ли все это, что уже в процессе зарождения замысла повести «Роковые яйца» или его развития сыграло какую-то роль соприкосновение творческого воображения Булгакова с образной мыслью в пьесе Толстого (именно Толстого, так как в драме Чапека этого мотива нет)? Заслуживает внимания и то обстоятельство, что повесть «Роковые яйца» и написана как раз вскоре после выхода в свет «Бунта машин» Толстого (соответственно весна и лето 1924 г.).
Наконец, нельзя исключить, что Булгаков мог поинтересоваться и непосредственно драмой чешского писателя, к которой отсылал Толстой (и в предисловии к своей пьесе, и в интервью, и, надо думать, в устных беседах) и которая в том же 1924 г. вышла из печати — в русском переводе Е. Геркена и И. Мандельштама12. Перевод был сделан с немецкого перевода Отто Пика (пражский немецкоязычный литератор), изданного в Лейпциге в 1922 г.
Рис. 2. Обложка первого издания драмы К. Чапека «R.U.R.» в русском переводе
Оба текста довольно верно передавали оригинал*. О возможном знакомстве Булгакова непосредственно с пьесой Чапека как будто бы говорит и тот факт, что в его драме и в пьесе Чапека есть совпадающие мотивы, опущенные Толстым. В той и другой пьесе присутствует, например, тема агрессивности идей и доктрин (мы еще коснемся этого вопроса). В обеих пьесах все герои-мужчины влюблены в главную героиню (хотя у Булгакова это приобретает по сути фарсовую окраску). У Толстого ни того, ни другого нет.
Что касается самого существа творческого контакта, то знакомство с литературными интересами Толстого, а опосредованно и Чапека, могло прежде всего привлечь внимание Булгакова к области научной фантастики и к тем художественным возможностям, которые заключены в ней. Случайно ли именно после сближения Булгакова с Толстым в его творчестве впервые и появляются произведения, в структуре которых важнейшую роль играет научно-фантастический компонент, имитация научной гипотезы? Именно весной (в апреле) 1924 г. он обращается к некоторым тематическим мотивам Жюля Верна, соединяя их со структурой иносказания, что зафиксировано и в подзаголовке его сказочно-аллегорической повести «Багровый остров»: «Роман т. Жюля Верна с французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков» (2, 41. Курсив мой. — С.Н.). Правда, использованы были пока что скорее темы романа путешествий и описания экзотических островов, чем научно-фантастическая конструкция в собственном смысле слова. Но вскоре появится повесть «Роковые яйца», где налицо уже и увлекательная научно-фантастическая гипотеза, которая становится главным стержнем всего произведения и служит основой и интригующего сюжета из области естественных наук, и философско-притчевого построения, и социально-политического иносказания. В начале 1925 г. была завершена вторая научно-фантастическая повесть — «Собачье сердце». От них лежал путь к драмам «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич».
Принципиальный интерес представляет и общность некоторых тематических и проблемных лейтмотивов в пьесах Чапека, Толстого и Булгакова. Мы уже говорили об общей для них проблеме непримиримой конфликтности современного бытия и ожесточенной борьбы за существование, приобретающей масштабы всемирных кровопролитий. Само действие всех трех произведений развертывается в масштабах всего человечества. Характерно также обращение всех трех авторов к теме сотворения мира, к библейской истории Адама и Евы. При этом наблюдается не только сходство и преемственность между ними, но и вроде бы определенная градация темы (от Чапека к Толстому и Булгакову) и изменение акцентов. Остановимся на всем этом подробнее.
Как мы помним, и в драме Чапека, и в пьесе Толстого происходит очеловечение бесчувственных роботов. В финале обоих произведений появляется пара молодых роботов, мужчина и женщина, у которых пробуждается чувство любви. В драме Чапека это робот по имени Прим и девушка-робот, названная в честь Елены ее именем. Этой паре и суждено стать родоначальниками нового человечества и творцами нового мира. Соответственно молодая чета уподоблена автором Адаму и Еве — в частности, в заключительной реплике пьесы (ее произносит Алквист, единственный из людей, оставшийся в живых и оказавшийся свидетелем пробуждения взаимного влечения у Прима и Елены). Алексей Толстой, повторив в основном чапековский финал, пошел еще дальше и дал молодой чете роботов имена Адама и Евы. Более того, в его пьесе Адамами в обобщенном смысле называют (с. 39, 40, 43, 67, 68) и всю партию усовершенствованных роботов**. Мотив сотворения мира, библейский миф о прародителях человечества, тема новых Адамов в соединении с темой всемирного восстания и привлекли, видимо, внимание Булгакова, способствуя зарождению или развитию замысла иронической антиутопии, связанной с актуальной проблемой обновления мира. Надо при этом учесть одну особенность пьесы Толстого: восстание роботов происходит у него (и этого нет у Чапека) под непосредственным влиянием тайной революционной агитации, которую возглавляет один из помощников Морея (Михаил), симпатизирующий мировому революционному движению угнетенных и организационно связанный с ним (Морей даже называет его «одним из вождей восстания», с. 69). В пьесе Толстого восстание роботов вообще выглядит как параллель к вооруженной социальной революции в человеческом мире или даже как часть ее. У Чапека подобные ассоциации если иногда и возникают, то лишь в ряду других (расовый конфликт и т. п.) и не выступают на первый план***. Таким образом, особую стимулирующую роль для возникновения названных аналогий у Булгакова могла сыграть толстовская интерпретация чапековской темы.
Драма Булгакова имеет триединую структуру. Как бы наложились друг на друга и взаимопроникают три разных типа произведений. Пьеса была написана (напомним — в 1931 г.) по заказу одного из ленинградских театров, жаждавшего получить в свой репертуар оборонную драму. Однако во внешнюю схему такой драмы, имевшей уже некоторую традицию в советской литературе (и параллели в прозаических жанрах), Булгаков вложил по сути иное содержание. Он написал антивоенную пьесу-предостережение о той гигантской катастрофе, которой грозит обернуться для человечества война между противостоящими социальными системами — социализмом и капитализмом. В тексте недаром витают ассоциации с Апокалипсисом, а по ходу действия от фантастического сверхоружия гибнет значительная часть населения планеты, включая всех жителей Ленинграда. На протяжении полутора актов действующие лица и зрители остаются вообще в неведении, не погибло ли все человечество, кроме небольшой кучки людей (спасенных чудодейственным лучом Ефросимова). Мелькают реплики о «погубленном мире», «зачумленной земле» и т. д. Короче, акцентируется мысль о смертельной опасности фанатизма идей, об угрозе перерастания идеологического конфликта в страшное всемирное побоище. Выражающий взгляды автора профессор Ефросимов почти в публицистической форме заявляет в пьесе: «Капиталистический мир напоен ненавистью к социалистическому миру, а социалистический напоен ненавистью к капиталистическому <...>. Война будет потому, что сегодня душно! Она будет потому, что в трамвае мне каждый день говорят: "Ишь шляпу надел!" Она будет потому, что при прочтении газет <...> волосы шевелятся на голове и кажется, что видишь кошмар. <...> Что напечатано? "Капитализм необходимо уничтожить". <...> А там напечатано: "Коммунизм надо уничтожить". Кошмар! Негра убили на электрическом стуле. <...> в Югославии казнили, стреляли в Испании, стреляли в Берлине. Завтра будут стрелять в Пенсильвании. Это сон! И девушки с ружьями, девушки! — ходят у меня по улице под окнами и поют: "Винтовочка, бей, бей, бей... буржуев не жалей!"**** Всякий день! Под котлом пламя, по воде ходят пузырьки, какой же, какой слепец будет думать, что она не закипит?» (3, 333).
Писатель создает даже (вновь в одном из монологов Ефросимова) почти физически наглядный образ, казалось бы, абстрактного представления — образ идеи, оснащаемой военно-техническими средствами и переходящей в вооруженное нападение: на идею словно надевается насадка в виде орудия смерти, и идеологический конфликт получает кровавое завершение. Более того, проводится прямая аналогия между потенциальной опасностью фанатичной идеи и опасностью оружия. Когда в момент катастрофы и всеобщей гибели у Адама срывается восклицание: «Что это?», Ефросимов отвечает ему: «Это? Идея!!. Негр на электрическом стуле! <...> Это — винтовочка, бей! Это — такая война! Это — солнечный газ!..»5* (3, 343). При этом слова Ефросимова о газе корреспондируют с первым эпиграфом к пьесе (всего их два), где речь тоже идет об отравляющем газе (приводится цитата из брошюры о военном применении ядовитых газов): «Участь смельчаков, считавших, что газа бояться нечего, всегда была одинакова — смерть» (3, 326). Таким образом, реплика Ефросимова о смертельной опасности идеи, заряженной ненавистью, замкнута на эпиграф к пьесе (а также еще на некоторые высказывания в драме), благодаря чему образуется нечто вроде макросемантемы, охватывающей все произведение и имеющей отношение к его главному содержанию.
Булгаков воспользовался тем, что в системе каждого произведения существуют не только ближние, но и дальние связи образной мысли. Они не всегда заметны с первого взгляда (что помогает авторам обходить и цензуру). Поясним это таким примером. В самом начале комедии Гоголя «Ревизор» Городничий, узнав о приезде ревизора, говорит: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь». Сон оказался в руку. Но почему две крысы? Почему не одна? Или не три (казалось бы, магическое число)? Случайность? Возможно. А может быть, этот образ следует воспринимать вместе с концовкой пьесы, когда приходит сообщение о втором, настоящем ревизоре, который также, может быть, «понюхает и пойдет прочь», не причинив особого вреда? Совершенно другие по смыслу, но аналогичные «дальние» связи существуют и в произведении Булгакова. Цитата из брошюры об отравляющих газах в эпиграфе к пьесе несколько раз аукнется в последующем тексте6*.
Один из важных аспектов булгаковской антиутопии — развенчание как наивной веры в стремительную и легкую победу сил социализма над противником, так и утопического убеждения, что это будет последняя схватка, после которой время и история остановятся и воссияет ясное солнце вечного счастья:
«Адам. <...> Будет страшный взрыв, но это последний, очищающий взрыв, потому что на стороне СССР — великая идея.
Ефросимов. Очень возможно, что это великая идея, но дело в том, что в мире есть люди с другой идеей, и идея их заключается в том, чтобы вас с вашей идеей уничтожить.
Адам. Ну, это мы посмотрим.
Ефросимов. Очень боюсь, что многим как раз посмотреть ничего не удастся» (3, 333—334). (Дальше речь идет о страшной и возрастающей силе современного оружия.)
Автор метил достаточно высоко, посягая на основные догмы. Слова «это последний, очищающий взрыв» — не что иное, как парафраз строки из гимна «Интернационал»: «Это есть наш последний и решительный бой». Любопытный случай не только смысловой, но и метрической аллюзии: сохранена не только суть, но и фразеологический, и почти весь ритмический рисунок «формулы», причем одной из главных в гимне.
В дальнейшем тему глобальной опасности ожесточенной борьбы идей с особой художественной выразительностью развивал в русской литературе Леонид Леонов, показавший в романе «Пирамида» (1994) страшную силу противостоящих идеологических «генераторов озлобления» (отправной моделью послужили, в частности, события холодной войны) и способность человеческого «мозгового вещества» «к безграничному набуханию» гневом и ненавистью «до прямого сходства со взрывчаткой»13.
Рис. 3. [Война.] Автор — чешский художник Иржи Винтер (Непракта)
Получила логическое завершение высказанная еще Достоевским и с избытком подтвержденная событиями XX в. мысль о преступности уже самого допущения, будто во имя определенных, якобы «спасительных», идей можно поступиться моралью и «разрешить перешагнуть через кровь»14. Размышления Булгакова и Леонова идут в русле традиций Достоевского и наследуют его заповеди. (Вероятно, нет необходимости пояснять, что речь идет не об отказе от идей как таковых, а о пагубности отторжения их от императивов нравственности.)
В чешской литературе протест против «абсолютизации идей», против упрямого и нетерпимого возведения «частных» и умозрительных доктрин в ранг универсальных особенно сильно звучал как раз в творчестве Карела Чапека. Фанатичная вражда разнонаправленных идей, каждая из которых претендует на роль абсолютной истины, и последующая мировая бойня сатирически изображены в его романе «Фабрика Абсолюта» (1922). «Простите, Домин одержим своими идеями. Людям, у которых есть идеи, не следовало бы давать влиять на происходящее в этом мире» (65), — заявляет один из героев драмы Чапека «R.U.R.». «Вы все хотели бы разрушить мир во имя одних великих идей»15, — обвиняет ультрарадикальных преобразователей бытия герой пьесы Чапеков «Адам-творец»7*.
К братьям Чапекам вполне приложимо заключение А. Смелянского, раскрывающее смысл булгаковской пьесы «Адам и Ева»: «Булгакову показалось возможным изложить в жанре антиутопии свою любимую предупреждающую мысль. Главная угроза человечеству заключена в том, что люди отдают свои жизни на откуп идеям. Не идея для человека, а человек для идеи. Жизнь включена в идеологию, которая, как Молох, требует все новых и новых жертв. Нетерпимость и фанатизм с двух сторон стремительно ведут человечество к гибели»16.
Однако больше всего прозорливость Булгакова сказалась, наверное, в том, что проблему фанатизма идей он поставил в связь с перспективой появления сверхоружия. Он разглядел в грядущем опасную реальность возникновения соблазна у той или иной страны одностороннего обладания таким оружием (или же средством надежной защиты от него), что может в свою очередь порождать идеологически мотивируемый соблазн опережающего его применения с катастрофическими последствиями для огромных масс людей. Кажется, первым в литературе автор «Адама и Евы» заявил, что это потребует от политиков и ученых принципиально новых подходов и решений17. Главный спор двух антагонистов в пьесе — Дарагана и Ефросимова — вращается вокруг дилеммы, оставлять ли средство от сверхоружия, если оно найдено, в собственности одной из сторон или же сделать его — ради предотвращения катастрофы и спасения множества людей от возможной гибели — всеобщим достоянием. Спустя полвека после создания пьесы Булгакова, такая дилемма стала вопросом реальной стратегии и практической политики (хотя до сих пор не получила однозначного решения, пока что больше проявляется тенденция — да и то непоследовательно — к согласованному отказу от применения сверхоружия и постепенному понижению порогового уровня его количества и мощности).
Но и антивоенным содержанием драма Булгакова не исчерпывается. Изображение ужасов войны и неимоверных разрушений достигает кульминации уже во втором акте пьесы. Правда, позднее еще появится обычное для оборонных произведений тех лет сообщение о международной победе революционных сил, но оно не может заглушить того удручающего впечатления, которое оставляют картины разрушенного на огромных пространствах, обезлюдевшего и онемевшего мира (неделями молчит даже радиоэфир). Не утрачивая и дальше внешних контуров оборонной драмы, пьеса тем не менее после второго акта еще больше смещается в плоскость скрытой антиутопии, антиутопии-метафоры, отражающей скептицизм автора в отношении революционного пути и иллюзорных ожиданий «золотого века». Об этом своем «глубоком скептицизме в отношении революционного процесса» в России Булгаков откровенно заявил за год до создания пьесы «Адам и Ева» в его известном письме Правительству СССР (5, 446). Это третий слой произведения, третий его содержательно-структурный план. Строго говоря, антиутопией эту пьесу делает уже специфический аспект осмысления антивоенной темы, снимающий покров с одного из идеологических мифов — о будущей якобы последней и все разрешающей битве. Однако это только один пласт и только часть булгаковской антиутопии, в которой образ катастрофической войны принимает на себя одновременно функцию метафоры насилия вообще, включая и революционное насилие.
Ситуация, когда дотла уничтожен обжитой мир и на его обломках горстка уцелевших людей пытается обустроить жизнь заново, оказалась подходящей для построения аллюзии на разрушительный общественный переворот и на заветную мечту о сотворении нового мира, земного рая. В силу понятных причин такая тема не могла не быть в той или иной мере замаскированной. В этих целях автор использует, в частности, возможности интертекстуальности.
Проблема интертекстуальности в творчестве Булгакова еще сравнительно мало изучена. В данном случае речь идет о той ее разновидности, когда автор прибегает к ней сознательно, а суть ее заключается в том, что произведение или какие-то его части, фрагменты, стилистические пласты должны восприниматься на фоне другого, знакомого читателю произведения, в соотнесении и сопряжении с ним, благодаря чему и реализуется в полной мере подспудный смысл.
Печать такого рода интертекстуальности несут на себе не только художественные произведения Булгакова, но и, например, его дневник, который он вел в 1922—1925 гг., пока его дневниковые записи не оказались в руках ОГПУ, что, естественно, навсегда отбило охоту продолжать их, а впоследствии сказалось и на характере дневника, который вела Елена Сергеевна, явно вынужденная считаться с возможностью прочтения его посторонними лицами. Что касается отобранного булгаковского дневника, то его отличала одна особенность, очень редкая для этого жанра. Словно художественное сочинение, дневник Булгакова имел заглавие и назывался «Под пятой». И.Е. Ерыкалова высказала правдоподобное предположение, что название это восходит к роману «Железная пята» Джека Лондона. Творчество этого писателя было известно Булгакову довольно хорошо, его друзья занимались переводами романов и рассказов Лондона для выходившего в двадцатые годы собрания сочинений писателя на русском языке18. Взяв в качестве заглавия дневника название романа Лондона, Булгаков уподобил тем самым окружающую его действительность той, что изображена американским фантастом и суть которой Лондон сам определил устами повествователя в коротком вступлении к роману (оно печатается как часть текста романа). Содержание «Железной пяты» состоит в том, что на пути к заветной мировой социалистической революции власть неожиданно оказывается в руках «олигархии, страшной тенью нависшей над миром» и словно возвращавшей его «к жестоким временам тиранического социального самовластья». Когда социалисты, лелеявшие мечту о братстве людей, «спохватились, олигархия была уже налицо. Как факт, запечатленный кровью, как жестокая кошмарная действительность»19. И хотя Джек Лондон считал такую аномалию еще одним, так сказать, прощальным порождением капитализма, сходство между картиной, нарисованной заокеанским писателем, и процессами, происходившими в России, поистине било в глаза. К тому же эпоху господства «железной пяты» автор романа (написанного им в 1902 г.) отнес как раз к двадцатилетию между 1912 и 1932 гг.
Благодаря образному заглавию, позаимствованному у Лондона, все записи в дневнике Булгакова — а они касались не только личной жизни и судьбы писателя, но и событий и процессов, происходивших в стране, — оказывались в общем ассоциативном поле, включались в это поле, охватывались и объединялись им.
Подобного рода контаминации собственного повествования с семантическими и ассоциативными полями, сюжетными ситуациями, определенными элементами знаковой системы, общей атмосферой тех или иных литературных произведений других авторов применялись Булгаковым и в его художественных сочинениях. Исследователи уже обращали внимание на параллели и отзвуки, которые связывают, например, повесть «Собачье сердце» с поэмой Блока «Двенадцать». Впрочем, след уводит еще дальше — к Пушкину, к его «Капитанской дочке», к знаменитому описанию бурана. Буран, разыгравшийся в этой повести, вообще несколько раз отозвался потом в русской литературе — прошумел тревожной и полной предзнаменований метелью в «Анне Карениной»20, обернулся вьюгой в поэме Блока «Двенадцать» и по меньшей мере дважды откликнулся в творчестве Булгакова — прямым эпиграфом и реминисценциями в «Белой гвардии» и — явно через Блока — картиной метели в экспозиции «Собачьего сердца» — с несомненной аллюзией на поэму «Двенадцать». Начальный эпизод этой повести, отмечает М. Золотоносов, «демонстративно помещен в блоковскую декорацию (вечер, вьюга, буржуй, бездомный пес)»21. С. Шаргородский считает повесть Булгакова своего рода негативом «Двенадцати»22 8*. Посредством наведения ассоциативных связей с поэмой Блока автор дает почувствовать читателю присутствие в его повести подспудной темы революции, метафорой которой и является хирургический эксперимент Преображенского.
О необходимости интертекстуального чтения текста обычно сигнализируют те или иные разновидности цитаций, которые и призваны побудить читателя вспомнить другое произведение, включить какие-то его элементы в процесс своего восприятия.
Принцип интертекстуальности широко эксплуатируется и в драме «Адам и Ева». В известном смысле пьеса составляет интертекст с Библией. Иными словами, часть семантической структуры драмы находится не в ней самой, а за ее пределами. Пьеса должна «дочитываться» в Священном писании, должна восприниматься в соотнесении с определенными библейскими событиями, к которым отсылают авторские реминисценции. Основные из них касаются двух преданий Ветхого Завета. Как известно, там дважды описывается ситуация, когда людям приходилось как бы начинать жизнь заново — впервые после сотворения Адама и Евы и изгнания их из рая и затем после Всемирного потопа. С этими событиями и связана бо́льшая часть библейских реминисценций в пьесе. При этом последние, как правило, очень лаконичны и выполняют скорее функцию знаков, сигнализирующих о необходимости «включить» в процесс восприятия пьесы знание Библии. Предполагается, что зритель (или читатель) знаком с более широким библейским текстом, чем непосредственно зафиксирован в реминисценциях. Так, второй эпиграф к драме гласит: «...и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал: впредь во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся» (3, 326). Этим и исчерпывается библейский фрагмент, цитируемый автором9*. Между тем очень важно знать, что цитата взята из той части Книги Бытия, где повествуется о том, как Бог увидел, что «велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» и «земля наполнилась от них злодеяниями», в связи с чем Господь, восскорбев сердцем, решил покарать и «истребить с лица земли»23 людей и наслал на них потоп. И только после того, как они понесли наказание и лишь немногие из них спаслись в Ноевом ковчеге, Бог возвестил свою волю, явленную в приведенных в эпиграфе словах. Таким образом, события, изображаемые в пьесе, с самого начала соотнесены со Всемирным потопом, уподоблены ему и возникшей после него ситуации (хотя слово «потоп» ни разу в драме не произнесено)10*.
Библейский ассоциативный ключ задан уже в заглавии драмы «Адам и Ева» и в цитированном эпиграфе к ней. Но особенно акцентированы эти ассоциации в третьем акте. Именно здесь становится понятной и сама функция имен заглавных персонажей — Адама и Евы, до того никак не мотивированных в драме. По прямому смыслу Адам и Ева в пьесе — обычные люди, он инженер, она учится на курсах иностранных языков; просто имена молодоженов по воле случая забавно совпали с именами библейской пары. Однако в глубинном смысле и своеобразие ситуации (до основания разрушенный мир и попытка создать его заново), и имена главных героев суть грани одной общей метафоры-аллюзии, которая и составляет основу антиутопии, скрытой за внешней оболочкой оборонной пьесы и пьесы о будущей войне. Еще в 1982 г. Ю.В. Бабичева отметила: «По содержанию это <...> вариант вечной библейской притчи о человеке, изгнанном из рая, чтобы создать его заново на земле. Притча, соотнесенная с остроактуальной в 30-е гг. проблемой построения социализма ( "организацией человечества"), решаемой в момент политического кризиса — угрозы мировой войны»24.
В свете сказанного особую роль в структуре и поэтике пьесы играют переносные смысловые акценты, семантические значения второго и третьего порядка. Многое выражено в знаках, метафорах, символах. Метафорично само оформление сцены, как оно предусмотрено в авторской вступительной ремарке к третьему акту: «Внутренность большого шатра на опушке векового леса. Шатер наполнен разнообразными предметами: тут и обрубки дерева, на которых сидят, стол, радиоприемник, посуда, гармоника, пулемет и почему-то дворцовое богатое кресло. Шатер сделан из чего попало: брезент, парча, шелковые ткани, клеенка. Бок шатра откинут и видна пылающая за лесом радуга.
Маркизов, с костылем, в синем пенсне, сидит в дворцовом кресле с обожженной и разорванной книгой в руках (Библией, как ясно из контекста. — С.Н.)» (3, 106).
Несуразная мешанина из брезента, парчи, шелка, клеенки должна, по-видимому, передать весь вопиющий хаос предшествующего разрушения обжитого мира. Особенно выразительно дворцовое кресло (некий аналог трона), в котором восседает уже знакомый зрителям по предыдущим актам люмпен-алкоголик с полусожженной и разорванной (т. е. поруганной) Библией в руках. По сути, это целый законченный философско-иронический и вместе с тем актуально-злободневный символ; нетрудно вообразить не только сценическое, но и графическое или живописное его воплощение, например, в стиле Домье, в виде гротеска, карикатуры. Это один из тех экспрессивных булгаковских символов, в которых как бы в концентрированном виде сгущается, стягивается в один узел очень емкое содержание и огромная энергия. Того же рода в первоначальном варианте повести «Роковые яйца» заключительный аккорд: мертвая Москва и гигантский змей, обвивший колокольню Ивана Великого.
Одновременно стимулируются ассоциации зрителя (читателя) с попытками начать что-то новое, с библейскими родоначальниками человечества. Шатер-шалаш, Адам и Ева — достаточно ясные напоминания. Библейское происхождение имеет и радуга, подобная той, что Бог зажег на небесах после Всемирного потопа, «поставив» ее в виде «знамения завета» между собой и людьми (Бытие 9, 13—17). Эта пылающая за лесом радуга (тем более пылающая на протяжении целого акта) и должна, как и в Библии, с одной стороны, напоминать о предшествующей Божией каре за «развращение человеков» и за их злодеяния, о происшедшей катастрофе, а с другой — символизировать чаемое будущее. Однако радужные надежды (не восходит ли к Библии само это выражение в нашем языке?) предстают в пьесе в ироническом свете и все больше смещаются в пародийный и травестийный планы — по мере дальнейшего знакомства зрителя с далеко не образцовым нравственным потенциалом изображаемого «человеческого материала», как его называет Адам. (Выражение «человеческий материал» употреблялось в 20-е гг. подобно тому, как в начале горбачевской перестройки вошла в речевой обиход формула «человеческий фактор». Характерно, например, одно из высказываний Н.И. Бухарина, в котором он раскрыл и весьма своеобразные методы преобразования «человеческого материала»: «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи»25.)
Уже в самом начале драмы мелькнула, казалось бы, проходная и случайно брошенная фраза Ефросимова, за которым гнался пьяный дебошир: «Я об одном сожалею, что при этой сцене не присутствовало советское правительство, чтобы я показал ему, с каким материалом оно собирается строить бесклассовое общество» (3, 330). Тема «человеческого материала» по сути и развернута в закамуфлированном виде во второй половине произведения, где она вновь обозначена в первых же репликах третьего акта, которые произносит Маркизов, комментируя текст Библии: «Маркизов (читает): "...Нехорошо быть человеку (Адаму. — С.Н.) одному: сотворим ему помощника, соответственного ему". Теория верная, да где же его взять?» (3, 356. Курсив мой. — С.Н.).
Сотворение нового мира присутствует в пьесе только в виде перспективы, но зато демонстрируется, так сказать, контингент наличных человеческих типов, которым предстоит созидать земной рай и совершить бросок в «золотой век». В образах действующих лиц как бы персонифицирован в ироническом свете набор некоторых социально-психологических тенденций. Сквозь индивидуальный облик героев проступают определенные типажи, образующие в совокупности маленькую ироническую галерею (в реплики действующих лиц местами вставлены узнаваемые выражения, лозунговые и партийные словесные клише и т. д.). При этом в понятие «человеческого материала» включены и лидеры или, говоря языком пьесы, «организаторы человечества».
Заглавный персонаж — инженер Адам, партиец-организатор («В моем лице партия требует...» — 3, 373), «обуреваемый» идеями (3, 335) «человек с каменными челюстями» (3, 375). Сподвижник Адама Дараган — командир эскадрильи истребительной авиации, олицетворяющий, судя по всему, охранительные и карательные структуры. Образ закодирован на типаж смелого и несгибаемого военного (в этой ипостаси он подан вполне серьезно), перерастающий, однако, в символ истребителя по призванию, готового не только применять без колебаний любое оружие массового уничтожения (говоря современным языком), но и с маниакальной подозрительностью ищущего «изменников» и предателей в своем кругу: «...я вот на расстоянии чувствую, что сидит чужой» (3, 363), «между нами враг» (3, 365). Он лишен способности даже задуматься над доводами Ефросимова, который мечтает передать защитное средство от сверхоружия всем народам мира, обеим противоборствующим сторонам, чтобы предотвратить безумную войну, а затем и уничтожает запасы страшного солнечного газа, напоминающего по действию нейтронную бомбу, чтобы не множить и дальше человеческие жертвы. Дараган едва не застрелил за это гениального ученого, который к тому же незадолго до того спас жизнь всем героям пьесы, а самого Дарагана почти воскресил из мертвых и вернул ему зрение, исцелив от слепоты. В тексте Дараган не раз именуется уже просто «истребитель». «Пока ты живешь, всегда найдется кто-нибудь, кого, по-твоему, надо истребить» (3, 659), — говорит ему Ефросимов в рукописном варианте финала драмы.
Следующие два типажа — непотопляемый хамелеон-приспособленец (Пончик-Непобеда) и люмпен-пьяница (Маркизов). В качестве представителя оборотней автор не отказал себе в удовольствии изобразить писателя из числа тех, что он нередко имел возможность встречать в те годы. Вымучивший роман на колхозную тему «Красные зеленя», Пончик-Непобеда сам называет его потом «подхалимским». Сюжетная линия этого героя (смена «убеждений») предстает в виде своего рода синусоиды. Он готов уживаться с любым режимом и так же легко отрекаться от него. Захар Маркизов, поймав в Библии фразу о том, что «хитрее всех зверей полевых» был змей, начинает, подтрунивая, называть Пончика «змеем» — еще, между прочим, одна точка пародийного соприкосновения с мифом об изгнании из рая. Обронено в пьесе и имя или прозвище Пончика-Непобеды — Павел Апостолович, которое, по замечанию Ю.В. Бабичевой, является чем-то «вроде библейского кода к его внутренней сущности, вызывающего у читателя, знавшего священную историю, ассоциации с образом апостола Павла и загадочным фактом его жизнеописания: мгновенным и чудодейственным превращением из свирепого агента синедриона в убежденного Назорея»26. Одновременно отступничество Пончика автор не без ехидства использует для того, чтобы под видом малодушных «изменнических» речей вложить в его уста весьма колкие откровения (применяется прием, который один из исследователей Булгакова по другому поводу назвал «обличением со стороны обличаемого»): «Пончик. <...> Все начисто ясно. Вот к чему привел коммунизм! Мы раздражили весь мир, то есть не мы, конечно, — интеллигенция, а они. Вот она, наша пропаганда, вот оно, уничтожение всех ценностей, которыми держалась цивилизация... <...> Был СССР и перестал быть. Мертвое пространство загорожено и написано "Чума. Вход воспрещается!" Вот к чему привело столкновение с культурой!» (3, 371). Зрителю предоставлялось решать — слышит он наветы трусливого ренегата и коварные речи змея-искусителя или небезосновательные пророчества.
Образ Захара Маркизова выглядит словно выхваченным из жизни и не случайно так напоминает героев газетных фельетонов Булгакова. Зритель впервые знакомится с ним, когда он в жаркий весенний вечер, в кальсонах, в накинутом на плечи пальто с меховым воротником и в синем пенсне, гонится за профессором Ефросимовым, намереваясь избить его. Позднее он, правда, обнаруживает и симпатичные черты и даже спасает жизнь тому же Ефросимову, отведя ударом костыля в сторону револьвер в руке Дарагана. Но все это не мешает ему оставаться малообразованным выпивохой — то задиристым, то насмешливо-наблюдательным, то смешным. Один из завершающих комических штрихов этого образа — перемена Маркизовым своего русского имени на иностранное Генрих: «Не желаю жить в новом мире с неприличным названием — Захар» (3, 368).
Травестийный групповой портрет всех этих персонажей дорисован в их отношении к Еве. Ситуация, как уже говорилось, напоминает чапековскую. Все мужчины неравнодушны к героине, причем сообщено об этом, как и у Чапека, уже в самом начале пьесы, практически в экспозиции; оба автора, следовательно, придавали определенное значение такому аспекту сюжетного построения, намереваясь определенным образом использовать его в интересах раскрытия темы. Но реализован он по-разному — у Чапека скорее в поэтическом ключе, у Булгакова — в сниженно-травестийном.
В пьесе чешского писателя после того, как Елена стала женой Домина, его коллеги, не переставая восхищаться ее обаянием и красотой, естественно, даже в мыслях не претендуют на большее, чем дружба. В пьесе Булгакова та же ситуация («одна женщина и пять мужчин», — сообщал автор в одном из писем о своей драме — 3, 600) решена в комедийно-фарсовом варианте. Каждый из мужчин (кроме Ефросимова) тайком от других пытается добиться взаимности Евы. В хмельном сознании Маркизова, едва он узнает об охлаждении ее к Адаму, рождается мысль попытать счастья самому. Тут же он выбалтывает это Пончику. Тот дает ему тысячу долларов, прихваченных во время катастрофы, чтобы он отступился в его пользу. Маркизов, недолго думая, решает употребить полученную валюту, чтобы произвести впечатление на Еву своей состоятельностью, но она мгновенно все разгадывает и пристыжает его. Попытка Пончика обнять Еву кончается тем, что она с презрением прогоняет его, даже не тратя энергии на гневную отповедь, а просто бросив фразу: «Пошел вон!» Новоявленный змей-искуситель удаляется посрамленным. Тайком объясняется Еве в любви («хватая ее за кисть руки и выкручивая ее») и главный сподвижник ее мужа Дараган. При этом в душу Еве закрадывается подозрение, что и расстрелять Ефросимова Дараган пытался, чтобы устранить в его лице соперника, который все больше нравился ей. В свою очередь Адам терзает Еву ревностью и подозрениями11*.
Короче говоря, если в пьесе Чапека — благородное восхищение всех мужчин красотой и женственностью героини, то здесь пошлое ухаживание — тайком от других, с попытками сделок между соперниками, обманами и т. д. Пародийно-фарсовый и травестийный элемент в пьесе, конечно, не случайная прихоть автора и не стихийный резонанс его эмпирических наблюдений. Он теснейшим образом связан с убеждением писателя в том, что в процессе смуты, вооруженной революции и гражданской войны в России произошло, если воспользоваться его собственным уже цитированным определением, «уничтожение ценностей, которыми держалась цивилизация», произошло «столкновение с культурой» (3, 357), в результате чего поднялась волна упрощенно-примитивного, вульгаризированного и озлобленного сознания. Законченным олицетворением такого сознания стал и созданный Булгаковым еще в середине 20-х гг. образ Шарикова. Разумеется, революционная эпоха давала и образцы другого рода — энтузиазма и глубокой веры в мечту и в идеал, самоотверженного служения его претворению в жизнь, стремления поднять культуру масс и т. д. Булгаков берет явления иного порядка. Осмеяние тех же явлений (хотя зачастую с иных позиций и при разном понимании их причин) проходит и через творчество других писателей тех лет — М. Зощенко, отчасти В. Маяковского и т. д. По-своему оно окрашивает и пьесу «Адам и Ева».
Безусловной симпатией автора пользуется в драме только человечная Ева да профессор Ефросимов, у которого «в глазах туман, а в тумане свечки» (по поэтичному определению Булгакова в ремарке). Он изобретатель целительного луча, противник войн и насилия, желающий добра всем людям и всем народам. (Невольно напрашивается сопоставление с создателем другого луча — Персиковым. Иногда и собственные произведения у Булгакова находятся в соотношении «интертекстуальности». Вспомним также квартиру в пьесе «Дни Турбиных» и следом изображенную Зойкину квартиру.) Благородство Ефросимова подчеркнуто и семантикой его фамилии, восходящей к греческим именам Ефрасий — благовещающий, и Ефросин — радость, веселье. Лишь за Ефросимовым автор готов признать и миссию истинного нового Адама, что и высказано в пьесе устами Евы. Поведение Ефросимова заставляет вспомнить и о позиции самого Булгакова, о его «великих усилиях стать бесстрастно над красными и белыми» (5, 447), о чем он со всей прямотой поведал в упоминавшемся уже письме Правительству СССР, написанном за год до пьесы «Адам и Ева» (Ефросимов заявляет в пьесе, что он «в равной мере равнодушен и к коммунизму, и к фашизму» — 3, 366). Образ Ефросимова вообще в некоторых отношениях автобиографичен. Может быть, драматург даже намекнул на это, указывая в списке действующих лиц его возраст: Ефросимову 41 год — столько же, сколько было автору в момент написания пьесы (не лишены автобиографического элемента и личные отношения Ефросимова и Евы, в чем-то напоминающие отношения Булгакова и Е.С. Шиловской).
Параллелей образу Ефросимова в пьесе «R.U.R.» Чапека и «Бунте машин» Толстого нет. Скорее можно говорить о сходстве этого персонажа с главным героем романа Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Ефросимов своего рода антипод Гарина. Позднее в драматургии чешского писателя появится типологически сходный с Ефросимовым персонаж — врач Гален в драме «Белая болезнь» (1937), тоже противник войны и диктатуры, пытающийся использовать свое научное открытие для влияния на сильных мира сего и предотвращения войны.
Обращает на себя внимание близость образа Евы у Булгакова образу Елены у Чапека. Обе героини противопоставлены дегуманизированному миру как носительницы естественных, неискаженных чувств и врожденной, от сердца идущей нравственности. Подобно тому как Елена у Чапека мечтает о бегстве из мира бездушного производства и технократических идеалов, где идея узко понятого прогресса взяла верх над человеком, Ева также стремится к иной жизни и в конце концов уходит от Адама, покидая вместе с Ефросимовым чуждую ей среду. «Я вижу, — восклицает она, — что мой муж с каменными челюстями, воинственный и организующий. Я слышу — война, газ, чума, человечество, построим здесь города, мы найдем человеческий материал! А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей, а больше всего одного человека. А затем домик в Швейцарии, и — будь прокляты идеи, войны, классы, стачки» (3, 375). Этот крик души так напоминает мечту Елены о бегстве и о создании крошечной колонии, где можно было бы начать новую жизнь. «Мы найдем на свете уголок, где нет никого, Алквист построит нам дом, все поженятся, будут иметь детей и тогда... <...> Тогда мы начнем жить сызнова <...>» (49—50).
Приведенные реплики Елены и Евы интересны и в другом отношении. Им созвучен финал пьесы Булгакова, где Дараган говорит в конце концов профессору Ефросимову: «Ты жаждешь покоя? Ну что же, ты его получишь», а Ефросимов отвечает: «Мне надо одно, чтобы перестали бросать бомбы — и я уеду в Швейцарию» (3. 380). Все три реплики в свою очередь перекликаются с эпилогом судеб Мастера и Маргариты в последнем, «закатном» романе Булгакова, где его герой также обретает «покой» в уединенном домике, правда, уже за пределами земного бытия.
Близость образов Елены и Евы, возможно, еще одно свидетельство возникшего творческого контакта Булгакова с Толстым и Чапеком. Конечно, речь идет не об элементарном влиянии, а о своего рода смыкании творческих поисков и представлений писателей.
Для полноты картины необходимо сказать о завершении сюжетной линии Ефросимова. Приведенный обмен репликами между ним и Дараганом хотя и происходит в самом конце пьесы, но не завершает ее. Под занавес Дараган еще сообщит своему антиподу: «Эх, профессор, профессор!.. Ты никогда не поймешь тех, кто организует человечество. Ну что ж... Пусть по крайней мере твой гений послужит нам! Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь» (3, 380). На этом в пьесе и ставится точка. Казалось бы, благополучный для профессора исход, но это только на первый взгляд. Что сулит герою встреча с генеральным секретарем? Чем она обернется для него? Какова будет дальнейшая судьба ученого, не только делающего фантастические открытия, но и претендующего на свободу мысли? — все это остается неизвестным. По существу, перед нами открытый финал с возможными альтернативными вариантами дальнейшего развития событий («альтернативным», по сути, оставалось и положение самого Булгакова после сталинского телефонного звонка, помогшего ему, даже, видимо, спасшего его, но отнюдь не снявшего сложности ситуации). Настораживают и поучающе-высокомерные нотки в словах Дарагана, произнесенных от имени «организаторов человечества», и его инструментальное отношение к гению ученого... Двусмысленность финала усилена и не менее двусмысленными знаками, которые автор расставил в ремарках и которые уже привлекали внимание комментаторов пьесы: на протяжении всего финального диалога Дараган «стоит в солнце», «поблескивая снаряжением», а Ефросимов «в тени» (3, 279) (не забудем, однако, что тут могут быть и обратные ассоциации — с солнечным газом). В конце пьесы трижды раздается «трубный сигнал» (3, 280), то ли возвещающий о прибытии победителей международной всемирной революции, то ли призванный напомнить об Апокалипсисе. Подобные двойственные символы сопровождали образ Дарагана и раньше. Когда сбитый и ослепленный летчик в горячечном бреду восклицает «О, мое оперение!» (3, 350), то это может ассоциироваться и с Икаром, и с падшим ангелом-демоном. Короче говоря, до последнего момента продолжается «игра» на двойных и неявных значениях, на скрытых смыслах — «игра», составляющая особенность поэтики этой антиутопии в целом.
Трехслойная структура драмы «Адам и Ева» (оборонная драма, антивоенная пьеса, социальная антиутопия) при завуалированности основной мысли автора, который вынужден был считаться с условиями заказа и цензурно-политическими препятствиями, иногда давала повод для того, чтобы читался только один ее структурно-семантический слой. Так, в «Очерках истории русской советской драматургии», вышедших в шестидесятых годах, она однозначно описывается как чисто оборонная драма, а все, что не укладывается в такое прочтение, попросту игнорируется27 (впрочем, в данном случае авторы, вероятно, хотели сослужить добрую службу Булгакову и, замалчивая крамольное содержание его пьесы, стремились способствовать более широкому продвижению его литературного наследия в печать).
Драма «Адам и Ева» не была разрешена к постановке, долго оставалась в рукописи и увидела свет, да и то в сокращенном виде, только спустя сорок лет после ее возникновения, в 1971 г., в Париже, а полностью была опубликована — на этот раз на родине писателя — лишь в 1987 г. Но она стала важным событием и крупной вехой в творчестве Булгакова. С ней связана творческая история и нескольких других его произведений. От нее тянутся нити к антиутопии «Блаженство» (задуманной еще в 1930 г., но завершенной в 1934). Тема «золотого века», затронутая в «Адаме и Еве», была выделена в этой драме в качестве главной и самостоятельной (анализ пьесы «Блаженство» в контексте утопических идей эпохи и полемик с ними содержится в исследовании И.Е. Ерыкаловой28). Драма подобно роману Е. Замятина «Мы» демонстрирует осуществленную утопию, и так же, как у Замятина, жизнь в такого рода социуме выглядит искусственно сконструированной и обедненной12*. Стремление вырваться из истории мстит за себя. От «Блаженства» отпочковалась в свою очередь веселая комедия Булгакова «Иван Васильевич». Проблема, которую можно передать формулой «научное открытие и власть» или «творческие поиски истины и власть», разрабатывалась писателем не только в драме «Адам и Ева», но и — параллельно с ней и позднее — в образе Рейна в пьесе «Блаженство» и в образе Мастера в главном его романе. Отношения Ефросимова и Евы, несомненно вобравшие в себя, как уже говорилось, и автобиографический элемент, также находят аналогии в образах Рейна и Авроры, а кроме того, стали, как подчеркивает М.О. Чудакова, «пунктирным наброском» линии Мастера и Маргариты в одноименном романе29. Опыт обращения к поэтике интертекстуальности, приобретенный в процессе создания драмы «Адам и Ева», сказался потом в работе над пьесой о молодом Сталине «Батум», где также использовались библейские ассоциации, а по мнению некоторых исследователей (М. Петровский и др.), проведено и очень тонкое, еле уловимое соотнесение главного героя с общими контурами образа самозванца в «Борисе Годунове» Пушкина.
В заключение остается добавить, что от исходного мотива сотворения мира и образа Адама Булгаков шел примерно в том же направлении, что и Карел Чапек. Через несколько лет после драмы «R.U.R.», в которой впервые у Чапека мелькнули имена Адама и Евы, ее автор написал вместе с братом Йозефом пьесу «Адам-творец», где мотив, связанный с этими именами, как позднее и у Булгакова, послужил основой для создания философской антиутопии. Сюжетная завязка сводится к тому, что Адам, разочаровавшись в существующем мире, именем Анархии уничтожает его из Орудия отрицания, но, будучи наказан Богом, повелевшим ему сотворить новый мир, заступает на место творца и начинает ваять из глины людей, чтобы положить начало бытию нового человечества. Он даже пишет своего рода проект «Основы золотого века», содержащий «образ и закон будущего рая», где «новые, совершенные и мудрые люди», где «мир, как сад блаженных»30. Братья пытались построить нечто вроде наглядной художественной модели ультрарадикального общественного переворота во имя коренного преобразования мира и следующих за таким переворотом процессов.
Пьеса была задумана в 1925 г., закончена в конце 1926 г., а поставлена в 1927 г. — в год десятилетия Октябрьской революции. Однако это не аллегория российской революции. Авторов интересовали не столько конкретные исторические события, сколько общие закономерности явления, причем понятого довольно широко. В пьесе возникают реминисценции, связанные с античными утопиями-сказаниями о золотом веке, с республикой Платона, с именами Бакунина и Маркса. Носителями идеи радикального вооруженного переворота в драме оказываются и Красный глашатай-романтик, и Черный глашатай-узурпатор власти. Авторы, судя по всему, задались целью схватить общие черты различных, хотя в чем-то подобных, по их мнению, явлений и продемонстрировать их на притче об Адаме, которому выпала миссия Бога — сотворить мир. Если несколько упростить, выделены такие стадии и фазы процесса: решительное отрицание всего предыдущего и стремление полностью разрушить и уничтожить все, чтобы расчистить простор для нового; попытка после насильственного переворота создать все заново и иначе, которая, однако, наталкивается на непредвиденные и неожиданные процессы и обстоятельства. В результате возникает эффект отклонения того, что создается и происходит, от задуманного. Плод ума вырывается из человеческих рук. («Как только начнешь творить, выходит совсем не то, что ты представлял себе. Легче придумывать и писать, как мир должен выглядеть»; «Мой друг, уже это теперь не в нашей власти, и то, что мы творим, сильнее нас»; «Творить — это страшная ответственность; творя мир, можно и погубить его»31.) Далее начинается расщепление внутри самих новых сил, возникает антагонизм и борьба в собственных рядах: в пьесе ни один из сотворенных Адамом людей не согласен ни с самим творцом, ни со своими собратьями, и противоречия нарастают в геометрической прогрессии. Наконец, все венчает отказ преемников признавать авторитет зачинателей и поклоняться им. В общем итоге новый мир оказывается так же полон противоречий и недостатков. Жизнь оказывается неизмеримо сложнее мечтаний, умозрительных доктрин и планов. Некоторые критики увидели в пьесе отказ от идеи всякого улучшения мира. Братья возражали против такой интерпретации32.
Структурные особенности пьесы «Адам-творец» в контексте чешской драматургии и творчества Чапека исследует известный чешский литературовед П. Яноушек, определяющий ее как проблемную драму (т. е. драму, в которой центр тяжести переносится с конфликта как такового на проблему, стоящую за ним), в значительной мере трансформированную в экспрессионистский гротеск. Назначение этой формы — наглядно-экспрессивная демонстрация заданной авторской идеи, авторского философского построения — в данном случае полемического, в духе антиутопии, — которое и иллюстрируется фантастическим сюжетом, облекается в сценические действия33.
Строго говоря, комедия «Адам-творец» типологически даже ближе драме Булгакова «Адам и Ева», чем пьеса «R.U.R.», но этой драмы Булгаков определенно не знал. Как уже говорилось, она была переведена на русский язык только в 70-х гг. Тем более показательна общая направленность мысли, сходство поднятых проблем и отчасти фабульных мотивов.
В пьесе братьев Чапеков «Адам-творец» в гротескной форме вновь заострено характерное для многих антиутопий XX в. предостережение об опасности рискованных и безоглядных, «хирургических» вторжений в процессы макробытия, об опасности несовпадения проектов (даже самых благих) и их реализации, о необходимости с достаточной осторожностью относиться к возможностям человеческого разума, дерзкого в своих попытках предвосхищений, но не охватывающего всей сложности мира. Собственно, та же мысль лежит и в основе антиутопий Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Адам и Ева», наконец, романа «Мастер и Маргарита». В плоскости этой проблематики находятся как основные созвучия художественной мысли Булгакова и братьев Чапеков, так и творческое соприкосновение русского писателя со знаменитой драмой чешского автора и вариациями на ее тему у Алексея Толстого. Творческий контакт Булгакова с Чапеком и Толстым способствовал активизации его размышлений на соответствующую тему и дал дополнительную пищу воображению в процессе разработки концептуальных образных мотивов.
P.S. Уже достаточно было сказано о вторичности пьесы Толстого «Бунт машин». Но справедливости ради следует воздать должное и таланту, с каким осуществлено им перевоплощение сюжета Чапека. Необходимо хотя бы в нескольких словах более конкретно сказать о тех творческих находках и оригинальных художественных решениях, о которых уже было упомянуто в общей форме и которые также составляют неотъемлемое качество его вариаций. К числу таких находок, на наш взгляд, несомненно относится, например, финал его пьесы, выполненный в ином ключе, нежели у чешского писателя. В завершающем акте драмы Чапека зритель узнает, что Алквист (единственный из людей, оставшийся в живых) так и не сумел, к его великой скорби, восстановить биохимические формулы производства роботов, без чего они обречены на скорое и полное вымирание. Но вместе с тем становится вдруг ясно, что у Прима и Елены зарождается чувство любви. Их поведение выдает, что им открылся неведомый раньше мир чувств. Особенно тонко и поэтично через короткие монологи Елены зрителю дано почувствовать пробуждение у нее женственности, влечения к Приму и желания нравиться. Сам ее диалог с Примом приобретает черты поэта-ческой речи, волнующей лиричности, сближается со стихотворной интонацией13*:
«Елена (перед зеркалом). Будто я красивая? Ах, эти ужасные волосы! Что бы такое воткнуть в них? Там, в саду, я всегда втыкаю в волосы цветы; но там нет зеркала, и никто... (Всматривается в свое отражение.) Ты — красивая? Почему? Разве красивы волосы, от которых только тяжело голове? Красивы глаза, которые то и дело закрываешь? Или губы, которые все время кусаешь, чтоб стало больно? Что это такое, к чему это — быть красивой? (Видит в зеркале Прима.) Это ты, Прим? Пойди сюда. Посмотримся в зеркало, вот так, рядом... Видишь, у тебя голова не такая, как у меня, и плечи, и рот... Ах, Прим, зачем ты сторонишься меня? Почему заставляешь меня целыми днями бегать за тобой? А сам говоришь, что я красивая!
Прим. Это ты от меня скрываешься.
Елена. Что за прическа! Дай-ка! (Запускает обе руки ему в волосы.) Ой, Прим, как приятно до тебя дотрагиваться! Погоди, ты тоже должен быть красивым! (Берет с умывальника гребенку, начесывает Приму волосы на лоб.)» (4, 199). И т. д.
Приведенный отрывок можно анализировать почти как стихи. С лирикой начала XX в. его роднит и легкий оттенок эротичности, который придает ему своеобразный колорит.
Любовь Прима и Елены открывает перспективу возрождения человечества в роботах. Пьеса завершается монологом Алквиста, вспоминающего шестой день творения и напутствующего молодую чету поэтической цитатой из Библии:
«Алквист. <...> Ступай, Адам. Ступай, Ева; ты будешь ему женой. Будь ей мужем, Прим. <...> Благословенный день! <...> Праздник дня шестого! "И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину — сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. <...> И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестый". <...> О, природа, природа, — жизнь не погибнет!» (4, 202).
Как мы видим, финал пьесы выдержан в интимно-лирической и почти литургической тональности. Толстой предпочел иное решение. Он внес в поэтическую атмосферу финальной сцены элемент разнообразия и лукавую ноту юмора, обратившись к библейскому мотиву яблока. Пуль подобно Алквисту сетует на безнадежность своих попыток восстановить заветный рецепт, но, увидев Еву, выходящую из леса навстречу Адаму с яблоком в руке, вдруг восклицает «Вспомнил!..». Далее Ева угощает Адама яблоком. Диалог между ними также переведен в иной стилистический ряд. Он менее «литературен», чем у Чапека, в нем больше разговорных ноток, и напоминает он стиль не столько интимного стихотворения, сколько жизнерадостной народной сказки. Некоторые его фрагменты и строятся по парадигме сказочных вопросов-ответов и не лишены сходства с устойчивыми сказочными формулами:
«Ева. Адам.
Адам. Пришла... Где была?
Ева. В лесу.
Адам. Зачем в лес ходила?
Ева. Ягоды собирала.
<...>
Ева. Адам, посмотри — я сорвала ьа дереве.
Адам. Что это?
Ева. Яблоко.
Адам. А ну тебя. <...>
Ева. Я откусила. Оно сладкое.
Адам. Ну сладкое, сладкое... Дела совсем плохи, Ева. (Имеется в виду безуспешность поисков Пулем заветных формул. — С.Н.) <...>
Ева. Ходишь к тебе, ходишь...
Адам. Ну?
Ева. Откусил бы яблоко-то.
Адам. Ах... Ну, дай.
<...>
Адам. У тебя глаза сделались прозрачные, странные.
Ева. Это от лесного света.
Адам. У тебя заря на щеках.
Ева. Я в ручье купалась.
Адам. А это что?
Ева. Волосы мои.
Адам. А это что?
Ева. Плечи.
Адам. Ты на меня не похожа, Ева!
Ева. Нет, не похожа, Адам.
Адам. А это?
Ева. Рот.
Адам. Яблоком пахнет.
Ева. Страшно, Адам.
Адам. Страшно...
(Адам целует Еву в губы.)
Адам. Ты женщина, Ева.
Ева. Ты муж, Адам.
Адам. Да, я муж! Я человек! Какой свет хлынул мне в глаза! <...> Солнце, катись, катись ко мне на землю! Ветер, шуми листьями! <...>»34.
Ассоциации с античной Еленой и образом библейской Евы слились с поэзией русской народной сказки, с образом красной девицы из этой сказки.
С другой стороны, не лишено интереса, что лукаво-юмористические ноты в финале драмы Толстого не чужды в принципе и чешскому художественному менталитету. В этой связи вспоминаются и некоторые вещи самого Чапека, например его «апокрифический» рассказ «Ромео и Джульетта».
Упомянем и о таком новшестве автора «Бунта машин», как введение в пьесу темы обывателей, отсутствующей у Чапека. Толстой перемежил действие драмы периодическими появлениями на сцене обывателей — мужа и жены, которых волнуют совсем не мировые проблемы, а чисто житейские заботы, поиски возможностей приноровиться к происходящему, приспособиться то к гнетущим условиям жизни под властью финансово-промышленных воротил, то к стихии восставших масс, то к поведению роботов. При этом они стремятся не упустить случая поживиться, чем удастся, и готовы в зависимости от ситуации выдавать себя и за сторонников, и за противников восстания, и за людей, и за роботов. Автор относится к ним и с иронией, и с состраданием, как к жертвам. Фигуры обывателей оттеняют общие проблемы макропроцессов. Возникает еще один срез, еще одно преломление искаженного бытия — в его первичной, примитивной и отчасти в чем-то профанной форме. Можно было бы говорить и о других не менее удачных художественных решениях Толстого. Однако вернемся к Булгакову.
Примечания
*. Правда, в русском переводе прослеживается некоторая тенденция к заострению (с помощью стилистических сдвигов) социального звучания драмы (ср.: Минц З.Г., Малевич О.М. Указ. соч.). Следует также оговориться, что слово «робот» тогда еще не стало общеупотребительным, и в русском тексте переводчики обходились словом «работарь» (Толстой в своей пьесе последовательно называет роботов «искусственными работниками»). Кроме того, заглавие пьесы Чапека в русском переводе звучало как «ВУР», а не «Р.У.Р.». Дело в том, что аббревиатура «R.U.R.» у Чапека — это сокращенное название комбината и фирмы по производству роботов. Полное их наименование «Rossums Universal Robots», т. е. «Россумовские Универсальные Роботы», где слово «Rossum» некоторым своим сходством с чешским «разум» («rozum») должно, по-видимому, намекать, что роботы — плод человеческого разума и умозрительной идеи. Соответственно в немецком переводе было употреблено слово Verstand (слегка измененное Werstand — «разум»), что и дало в русском переводе «Верстандовы Универсальные Работари», сокращенно «ВУР» (см. подробнее: Минц З.Г., Малевич О.М. Указ. соч.). Судя по тому, что во вступительном пояснении к своей пьесе Толстой также называет драму Чапека «ВУР», а не «Р.У.Р.», он тоже пользовался не чешским ее оригиналом, а текстом, восходящим к немецкому переводу (по некоторым сведениям, у него имелся русский подстрочный перевод с немецкого).
**. И.Е. Ерыкалова обратила внимание, что и в романе Е. Замятина «Мы» одного из людей-номеров, населяющих унитарный социум, математика Д-503, также называют в шутку Адамом (Ерыкалова И.Е. Адам и Ева [Комментарии] // Булгаков М.А. Пьесы 30-х годов. СПб., 1994. С. 591).
***. Ср. наблюдения над семантикой образа роботов и событий в пьесе «R.U.R.», сделанные П. Яноушеком: «Фантастический и утопический элемент, который Чапек ввел в тематику и сюжет драмы, до известной степени подавил возможность прямой параллели роботы — "рабочие", сделав тем самым героев пьесы (из числа людей) представителями не столько отдельных социальных слоев и групп, сколько человечества как целого. Благодаря этому характерный для эпохи и часто изображавшийся тогда социальный конфликт переведен в иную плоскость, и речь идет о столкновении не столько между классами или иными группами, сколько между всем человечеством и чем-то нечеловеческим» (Janoušek P. Rozměry dramatu. Praha, 1989. S. 73). Алексей Толстой, наоборот, усилил социальные акценты.
****. По воспоминаниям старожилов, цитируется припев одной из песен 20—30-х годов: «Винтовочка, бей, бей, бей! / Винтовочка, бей, бей, бей! / Винтовочка красная, / буржуев не жалей!»
5*. Название газа, по всей видимости, является отзвуком повести А. Куприна «Жидкое солнце» (1912), в которой рассказывается о фантастическом веществе, созданном учеными путем концентрации энергии солнечного луча и обладающем огромной взрывчатой силой. Благодаря неосторожному обращению баллон с этим веществом становится источником колоссального взрыва, который современному читателю напомнит взрыв ядерного устройства. Одним из первых в русской литературе Куприн заговорил об ответственности ученого, развязывающего невероятные силы. (О фантастических произведениях А. Куприна в контексте русской фантастики см.: Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970. С. 32 и др.)
6*. По существу аналогичный случай параллелизма «на расстоянии» отмечен Г.А. Лесскисом в картине адского бала в «Мастере и Маргарите»: «Знаменательно то обстоятельство, что великий бал у сатаны открывается появлением человека, ложно обвиненного в отравлении, государственной измене и других страшных преступлениях, завершается явлением двух последних гостей" (Ягоды и Буланова <...>), также ложно обвиненных в аналогичных преступлениях. Таким образом знаменитые сталинские политические процессы здесь сравниваются с известными всему миру беззаконными средневековыми судебными расправами» (Лесскис Г.А. Триптих М. Булгакова о русской революции. М., 1999. С. 364).
7*. Кстати говоря, подобные воззрения обоих чешских авторов опять-таки сформировались не без контакта с духовным наследием Достоевского. Карел Чапек еще в молодости хорошо знал сочинения этого писателя, особенно романы «Преступление и наказание» (где как раз широко поставлены указанные проблемы), «Бесы» (где они получили дальнейшее развитие), «Идиот», «Братья Карамазовы». Он вообще считал Достоевского самым крупным представителем русского романа, а русский роман — совершенно особым явлением в мировой литературе, обладающим специфическими достоинствами. Он не раз упоминал в своих эссе и о влиянии Достоевского на свое поколение (Čapek K. Spisy. Praha, 1985. D. XVIII. S. 516. См. также: D. XIX. S. 310) и даже разбирал механизм воздействия его произведений на читателя. Этот разбор настолько интересен, что имеет смысл привести хотя бы небольшой отрывок из эссе Чапека. Он писал, что творчество Достоевского — «это нечто чудовищно невозможное. Это крайняя абстрактность в конкретности (abstractum in concreto); неведомой силой оно соединяет в себе самую грубую действительность с самым высшим духом, причем не подчиняя действительности духу. Они находятся рядом или проникают друг в друга, но остаются неслиянными, разделенными и враждебными. Однако при всем том это связь, целостность, система в напряженном противоборстве.
Подобно этому творчеству столь же сложным оказываюсь и я, его читатель. Во-первых, я выступаю как наблюдающий субъект или так называемый объективный зритель. Во-вторых, я сочувствующий субъект или субъективный участник, и, в-третьих, я субъект, познающий самого себя, т. е. в определенной мере наблюдаемый объект. И это триединство мы находим только в русском романе. <...> Все это не подражание жизни, а состояние жизни, факты жизни или жизнь ама. Если бы вообще можно было разделить жизнь на действительную и фиктивную, на жизнь и искусство, это творчество принадлежало бы скорее жизни.
Да, жизнь! Но посмотрите, как она полна человечности. В этом конкретном мире среди разлада живет любовь, он проникнут нравственностью, прощением и Божией верой. <...> И эта ощущаемая мной последовательная устремленность к человечности означает тяготение к самой высшей из возможных целей искусства — к человеком созданной и от человека исходящей гармонии мира» (XVII, 176—178).
8*. Может быть, в повести Булгакова есть и еще один намек на поэму Блока. «Собачье сердце» открывается своего рода «внутренним монологом» Шарика, который жалуется на свою судьбу, и жалобы начинаются собачьим воем: «У-У-У-У-У-У-гу-гу-гугу-уу!» (2, 99). Случайно или нет, но звук «у» повторен ровно двенадцать раз.
9*. По сути мы имеем здесь дело с частным случаем фрагментарной цитации, когда цитаты состоят из усеченных (иногда вплоть до одного слова) сегментов текста. Подобные цитации (чаще всего скрытые) нередко встречаются у Булгакова (ср.: Сазонова Л.И., Робинсон М.А. Миф о дьяволе в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. 50. С. 780 и др.).
10*. Между прочим, Н.А. Кожевникова обратила внимание на скрытые ассоциативные аналогии между революцией и Всемирным потопом еще в пьесе Булгакова «Бег», написанной в 1926—1928 гг.: «мимолетная реплика безумного дю Бризара "Ноев Ковчег", заключающая своеобразный смотр героев в первом "сне" (пьеса написана как несколько сновидений об исходе белых из России. — С.Н.), имеет вполне определенный и однозначный смысл: семь пар чистых и семь пар нечистых (разделение на чистых и нечистых содержится уже в фамилиях персонажей: Голубков — голубь — символ чистоты, Серафима, с одной стороны, Чарнота — с другой). Одновременно в ней заключена и другая возможная ассоциация — всемирный потоп» (Кожевникова Н.А. О сквозных мотивах в пьесах Булгакова // Вопросы стилистики. 1977. Вып. 12. С. 78). Сравнение мировой войны и революции с библейским потопом встречается и у тех авторов 20-х гг., которые безусловно принимали революцию, — «Мистерия-Буфф» (1918) В. Маяковского. Но они вкладывали в эту образную аналогию другой смысл.
11*. Даже мотив цветов, сопутствующий у Чапека и Толстого образу Елены и возникающий также в пьесе Булгакова, что, разумеется, не означает обязательно генетическую связь, получает у него травестийное воплощение. В пьесах Чапека и Толстого такой мотив как бы создает дополнительную поэтическую аранжировку образа героини. С особым вкусом и изяществом это сделано у Чапека. В годовщину свадьбы Елены друзья дарят ей не только корзины цветов и шампанское в серебряных ведерках (то же у Толстого), но и специально выведенный для нее новый сорт цикламена. Художественный эффект усилен созвучием названия цветка и имени героини: «Цикламен Елена». В пьесе Булгакова есть эпизод, когда Маркизов идет навстречу Еве и хочет вручить ей букет лесных цветов. Пончик-Непобеда вырывает у него и выбрасывает цветы, заявляя ему вполголоса, что раз он взял доллары, то не имеет права подносить Еве букеты. «Аморальный субъект...» (3, 359) — укоризненно добавляет он.
12*. В качестве эпиграфа к подобного рода произведениям подоив о бы известное стихотворение Леонида Мартынова «Вода»:
Вода
Благоволила
Литься!
Она
Блистала
Столь чиста,
Что — ни напиться,
Ни умыться.
И это было неспроста.
Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.
Ей
Водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.
Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!(Мартынов Л. Собр. соч. в 3-хт. М., 1976. Т. 1. 1976. С. 176.)
13*. Характерно, что Ян Мукаржовский, демонстрируя лирическую компоненту интонационного строя произведений Чапека, иллюстрировал свои наблюдения, в частности, примерами из этой финальной сцены драмы «R.U.R.» (Mukařovský J. Kapitoly z české poetiky. Praha, 1948. D. 2. S. 364).
1. Ерыкалова И.Е. Адам и Ева [Комментарии] // Булгаков М.А. Собр. соч. в 5 Т.М., 1990. Т. 3. С. 662.
2. Ерыкалова И.Е. Адам и Ева [Комментарии] // Булгаков М.А. Пьесы 30-х годов. СПб., 1994. С. 591.
3. Подробнее о драме К. Чапека «R.U.R.» см.: Никольский С.В. Карел Чапек — фантаст и сатирик. С. 35—123. Специфику этой драмы как экспрессионистского гротеска анализирует П. Яноушек: Janoušek P. Rozměry dramatu. Praha, 1989. S. 73—89. Весьма ценные наблюдения содержит монография Ф. Черного: Černý F. Premiéry bratří Čapků. Praha, 2000. С. 71—107.
4. Подробнее см.: Минц З.Г., Малевич О.М. К. Чапек и А.Н. Толстой // Ученые записки Тартуского гос. университета. 1958. № 65. С. 122—124.
5. Злат П. О новых работах А.Н. Толстого. Из беседы // Жизнь искусства. Пг., 1923. № 42. С. 9.
6. Толстой А.Н. Бунт машин. Л., 1924. С. 5. В дальнейшем пьеса цитируется по этому изданию и отсылки делаются в тексте. (О разночтениях названия драмы Чапека в русских переводах см. дальше.)
7. Толстой А.Н. Краткая автобиография // Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 2. С. 452.
8. Лосев В.И. [Комментарии] // Булгаков М. Дневник. Письма. 1914—1940. М., 1997. С. 127.
9. Паршин Л. Чертовщина в американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. М., 1991. С. 100—101.
10. Злат П. О новых работах А.Н. Толстого. С. 9.
11. Цит. по: Коллективное жизнеописание Михаила Булгакова. Глазами ОГПУ. Публикация Г. Файмана. Консультанты: сотрудники ФСК РФ В. Виноградов, В. Гусаченко // Независимая газета. 28 сентября 1994. С. 5.
12. Чапек К. «ВУР». Верстандовы Универсальные Работари. Пер. Е. Геркена и И. Мандельштама. Л., 1924. Далее пьеса цитируется по этому переводу, который мог быть знаком М.А. Булгакову.
13. Леонов Л. Пирамида. М., 1994. Т. 2. С. 325 и др.
14. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1978. Т. 6. С. 199—202.
15. Bratří Čapkové. Adam Stvořitel. Praha, 1929. S. 8.
16. Смелянский А. Драмы и театр М. Булгакова // Булгаков М.А. Собр. соч. в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 600.
17. Ср.: Чудакова М.О. Адам и Ева свободны // Огонек. 1987. № 37. С. 15.
18. Ерыкалова И.Е. Закат Европы и «Блаженство» // Творчество Михаила Булгакова. Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1995. Кн. 3. С. 63.
19. Джек Лондон. Собр. соч. в 14 т. М., 1961. Т. 6. С. 94—95.
20. Ср. сопоставление соответствующих картин у Пушкина и Толстого (с одновременным раскрытием генетической связи) в работе: Л.Д. Опульская-Громова. А.С. Пушкин у истоков «Анны Карениной». Текстология и поэтика // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М., 1998. С. 162—171.
21. Золотоносов М. Родись второрождением тайным... // Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 154.
22. Шаргородский С. Собачье сердце или Чудовищная история // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 90.
23. Бытие 6, 7, 8, 9.
24. Бабичева Ю.В. Эволюция жанров русской драмы XIX — начала XX века. Вологда, 1982. С. 106.
25. Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. М., 1920. С. 8.
26. Бабичева Ю.В. Эволюция жанров русской драмы XIX — начала XX века. С. 108.
27. Очерки истории русской советской драматургии. 1934—1945. М., 1966. Т. 2. С. 135—146.
28. Ерыкалова И.Е. Закат Европы в «Блаженство» // Творчество Михаила Булгакова. СПб., 1995. Кн. 3. С. 62—88.
29. Чудакова М.О. Адам и Ева свободны. С. 15.
30. Bratří Čapkové. Adam Stvořitel. S. 26, 27, 29.
31. Bratří Čapkové. Adam Stvořitel. S. 45, 58, 46.
32. Отклики на пьесу обстоятельно анализирует Ф. Черный: Černý F. Premiéry bratři Čapků. S. 278—311.
33. См.: Janoušek P. Studie o dramatu. Praha, 1992. S. 26—71.
34. Толстой А. Бунт машин. Л., 1924. С. 90, 91.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |

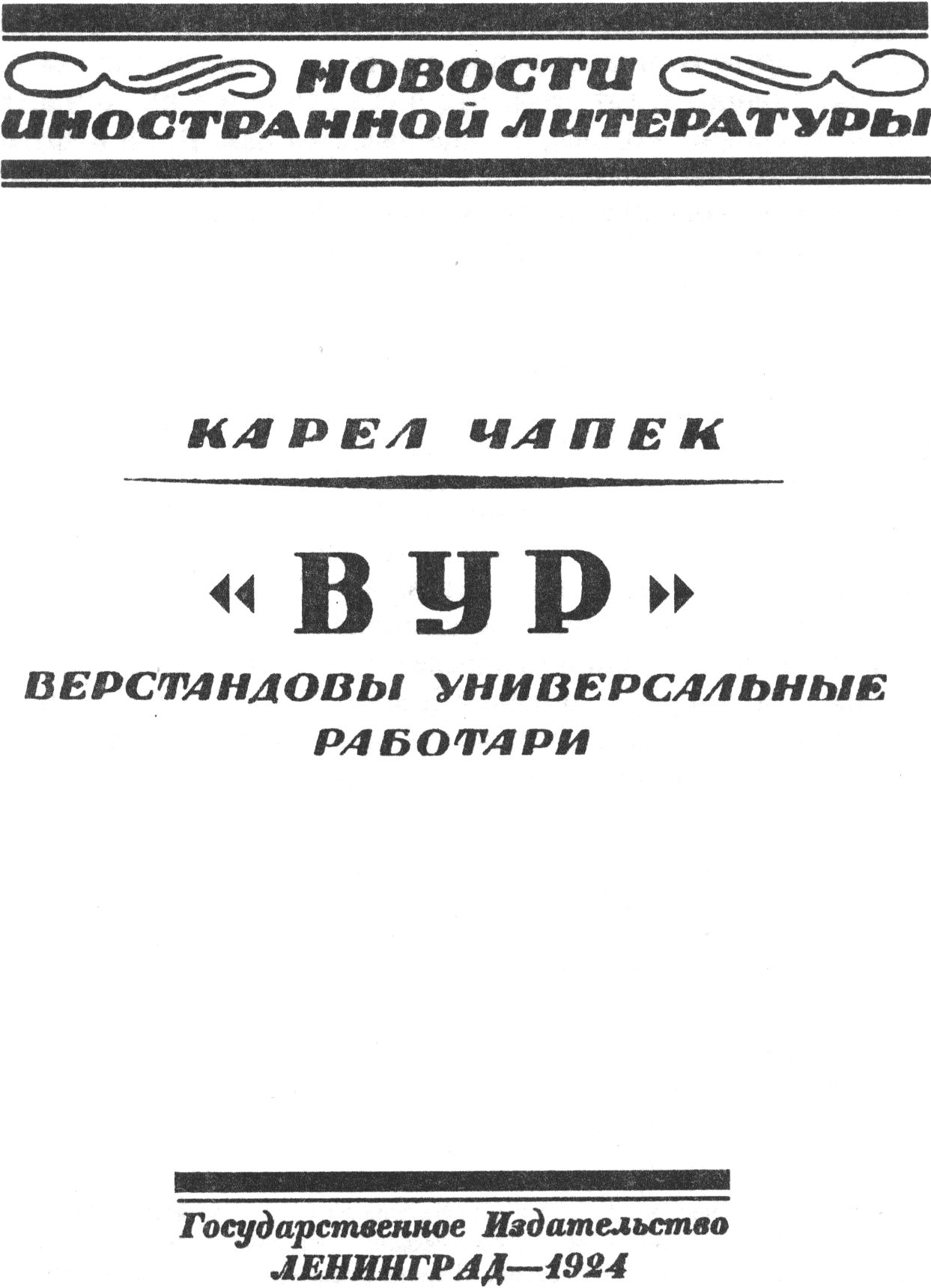
![Рис. 3. [Война.] Автор — чешский художник Иржи Винтер (Непракта) Рис. 3. [Война.] Автор — чешский художник Иржи Винтер (Непракта)](/wp-content/uploads/sanchb/1-3.jpg)