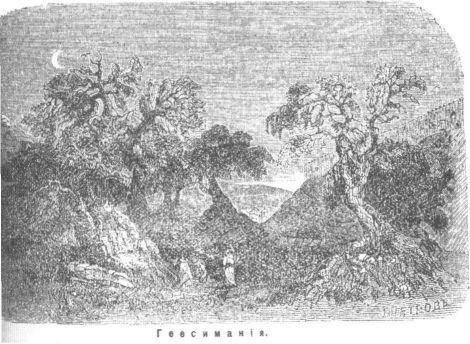Не жди несбыточного чуда —
Жизнь удивительно проста:
Распяли, все-таки Христа,
Но вечно здравствует —
Иуда...
И чего прицепились к этому слову-имени? Оно не хуже всякого иного. Ну, провинился один Иуда, и когда это еще было, да и было ли вообще! А их, в одном только Писании, я обнаружил — четырех: Иуда Апостол, Иуда — брат Христа, Иуда Галилейский и Иуда Искариот. Но вся историческая перепалка происходит, как известно, из-за последнего...
Евангелия утверждают, что именно он предал Иисуса Христа, и называют его — «христопродавец». Подобное выражение звучит вполне современно — говорят же: этот тип меня продал, имея в виду, что — предал. И живет это то-ли предание, то-ли быль уже две тысячи лет, периодически привлекая внимание общественности. Вот и недавно вдруг объявили, что найдено Евангелие от Иуды, причем от этого самого. И тут же заспорили — не мог он его написать, понеже вскоре после своего предательского поцелуя наложил на себя руки:
«Согласно каноническим текстам Иуда после предательства очень быстро покончил с собой».
Давайте посчитаем. О самоубийстве Иуды сообщает только одно Евангелие из четырех, следовательно, если исходить из канонических текстов, то вероятность этого составляет всего 25 процентов. Причем в Евангелии от Матфея говорится: «И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился». Но это в русском переводе, а на церковно-славянском выглядело так: «И повергъ сребреники, въ церкви, инде: и шедъ оудависа». Но на древне-славянском «удавился» значит — «утопился», а не повесился (се обеся), а, как известно, кому суждено быть повешенным, тот не утонет! Если принять во внимание, что церковно-славянский язык производный от старославянского, а тот в свою очередь восходит к древнеболгарскому (к его македонским говорам), то и тут нет подтверждения факта суицида. Тогда выходит, что 25 надо поделить на два, и получится только 12,5 процентов вероятности смерти Иуды. Теперь обратимся к «Деяниям святых апостолов», там смерть Иуды описывается так: «Но приобрел землю неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его...». И опять вероятность уменьшается — уже до 6,25 процента. Стало быть, 93,75 процента канонических текстов факта смерти Иуды не подтверждают. Значит, вполне можно сделать вывод, что он жив, и предположить, что это именно он, а не Агасфер есть тот легендарный Вечный Жид, о котором написано столько сочинений.
Всем известно ругательное слово «жид». Откуда оно взялось, было ли ругательным исконно, и ругательно ли оно в других, кроме русского, языках? На последний вопрос ответим со всей определенностью — нет, в других не ругательно, и в русском прежде таковым не являлось. Поныне в польском, чешском и некоторых других славянских (да и не славянских) языках оно означает — «еврей», без какого бы то ни было эмоционального наслоения — просто принадлежность к определенной национальности, и было самоназванием еврейского народа.. Да и в русском оно прежде не имело оскорбительного оттенка и существовало как синоним к слову «еврей». Посмотрим, например, у Лермонтова — «Еврейский мотив», но — «Куда так проворно, жидовка младая...».
Все ведь зависит от конкретного отношения одного народа к другому народу, а точнее определенной части какого-нибудь народа к другому или ко всем прочим. Попутно заметим, что и слово «еврей» для определенно настроенных людей у нас уже приобрело ругательный оттенок, и воспринимается, при определенных обстоятельствах, людьми еврейской национальности с естественным чувством обиды. Но к Иуде это имеет весьма отдаленное отношение, во всяком случае, не прямое. Как мы видим, его имя вполне могло послужить основой для слова «Жид», а определение «Вечный» прибавилось к нему, видимо, потому, что несло в себе представление о живучести такого библейского греха (мягко выражаясь), как предательство. И если Мастер у Булгакова допускал, и даже точнее — утверждал бессмертие Иешуа и Понтия Пилата, то почему мы не можем утверждать бессмертие Иуды Искариота? И почему слова «Помянут меня, сейчас же помянут и тебя!» нельзя с таким же успехом как к Пилату, отнести и к Иуде? Ведь его имя также упоминается обычно в связи с Христом...
Посмотрим, откуда оно взялось. А взялось оно от того же Иуды, ибо столь распространенное когда-то мужское еврейское имя совпадало — по чистой случайности — с начертанием названия иудейского (по вере) народа: Jude. Начертание это при прочтении людьми других языков выглядело так: — J читалось как Ж, U — как Ы или И, D оставалось без изменений, а E вообще утрачивалось. Таким образом, Jude превратилось в «Жид». Точно таким же образом, как, скажем, слово Russen при прочтении людьми англосакской группы трансформировалось в Рашен, которое, между прочим, никакой оскорбительной функции само по себе не выполняет, но у них, при определенном к нам отношении, тоже звучит как оскорбление. Не будем уже говорить о совершенно невинном слове «Москаль», которое стало самым страшным ругательством в некоторых сопредельных странах.
Интересно, что немцы произносят слово Jude так, как оно пишется: Юде, причем во времена Третьего рейха оно было ругательным, если не сказать больше, а теперь опять звучит вполне нормально...
До войны (Отечественной) в Советском Союзе антисемитизм не ощущался, а официальными властями даже категорически запрещался. В чем тут дело? Ведь Сталину это чувство было присуще всегда. Но, мне кажется, это можно объяснить тем, что ему не надо было по этому поводу суетиться, или, как теперь говорят — светиться. Он знал, что тут дело идет и без него — в Германии и по всей Европе Гитлер в эти годы усердно занимается окончательным решением еврейского вопроса. А вот когда Гитлера не стало, Сталин принял от него эстафету. Ну, не сразу, а малость погодив: «Считаю до трех! — сказал он, — 1946-й, 1947-й, 1948-й... Начали!». И выпустил на арену Отпетова с указанием — «Круши!» Ну а Отпетов громогласно возгласил: «Геть проклятых космополитов!». И вроде самого слова «жид» не произнес, а всем понятно. Это как по анекдоту — «Еврей пришел из театра раньше времени, жена спрашивает — в чем дело? — Да вышел Гамлет и сказал: Бить или не бить? Ну а кого бить, понятно. Я и удрал от греха»...
У Отпетова был международный зуд на космополитов — по отцу русский, из казаков, по матери немец, как раз то, что надо, — и Иосифу прикрытие, и Адольфа продолжил... Был тут у него и личный мотив — «космополиты» стояли у него на пути к подмосткам — пьесы его затирали. А тут сразу две пьесы пошли, да в лучших театрах, и за обе огрёб Сталинские премии!
Я специально не называю его настоящего имени — люди старшего поколения тут же узнают, а новым гражданам он всё равно неизвестен. И пусть они его принимают, как обобщенный тип погромщика... Уточняю: речь идет о прототипе главного героя моего романа, и называть настоящее его имя, значит создавать еще одного Герострата, а мне это ни к чему...
Борис Пастернак
Степень отравленности людей в те годы могу проиллюстрировать очень простым, даже примитивным примером. Сидим мы в компании, попиваем, слушаем музыку. Поставили пластинку Цфасмана. И тут один юноша, лет шестнадцати-восемнадцати удивленно восклицает: «Еврей, а играет хорошо?!».
И пошло эхом по стране: Бей жидов, спасай Россию! Но ведь в этом лозунге, если глубже копнуть, обнаруживается подкоп под ту же самую Россию.
Если принять, что предварительное условие спасения России именно в битье жидов, то возникает вопрос — а когда всех перебьют, то что делать дальше? Можно взяться за армян, или за мордву — да у нас народов много, лет на тыщу хватит, и то, пожалуй, всех не перебьешь! Ну а перебивши? Чем ее потом спасать-то? Что ж, после этого России так уж и окончательно пропадать!? Выходит, лозунг — никудышный...
«Время проходит, но сказанное слово остается», — сказал Лев Толстой.
Сказанные слова сохранились... Правда, не в фонограмме, а в стенограмме. Вот она передо мной — стенограмма того позорного собрания писателей Московской организации, на котором распинали Бориса Пастернака. Состоялось оно 31.10.1958 года. И еще у меня сохранилось несколько газет того и несколько более позднего времени — сильно пожелтевших и ломких, посвященных всё той же теме. Среди них статья Владимира Солоухина — «Пора объясниться», опубликованная в газете «Советская культура» 6.10.1988 года. Через тридцать лет!
В ней мы читаем:
«Четырнадцать человек, выступивших на том собрании. Теперь в разных мемуарных опусах этот список приводится не иначе как в сопровождении фраз: «Мы поименно помним, кто поднял руку...», «Им никогда не отмыться...». На всех перекрестках планеты этих людей клеймят как травителей и чуть ли не как убийц «величайшего гения XX века» Б. Пастернака.
Вот и читательница «СК» клеймит меня за то, что теперь я читаю наизусть стихи Пастернака и при этом, проявляя явную непорядочность, не вспоминаю о своем прошлом выступлении...
...Я не чувствую за собой особенного греха, а следовательно, и острого желания отмываться и каяться. Я считаю, что я, выступивший и сказавший, «грешен» не больше остальных, сидевших в зале и промолчавших. Нет уж, дорогие мои, хорошие, если уж отмываться и каяться, так давайте все вместе, Сообща, все, кто был в том зале и вообще кто числился тогда советским писателем. И отмываться нам надо не от поступка (ибо несовершение поступка — это уже поступок), а от времени».
Еще раз подчеркнем — это через тридцать лет...
Посмотрим, более ли он грешен, нежели остальные? Но прежде — небольшой комментарий: — Читаю стенограмму, одно за другим выступления тринадцати плюс одного «обвинителя». Запевалой стал поэт-песенник О'Шавкин (назовем его так, это про него сказал Твардовский: — «Какой он поэт, просто изготовитель песенных болванок!»). Ну, и пошло-поехало... Вот и наш давний знакомец — Отпетов. Он оказался умишком поскуднее остальных и бросил фразу, ставшую крылатой: «Я книгу («Доктор Живаго») не читал тогда и сейчас не читал...» и пошел гвоздить дальше — десяти лет как и не бывало с тех пор, когда он прославился в качестве зачинателя всесоюзного погрома. И как будто не было никакого XX съезда — опять зазвенело привычное слово — «космополит»... Но за всеми гневными словесами ощущался самый обыкновенный страх, на котором держалась вся тогдашняя государственная система, как бочка на обруче — соскочил обруч, и бочка рассыпается на отдельные клёпки... Ну как тут не вспомнить слова Пилата из бессмертного романа Булгакова:
«...и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!».
Я не случайно сказал о тринадцати плюс один. Солоухин тут особь-статья. Давайте посмотрим, что он тогда изрекал:
«Товарищи, говорят иногда, что Б. Пастернак в каких-то определенных датах жизни был то лоялен по отношению к нашему обществу и советской власти, то постепенно отходил от этого, проходя эволюцию отщепенца. Но мне кажется, что это неверно, так как его поэтическое дарование, комнатное, камерное — само говорит за себя. Время от времени сквозь его непонятные народу строки, проскальзывали совершенно определенные вещи.
Возьмите хотя бы такие строфы:
Кашне от ветра заслонясь, —
Я крикнул в фортку детворе,
Какое, милые, у нас
Тысячелетье надворе!
И это в то время, когда наша страна переживала какие-то трудности! Находишь у него еще другие, более конкретно выраженные вещи.
Я слежу за разворотом действий
И играю в них во всех пяти.
Я один. Повсюду фарисейство.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Здесь все очень ярко выражено, и очень прямо! Это его изоляция.
Напрасно в дни великого совета,
Где высшим строем отданы места,
Оставлена вакансия поэта,
Она опасна, если не пуста...
Если разобраться в этих строках, то ясно, что настоящий поэт должен находиться в оппозиции к обществу, в котором живет!
Вот почему «Доктор Живаго» не является исключением в его творческой биографии. Здесь все закономерно.
Сейчас идет разговор — поскольку он является внутренним эмигрантом, то не следует ли ему стать на самом деле эмигрантом... И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом — он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут... И тогда это будет настоящая казнь за то предательство, которое он совершил».
Так вот, те тринадцать выступлений были в принципе — как под копирку, ну все жевали одну жвачку, а Солоухин позволил себе то, на что не решился ни один из его «коллег» — глумление над стихами Пастернака! Вот это рвение! Впереди паровоза и святее папы римского... В этом-то и есть тот особенный грех, которого он за собой не почувствовал...
Прения быстренько свернули, хотя были еще 13 (!!!) записавшихся. И мне кажется, потому, что среди них был Владимир Дудинцев, которого недавно громили за нашумевший роман «Не хлебом единым», и его выступление могло оказаться не в жилу, а если говорить точнее — вызвать эффект разорвавшейся бомбы. И хотя Солоухин утверждал, что из пяти или шести сотен присутствовавших в зале ни один ни словечком не выступил в защиту Пастернака, нашелся-таки один не названный в стенограмме, который проголосовал (открыто!) против внесения в резолюцию следующего пункта: «Просить Советское Правительство о лишении Пастернака Советского гражданства».
В этой резолюции сказано:
«Собрание московских писателей, обсудив поведение литератора Б. Пастернака, не совместимое со званием советского писателя и советского гражданина, всецело поддерживает решение руководящих органов Союза писателей о лишении Б. Пастернака звания советского писателя, об исключении его из рядов членов Союза писателей СССР».
В комментарии «Литературной газеты» по поводу этого абзаца сказано:
«Все ораторы единодушно отметили, что своим антисоветским, клеветническим произведением, своим предательским антипатриотическим поведением Б. Пастернак поставил себя вне советской литературы советского общества, и одобрили решение об исключении его из числа членов Союза писателей СССР».
Коровьев в этом случае сказал бы: — Поздравляю вас, граждане соврамши!
А вот и не единодушно — девять человек при голосовании за это одобрение воздержались. Проголосовать против не решились, а вот воздержаться — да!
Как сказал Левию Матвею Пилат, убивший Иуду из Кириафа: — «Это, конечно, мало сделано, но это сделал я...».
Любопытнейшая вещь! На следующий день после собрания — 1 ноября вышла «Литературная газета» с целой полосой, посвященной Борису Пастернаку. Чего здесь только не было — и сообщение о вчерашнем собрании, и комментарий по этому поводу, и письма трудящихся — рабочих, колхозников, разночинцев, успевших отреагировать на писательские мероприятия — и когда только они успели? Электронной почты в ту пору не было и факсов тоже, по почте письма шли ни шатко, ни валко, а тут прямо и суток не пришло, как их и получить успели, и в газету заверстать... Ну, и, конечно, гневные послания от всех местных отделений Союза писателей. А каким мощным был этот Союз, насчитывающий целых десять тысяч членов. И все писатели! Я неоднократно просил многих моих собеседников назвать мне ну, хотя бы, сотню известных им писателей, но после первых двух десятков все разводили руками...
Чего тогда стоило слово «писатель» нам наглядно проиллюстрировал Мастер в романе «Мастер и Маргарита»:
— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:
Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он — мастер...
Михаил Булгаков
Под номером «Литературной газеты», вышедшей наутро после собрания, красовались фамилии членов ее редколлегии, и среди них... Ну, вы молодцы, что угадали — В. Солоухин...
Почему я тут уделяю ему так много места? Да потому, что он уж очень хорошо вписывается в наш разговор об Иудах. Особенно наглядно это подтверждается статьей Григория Поженяна, опубликованной в газете «Советская культура» от 13.10.1988 года и озаглавленной: «Пора объясниться»? Ну что же...». Написана она в ответ на статью В. Солоухина «Пора объясниться», появившуюся в той же газете неделей раньше.
Читаем Поженяна:
«Не правы вы и насчет «нечистой силы» искусства XX в. Не в разрушении и распаде его сила, а в милосердии и прославлении подвига, в жертвенности ради других.
Так было на войне, на которой вы — мой ровесник — не были.
Вы служили в охране Кремля и гордились тем, что стояли с автоматом у дверей, из которых выходил Сталин.
Вы хорошо знали мою биографию. Я пришел с войны, был разведчиком, долгое время считался погибшим. Вы гостили в моем доме, когда вернулась с войны мать, получившая извещение о моей смерти. Помните тот литинститутский полдень 1949 г., когда вам поручили выступить против нашего общего учителя Павла. Григорьевича Антокольского?
Я был вместе с ним на Голгофе. Вы — вбивали гвозди. Я хорошо помню папку с моими стихами, высовывающуюся краешком из-под вашей подушки. (Мы жили в подвале Литинститута в одной комнате). Меня тогда исключили из института и из комсомола с формулировкой (цитирую дословно): «За пособничество в организации беспринципной групповщины на семинаре бывшего руководителя, ныне разоблаченного эстета и космополита Антокольского»... Я уехал работать котельщиком на калининградские верфи растерянным. Еще молодой, только что вернувшийся с войны, не мог понять причин «дружеского предательства». А потом на очереди был наш общий друг — Владимир Тендряков. Он рассказывал мне, как, смеясь и улыбаясь, чуть ли не в обнимку, вы вошли на партсобрание в редакции «Огонька», где обсуждалось его «персональное дело». Вы первый «понесли» его, безжалостно и четко. Он был так потрясен, что до конца жизни не подавал вам руки. («Советская культура» 13.10.1988 г.).
Так вот, дорогие читатели, я был на том партсобрании — работал в ту пору в «Огоньке» фотолаборантом, и могу пояснить, в чем там было дело. Тендряков разошелся с женой и ушел, как настоящий мужчина — как стоял, с одним чемоданчиком, оставив ей и квартиру, и дачу, и вообще всё имущество. Но тогда был безошибочный способ возвращать мужей — через партбюро... Спрашивается, за что же его понес Солоухин?
Исторический экскурс:
Собрание, где распинали (заочно) Пастернака, проходило в 1958 году, когда выступавшим и присутствовавшим на этом судилище, включая Солоухина, 58-я статья уже не угрожала, и шла речь не о потере куска хлеба, потому как можно было уйти и в кочегары, и в дворники, а о куске масла на этот кусок хлеба... Я имею право так говорить, потому что осмелился еще при жизни Сталина — на самом ее излёте, когда во всю гремело «Дело врачей» и разворачивались новые репрессии, выступить против мнения всего партийного собрания в редакции того же «Огонька». Правда, не в одиночку — со мной за компанию выступил наш ретушер Леша Боровиков: два вчерашних фронтовика — один солдат, другой матрос. Словом, кинулись на амбразуру. А дело опять-таки было персональное. Обвиняли замечательного человека, заведующего фотоотделом Алексея Александровича Вольгемута в сокрытии своей национальности. Нет, он не был евреем, но у него в паспорте было написано — русский, а в партийной учетной карточке — немец. Вот за этого «немца» и взялись. Мы с Лешкой не могли понять, чего от него хотят, он ведь и вправду — и русский, и немец, даже больше русский, если считать как у евреев — по матери. О чем мы и сказали во весь голос: — Да не скрывал он ничего, записал же всё, как оно и есть, хотя и в разных местах.
Сам же Вольгемут высказался по этому поводу с юмором: «Ну да, я специально скрыл свою национальность, чтобы всю войну пройти в танке!» — он прошел ее от начала до конца замполитом танкового полка.
Но ему все-таки влепили строгача — мы с Лешкой голосовали против. Потом его понизили в должности, сделав заведующим фотолабораторией.
А вскоре еще одна персоналка — теперь взялись за армянина Мартына Мержанова, тоже фронтовика. За то, что присутствовал на юбилее главврача Боткинской больницы и не донёс, что там велись сионистские разговоры. Но на юбилее он был по заданию «Правды», как заместитель заведующего отделом информации (с того события прошло довольно много времени — он уже несколько лет работал в «Огоньке» заведующим отделом спорта). Разговоры же на юбилее состояли в том, что Михоэлс спросил молодых еврейских писателей, почему они пишут под псевдонимами — они что, стыдятся своей национальности? Казалось, ну чего было бы долбать Мержанова, но тут таился подводный камень — женат Мартын Иванович был на еврейке!!!
Это персональное дело, как и «Дело врачей», лопнуло на ходу — как раз в этот момент страна избавилась от Сталина...
Однако, необходимо снова вернуться к Солоухину, и дать слово Евгению Евтушенко. Его статья («Казнь собственной совестью») стояла рядом с поженяновской в том же номере газеты «Советская культура»:
«Меня ошеломляет, с каким постыдным душевным спокойствием Солоухин всенародно пытается оправдать свое предательство Пастернака и предательство вообще чуть ли не как неизбежную бытовую норму при определенных условиях... За тридцать лет грех предательства вашего, Владимир Алексеевич, казалось, был глубоко, надежно укрыт под могильным холмом неразглашения, но гласность подмыла его, как вода весенняя, и вина застарелая ваша высунулась, словно ручонка убиенного дитяти из наконец-то оттаявшего сугроба. А вы ведь хотели засыпать эту ручонку золотистым песочком ваших славословий Пастернаку по телевидению — авось былое позабудется. Но ваша обнаружившаяся двуликость потрясла до глубины души читательницу, может быть, поклонницу «Владимирских проселков» и «Писем из Русского музея»; и вопросила она горестно: кто вы на самом деле — или борец за культуру русскую, или один из ее убивцев? А вы, вместо того чтобы покаяться хоть сейчас, за что многое бы вам простилось, ответили так озлобленно, как будто кровному врагу, хотя может быть, эта читательница и была совестью вашей, которой вы смертельно испугались и которую возненавидели?..
Покаяния не стыдились. Покаянием очищались. Великий нравственный постулат «все виноваты во всем» направлен не на удобное для преступников «всеобвинение», а на невозможность ничьего самооправдания... Солоухин решил перевернуть этот постулат, обвинив всех и вся в свальном грехе гражданской казни Пастернака, на коем фоне и он, Солоухин, и его тринадцать сотоварищей якобы «не хуже других». Нет, все-таки те, кто проклинал с амвона, хуже молчавшей паствы. Те, кто произносил громовые речи о врагах народа на процессах тридцать седьмого, несравнимо хуже молчаливой толпы, стоящей с убогими узелками передачи на улице Матросская Тишина...
Максимилиан Волошин
Солоухин с удовольствием манипулирует евангелическими образами, защищая поддельным христианством свои антихристианские теории, хотя почему-то распятие Христа связывает только с Каифой и с Пилатом, по законам Фрейда деликатно умалчивая о самом главном предателе — Иуде»...
Теперь меня могут спросить: а причем тут во всем этом Булгаков? Ну, во-первых, притом, что мы в этом эссе рассматриваем тему Иуды в романе «Мастер и Маргарита», а во-вторых, обсуждение Пастернака очень похоже на разгромные статьи по поводу всего творчества Михаила Булгакова, каковых было без малого три сотни. Вспомним, что о подобных статьях говорит Мастер в романе «Мастер и Маргарита».
Заметим, что в ту пору не было ни телевидения, ни общедоступного радио, одни только газеты, да журналы. Так вот Мастер говорит Иванушке: «...Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим».
При публикации романа в журнале «Москва» эти слова были выброшены... Эпоха Булгакова продолжалась, хотя с момента его смерти прошло более четверти века. Думается, что за этими статьями-доносами, а соответственно и выступлениями стояла трусость, которая, повторимся, по Булгакову — самый страшный порок...
И Булгаков и Пастернак оказались историческими провидцами, их обоих, называли внутренними эмигрантами только за то, что они радели душой за отечество свое, в отличие от злобных слепцов, укорявших их за неприятие революции.
Вот что мы читаем в «Письме редколлегии журнала «Новый мир», врученном Пастернаку при возвращении ему рукописи романа «Доктор Живаго»:
«Дух Вашего романа — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Встающая со страниц романа система взглядов автора на прошлое нашей страны, и, прежде всего на ее первое десятилетие после Октябрьской революции (ибо, если не считать эпилога, именно концом этого десятилетия завершается роман), сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней для той части интеллигенции, которая ее поддерживала, было непоправимой бедой, а все происшедшее после нее — злом...
...Нам кажется, что Ваш роман глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, гражданской войны и послереволюционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого бы то ни было понимания интересов народа. Все это, вместе взятое, проистекает из Вашей позиции человека, который в своем романе стремится доказать, что Октябрьская социалистическая революция не только не имела положительного значения в истории нашего народа и человечества, но, наоборот, не принесла ничего, кроме зла и несчастия».
Письмо это было написано еще в 1956 году, но не публиковалось. А вот через два года, когда Пастернаку присудили Нобелевскую премию, из-за которой и поднялся весь этот вой, ее срочно опубликовали — 25 октября 1988 года, за несколько дней до пресловутого собрания. Оно появилось в «Литературной газете» и занимало площадь в две полосы. Только там и словом не обмолвились, что рукопись «Доктора Живаго» была передана итальянскому (миланскому) издательству «Фельтринелли», издательству коммунистического направления. Когда же роман в «Новом мире» «зарубили», то попытались с помощью руководства компартии Италии воспрепятствовать его выходу и у них. И даже сделали ход конем — «Гослитиздат» сообщил Фельтринелли, что в Москве роман выходит в сентябре 1957 года, и попросили до этого его не публиковать. И он, учтя указанную дату, выпустил «Доктора Живаго» в ноябре того же года, на итальянском и русском языках. В первые полгода эта книга выдержала 11 изданий! А в течение двух лет была переведена на 24 языка... И всё было тихо и спокойно, пока не грянула Нобелевская премия... Вот тут-то и притянули политику, и начали «шить дело»!
Читать вышеназванное «Письмо» невозможно — сводит скулы от тоски — идет бесконечная тавтология, талдычат одно и то же: не понял, не оценил, говорит о стадности... А что, как не стадность продемонстрировала вся эта возня октября—ноября 1958 года? Все единодушно клеймили, точно как в году 1937-м: «Расстрелять как бешеных собак!» — а ведь тогда (да и теперь) кликушествовали не только не дождавшись суда, но и вообще ничего не зная по существу.
Так вот, опять-таки об Октябрьской революции — Михаил Булгаков еще в году 1919 в газете «Грозный» опубликовал свое первое эссе «Грядущие перспективы», которую завершил следующими словами:
«Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова.
Платить за безумие мартовских дней, за безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станками для печатания денег... за все!
И мы выплатим.
И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.
Кто увидит эти светлые дни?
Мы?
О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.
И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:
— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!».
Вот мы и платим до сих пор, и сколько еще осталось выплачивать по этому историческому векселю?
Ну и немного о личных отношениях этих двух великих писателей.
Дневник Елены Булгаковой:
8 апреля 1935 г.
«Вечером зашел Вересаев... Потом он ушел наверх к Треневу, где справлялись имянины жены Тренева. А через пять минут появился Тренев и нас попросил придти к ним. М.А. побрился, выкупался, и мы пошли. Там была целая тьма малознакомого народа. Длинный, составленный стол с горшком цветов посредине, покрытый холодными закусками и бутылками. Хозяйка рассаживала гостей. Потом приехала цыганка Христофорова, пела. Пела еще какая-то тощая дама с безумными глазами. Две гитары. Какой-то цыган Миша, гитарист. Шумно. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи, с грузинского.
После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил: «Я хочу выпить за Булгакова!» Хозяйка: «Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова!» — «Нет, я хочу за Булгакова! Вересаев, конечно, очень большой человек, но он — законное явление. А Булгаков — незаконное!».
В своих записях Елена Сергеевна уточняет:
«Пастернак поднялся и сказал, что хочет произнести первый тост... Пастернак начал говорить на большой высоте — что человек этот, за кого он хочет выпить, такой необычайный... такой талантливый, гениальный... что большое счастье знать, что он живет рядом с нами, в наше время... И, наконец, Пастернак, доведя до высшей ноты, говорит: «Я предлагаю выпить за здоровье Михаила Афанасьевича Булгакова!».
В записях Елены Сергеевны о последних днях жизни Михаила Афанасьевича читаем:
«Когда Миша был уже очень болен, и все понимали, что близок конец, стали приходить — кое-кто из писателей, кто никогда не бывал... Так, помню приход Федина. Это — холодный человек, холодный, как собачий нос. Пришел, сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. Как будто — по обязанности службы. Быстро ушел. Разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь все видел и понимал. После его ухода сказал: «Никогда больше не пускай его ко мне». А когда после этого был Пастернак, вошел, с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: «Все будет хорошо», — Миша потом сказал: «А этого всегда пускай, я буду рад».
Теперь, после столь длительных размышлений на тему о ИУДИЗМЕ вообще (остановимся на этом термине, наилучшим образом характеризующим это явление) — займемся, наконец, Иудой из Кириафа. Только договоримся — не путать этот термин с Иудаизмом — религией определенного народа, в то время как ИУДИЗМ — в равной степени принадлежит всему человечеству, ну, скажем, как СПИД...
Когда, на каком этапе работы над романом «Мастер и Маргарита» Булгаков ввел эту фигуру? Скорее всего, тогда, когда только обдумывал это произведение.
Помните, как у Пушкина:
«...И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал»...
В 1925 году Михаил Булгаков познакомился с Лямиными, и Наталия Абрамовна подарила ему книгу Чаянова, которую она иллюстрировала. Тираж ее составлял всего 1000 экземпляров. В книге рассказывалось о появлении в Москве Сатаны и борьбе с ним некоего человека по фамилии Булгаков за свободу своей возлюбленной. Видимо, отсюда и пришла писателю идея показать «своего» Сатану в современной Москве. Как и водится в таких случаях идея — костяк — стала обрастать конкретными образами.
В том же 1925 году он со своей женой Любовью Евгеньевной гостил в Коктебеле у Максимилиана Волошина.
О чем они беседовали? Возможно и об Иудах — мысли Волошина тогда как раз были заняты Иудой. Среди тем будущих стихотворений он записал: «Судьба Иуды». Но еще летом 1908 года Волошин написал этюд «Евангелие от Иуды». Богомильский апокриф о рождении Иуды Волошин пересказывал — в связи с мифом об Эдипе — в лекции «Отцеубийство в античной и христианской трагедии» — около 1910 года. 12 августа 1929 года Волошин говорил молодому филологу М.С. Альтману: «Для меня Иуда — это еврейский народ, который как самый старший апостол Христа и принял на себя всё зло мира...». В своем этюде Волошин, в частности писал об Иуде: «В Иерусалиме (куда он бежал) ...он поступил на службу к Пилату. И тот полюбил его и сделал начальником дворца... Пилат увидел Иуду на улице, ему понравился красивый мальчик. Он подозвал его и спросил, кто он. Иуда ответил: «Я не знаю, кто я. Но меня растили в царском дворце, и я пришел, чтобы служить тебе. Приказывай мне, а я буду служить тебе...».
У Волошина в этюде с собором Парижской богоматери связана пронзительная легенда об одном аббате, который был постоянно занят мыслью о вечном наказании. «Если есть на земле человек, — думал он, — который... осужден Господом на вечные муки, то это только Иуда, предавший Христа».
Упоминает Волошин и о том, что «среди бесследно утерянных апокрифических Евангелий было и Евангелие от Иуды Искариота. Что было в нем? Какие заветы безвестных подвигов возвещало оно?».
В своей книге «О, мёд воспоминаний...» Любовь Евгеньевна Белозерская пишет:
«А еще позже был отголосок крымской жизни, когда у нас на голубятне возникла дама в большой черной шляпе, украшенной коктебельскими камнями... Посетительница передала привет от Максимилиана Александровича и его акварели в подарок. На одной из них бисерным почерком Волошина было написано: «Первому, кто запечатлел душу русской усобицы».
Вероятно, после общения с Волошиным и замелькал перед Булгаковым образ Иуды. Но, как мы знаем, в романе кроме Пилата все остальные персонажи носят имена, отличные от библейских. Вот и Иуда стал не Искариотом, а из Кириафа... И не запискам ли Волошина обязан булгаковский Иуда своей должностью в Тайной службе?
14 декабря 2006 г.
Итак, Иуда романный не идентичен Иуде евангельскому.
Комментируя сцену его убийства людьми Афрания, осуществленного по прямому, хотя вроде бы и косвенному указанию Понтия Пилата, один очень знающий и серьезный булгаковед пишет: «Все, с Иудой покончено, он не появляется даже на балу у Сатаны».
Маленькое уклонение в сторону — Пилат, узнав о смерти Иуды, коротко потер руки — свидетельство явного удовольствия, а никак не жест «очищения», как это было в Евангелии, где он руки умывает. И для самого Булгакова этот жест был характерен — в Дневнике Елена Сергеевна записывает, как Михаил Афанасьевич, выйдя из кабинета после успешной работы, потирал от удовольствия руки. Уважаемый булгаковед перепутал — он рассматривает одного и того же человека, одновременно поместив его в двух различных измерениях: Иуда, убитый в Гефсиманском саду, принадлежит к роману Мастера о Понтии Пилате, а бал Сатаны происходит в другом произведении — в романе Булгакова о Мастере, что далеко не одно и тоже. Мастеру, пусть даже и через Булгакова (или Булгакову через Мастера?), очень хотелось справедливости, и он установил ее с помощью своего писательского произвола. Что ж, это в литературе встречается довольно часто. Впрочем, у Мастера Иуда придуманный, как и все другие персонажи, кроме, как мы уже заметили, Пилата, а на бал к Сатане являются лица не придуманные, а исторически существовавшие, хотя и с несколько измененными именами. И все они, заметим, покойники, возникающие из праха и в прах же обращающиеся. Правда, есть одно исключение — барон Майгель, но он тут же тоже превращается в покойника...
Иуды из Кириафа среди них быть не может, потому что здесь бы подразумевался не он, а Иуда евангельский — Искариот, то есть не то лицо, которого убивает Мастер в своем романе, а Иуда Булгакова, общепринятый, стоящий (или долженствующий стоять) в ряду великих злодеев истории человеческой — неважно, существовавших в действительности, или вымышленных. И мы не можем переносить по своему произволу одного Иуду на место другого и смешивать действие одного романа с действием другого. Повторимся — Иуда из Кириафа не мог быть или не быть на приеме у Воланда (на балу Сатаны) — они в разных, не совмещающихся одно с другим, измерениях.
Мы, конечно, можем мысленно сопоставлять роман Мастера с произведением, внутри которого он помещен, искать связи, параллели, «отражения» и тому подобное, но согласитесь — впрямую утверждать их идентичиость не имеем права. Иуда Искариот, следуя логике Булгакова, должен был бы оказаться в числе гостей Воланда, потому что это негодяй самого высшего класса, и стать «украшением бала». Но его почему-то нет... А нет его по очень простой причине — его нет среди покойников, а иначе почему Булгакову было бы его не «пригласить»?
Я подозреваю, что Михаил Афанасьевич догадывался, что Иуда Искариот в реестре усопших не значится, и в своей жажде возмездия воздал ему через Мастера-Пилата-Афрания и двух киллеров. Жажду эту свою он утолил, но, зная, что Иуда все-таки не тот, и произошло его убийство «не так.», на бал его не допустил, боясь погрешить против очевидного. А очевидное заключается как раз в том, что Иуда Искариот, как это ни печально, остался безнаказанным. Может быть, оно и закономерно и даже логично — что подтверждается практикой нашей жизни — я имею в виду историческую протяженность Христовой эры.
Есть все основания утверждать, что Булгаков обратил внимание на высказывание Анри Барбюса в его книге «Иисус против Христа» (см. эссе «Две роковые ошибки»), а именно:
«Надо также отметить детское неправдоподобие предательства Иуды, в том виде, как оно передано в Евангелиях. Очевидно, считали необходимым поместить в Евангелиях образ предателя, так как невозможно предположить, чтобы в действительности грозная римская власть нуждалась в этом предательстве для ареста общественного деятеля»...
Барбюс очень точно указал на необоснованность и наивность сцены ареста Иисуса — тот выступал со своими проповедями во многих местах, его все прекрасно знали в лицо, так зачем же надо было затевать весь этот ночной спектакль в Гефсиманском саду? Может быть, и тогда в обычае были ночные аресты? Но уж поцелуй-то — это же просто сценический финт...
Булгаков это понимал и, основываясь на реалиях своего времени, создал зримую картину провокации, подстроенной тогдашним агентом Тайной службы, молодым человеком из Кириафа... А далее решил наказать Иуду за предательство, поручив это дело Понтию Пилату (через Мастера), что и было сделано в пронзительном куске романа, посвященном сразу двум аспектам — предательству и трусости... «Библейская энциклопедия» — ровесница Булгакова, она вышла в 1891 году. У его отца эта книга, наверняка, была и Михаил (тогда, вероятно, еще просто Миша) в нее, скорее всего, не раз заглядывал. Очень уж похож сделанный им в заготовках к роману эскиз Иерусалима на схему в этой книге. И еще — на рисунке Гефсиманского сада, помещенном в этой Энциклопедии, над ним висит большая яркая луна, и вполне определенно просматриваются три таинственные фигуры...
Эскиз памятника Бориса Пастернака
Может быть, отсюда он и перенес это в сцену убийства Иуды? И есть определенная логика в том, что Мастер казнит своего Иуду именно в том месте, где Иуда евангельский предал Иисуса Христа...
Иудизм — это как вирус: пока организм здоров, иммунитет не нарушен — вирусу тебя не взять. А дай слабину, оробей, прояви трусость — и синдром Иуды тут же проявится. Он ведь к тому же заразный, мы уже не раз видели, как он овладевает массами...
Неужели Иуда и в самом деле вечен?
P.S. Ну бывают же такие совпадения! Именно сегодня в газете «Известия» вышла заметка — «Бронзовый Пастернак вернется на Волхонку». В ней сообщается, что комиссия по монументальному искусству Мосгордумы приняла решение установить памятник поэту в скверике у дома, где он прожил самое плодотворное свое десятилетие. Здесь родились роман «Доктор Живаго» и множество стихов... И даже проектный эскиз этого памятника показали...
А вечером на ТВ — фильм о Пастернаке, озаглавленный «Доктор Живаго» — с рассказом о той истерике, что учинили вокруг этого романа, и газеты показали, о которых я здесь рассказал, и продемонстрировали кадры того мерзкого заседания подоспевшего к моменту съезда комсомола, где изощрялись в словоблудии. И если писательское собрание проходило, как говорится, за закрытыми дверями, то тут вываливались в грязи на глазах всего мира. А потом удивлялись — за что это нас так невзлюбили «пролетарии всех стран».
Вот так-то... Недаром народная мудрость гласит: — Бог правду видит, да не скоро скажет. А сказал-таки — всего каких-то полвека дожидались...
P.P.S. Послал это эссе моей сестренке на Украину, и вот что она мне написала — хорошая иллюстрация к рассуждению о «Jude». Речь идёт о 1945 годе — только что закончилась война, наш отец командовал военным госпиталем в Германии и смог вызвать к себе семью... Читаем письмо:
«Вот ещё одно детское воспоминание, связанное Иудой. Мне 8 лет, у меня приятель Серёжка на год моложе, мы в военном городке при госпитале в городе. Ляуэмбурге. Мы за банькой в углу городка, там, в каменной ограде есть пролом, через который можно выбраться в город, но мы никогда этого не делаем. За банькой куча рыхлой земли, на которой несколько роскошных кустов ревеня и иногда появляются шампиньоны. Мы приходим туда с Серёжкой, а там уже три немчёнка нашего возраста — две девчонки и мальчишка. Сперва приглядываемся друг к другу, потом пытаемся знакомиться, тыча себя в грудь и называя имя. Я — последняя говорю «Люда». Они странно на меня смотрят, смущённо хихикают и удирают через пролом. Теперь я поняла — для них я представилась ЮДА!».
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |