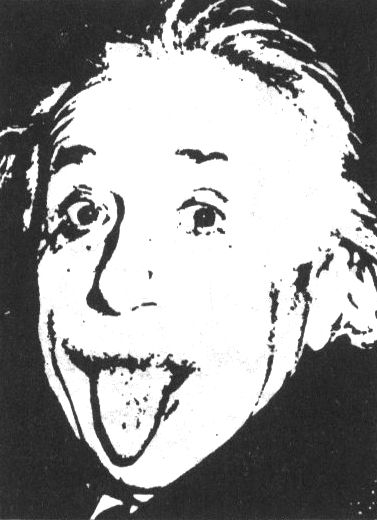Человек живёт не только среди людей, но и среди идей. Это совсем иной ландшафт. В нём нет оскорбляющего слух дребезга человеческих слабостей, нет биологических треб, искажающих рисунок земных путей их, этих идей, генераторов и носителей. Булгаков общался с этим лёгким и радостным миром с самозабвением астронома — поверх человеческих трений и недоразумений. Этим он напоминал своего учителя — Монаду в хламиде, «халдейского звездочёта» по определению; сработала память смотровой площадки на крыше коктебельского храма, где по ночам велись, вероятно, наиболее проникновенные беседы — перед лицом Мироздания. Оттого-то, восходя всё выше по лествице совершенства собственного текста, Булгаков всё более прикипал к небесам, вычитывая в «звёздной книге» реалии своего Романа. Отсюда и бинокль, и дневник (конечно, ночник) наблюдений Луны и планет.
В наиболее мрачном для интеллигенции 1930 году М. Пришвин, сталкивавшийся с автором МиМ у писателя Лидина, отмечал в дневнике: «Виделся с Лидиным... В пессимизме он ужасном... Булгаков пришёл — в таком же состоянии. <...> Предсказывают, что писателям будет предложено своими книгами... доказать свою полезность Советской власти». Двумя месяцами позднее: «Политпросвет. О просвечивании. Этот ничтожный человек — политвошь, наполнивший всю страну в своей совокупности, и представляет тот аппарат, которым просвечивают всякую личность. Б<улгаков>, в сущности, стоит на старой психологии раба, конечно, утончённейшего: он очень искусно закрывается усердной работой, притом без всякой затраты своей личности: это не выслуга, конечно, он в постоянной тревоге, чтобы его не просветили, и в этой тревоге заключается трагедия себя, расход: легко дойти до мании преследования, тут весь расчёт в отсрочке с надеждой, что когда-нибудь кончится «господство зла». Я спасаюсь иначе» (35; 415).
Речь шла о китежском «аутизме», к которому Пришвин был причастен ещё с дореволюционных времён. Эскапизм в пустынь под стены града невидимого был, конечно, позицией, но лишь до тех пор, пока идеология почитателя «голубиных книг» не покидала бывшего агронома. Однако к послевоенному времени стало ясно, что «эволюционирующее противостояние» оборачивается полной сдачей позиций, а «Осударева дорога» рифмуется со «Светлым путём», как ни оттопыривай фигу в кармане. Несмотря на то что эссе «У стен Града Невидимого» было переиздано в 1927 году (в первом томе собрания сочинений), звание-клеймо «воинствующий старообрядец» схлопотал Мастер, а не лесовик с пишущей берданкой. Укор Михал-Михалыча характеризует в целом отношение к Булгакову старой русской интеллигенции: затрата личности, чего требовали они, была кровожадна, но справедлива. Нужна была «полная гибель всерьёз», и Булгаков это себе уяснил не из косых взглядов раздражённых. «Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь» (16; 62). Это 1923 год. Уже в декабре следующего: «Мой путь теперь совершенно прямая». И снова: «...Единственным успокоением является моя прямая. Она всегда — кратчайшее расстояние между двумя точками, и стоит мне вспомнить её, как я совершенно успокаиваюсь» (16; 74—75). Какой контраст к знаменитой «хитрозадой» пергюнтовской кривой! Ведь Булгаков вступил в «возраст Христа».
От него многого ждали и поддерживали его в этом суровом самовзнуздывании. Пришвин познакомил Булгакова с русской народной эзотерической христологией — не здесь ли исток интереса Мастера к столь глобальному тематизму? У пришвинского Светлояра Булгаков мог встретить и потаённого Мережковского, который воспринимался в народе как пророк. Не в этом ли чудо синхронного написания МиМ и «Иисуса Неизвестного»? Если ко всему добавить волошинского приятеля Сергея Николаевича Дурылина, главного проповедника Церкви Невидимого Града, эзотерика, мыслителя-универсалиста1, то стартовый горизонт становится ещё более выразительным.
Лучше Волошина не сказать:
Готовность
С. Дурылину
Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?Апокалиптическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и смраде — верю!Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи! вот плоть моя!»
Возможно, оставшиеся несколько вырезок «на память» из дневников 1921—22 годов (найденных всё в тех же бездонных архивах ОГПУ)2 очертят круг общения Булгакова с идеями русского духовного ренессанса начала века. Флоренский и Бердяев, Лосев и Шпет, Мёбес и Вл. Шмаков в то время ещё могли высказываться публично, и тематизм их докладов, подходы к решению проблематики вызывали цепную реакцию обсуждения у столичной интеллигенции.
Оказавшись в Москве в эпицентре этой не прекращающейся с дореволюционных времён работы, «выложившей все карты на стол» в энтузиазме свободы марта—сентября 1917 года, молодой, но чрезвычайно серьёзный (судя по «Грядущим перспективам») мыслитель не сразу принял для себя сурдину de profundus'а: легальные и полулегальные лекции в то время ещё не высланных корифеев русской мысли наверняка привлекли к себе внимание киевского пророка. Дневники ранних лет — это заметки не рядового слушателя, а вгрызающегося в суть вопросов мудреца.
Потенциал тридцатилетнего мастера таков, что «как выяснилось позднее, некоторые члены Политбюро, включая Сталина и Молотова, с интересом читали дневники писателя» (16; 144). Речь шла не о простой любознательности, речь шла о крупномасштабном отслеживании судеб на примере поведения человека, не склонившего головы под стадные игры и оставшегося слугой Истины, от коей отреклась банда кремлёвских заговорщиков. Им важно было знать, как Истина откликается на их своеволие и какие ответные удары готовит. Впервые такую панику мистически трусливые паханы почувствовали в связи со скоропалительным расстрелом Н. Гумилёва, когда выяснилась его подвязанность к Системе, рядом с которой гэпэушные игры, пистолетные «цыканья» и прочая шушера запугивания казались просто суетой. В крысиных попыхах руку подняли на мага, владевшего словом3, на рыцаря — без всяких метафор. Ясно, что отклик должен был быть геологический, запредельный. Потому так судорожно пытались замять дело — печатали Гумилёва как здравствующего и «своего», не позволив себе ни единого «плевка на могилу». Смерть Гумилёва объявили как бы не бывшей, а это и есть та реальная «отмена казни», правда, «сверху», а не «снизу», как тому следовало быть. Рыцарское благородство Гумилёва простиралось так далеко, что в прощении им собственных убийц не сомневались. Таков же был рыцарский статус М. Волошина и В. Вересаева, Н. Евреинова и М. Кузмина, Г. Чулкова и В. Шмакова. Но опаски и осторожности на всех не хватило. И Вторая мировая война в пределах Великой Отечественной оказалась геологическим ответом на уничтожение носителей Истины, которое попустили и возмездия за которое так панически боялись все эти годы державные урки.
Харизматическую личность в Булгакове на Лубянке почувствовали не менее чётко, чем на Пречистенке. Вот почему дневник тридцатипятилетнего мыслителя представлял для «вождей» такой интерес. Во всяком случае, как только он был найден и изъят, обыск был закончен и сотрудник ОГПУ спешно удалился. Любопытно, что фамилия этого опера была Врачёв. Алонзо Кихано стали медленно, но методично излечивать от безумства. 18 ноября 1926 г. врач-литератор пишет другому врачу-литератору: «Дорогой Викентий Викентьевич! <...> Посылаю Вам великую благодарность, а сам направляюсь в ГПУ (опять вызывали). Искренне преданный Вам М. Булгаков» (16; 153). Из допросного листа: «На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением. <...>
В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской Власти. (Подчёркнуто гэпэушниками.) <...>
Вопрос: Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зелёная лампа»?
Ответ: Отказываюсь по соображениям этического порядка.
Вопрос: Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка?
Ответ: Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю. <...>
На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели принято думать.
Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хоть и гораздо лучше, нежели крестьянский, но всё-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь им мало и вот по какой причине: я занят. Я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю её, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы её мне близки, переживания дороги.
Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают моё пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)» (16; 152—153).
Однако смелость, с какой начинающий «собаковед» направил требование о возвращении ему изъятых рукописей, только укрепила кремлёвских «людоведов» в правильности их предположений.
Правда, это же с неменьшей ясностью поняли и на Пречистенке. Посвятительными этапами молодого адепта были:
— подсоединение к Учителю и Системе;
— проверка на прочность, которую он выдержал с честью: «Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск. Но он держался молодцом (дёргаться он начал значительно позже)» (16; 144);
— наделение абсолютными полномочиями — тем самым званием мастера, которым он так гордился.
Лапидарный «кремлёвский горец» недаром добивался от Пастернака произнесения в адрес арестованного Мандельштама этого слова-пароля: «Но ведь он мастер? Мастер?» — но так и не услышал ничего внятного. «Не сумели вы защитить своего товарища», — разочарованно сказал вождь и повесил трубку. Так же брезгливо Сталин относился и к Эрдману, противопоставляя его артифицированную невнятицу Булгаковскому мастерскому резцу: «Эрдман мелко берёт, поверхностно берёт. Вот Булгаков!.. Тот здорово берёт! Против шерсти берёт!.. Это мне нравится!» (16; 458)
Короче говоря, мастер — это не кичливое самоназвание, это высокий, а потому особо убойный статус: в высокие деревья попадает молния. Общение с Истиной требует не только интенсивности и сосредоточенности бытия, но и героизма. Введение во храм могло произойти лишь после предварительной чистки, для чего и был приспособлен Высшими Силами «рашпиль» Пречистенки — алмазный луч от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Булгаков закреплён на этой рыцарской шпаге тремя точками «мест проживания» (М. Лёвшинский и Чистый переулки до кольца и Б. Пироговская за ним). Посвятительная миграция вдоль очищающего луча кончилась выбрасыванием в Новодевичьи пруды ненужного более пистолета. После этого начало работать неизбывное «Мне отмщение и Аз воздам» — Булгаков сделался неуязвим для поражения: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Это пророческая формула, и к «человеку вообще» она имеет только самое общее отношение. Пророк — это человек в экстремуме, вырванный из паутины земных треб и бытовых забот для последней и решительной правды. Может быть, именно поэтому текст, задуманный как «литература», очень скоро «совсем не по правилам» выпростал крылья и полетел над ипподромом, где в пыли и поте корячились другие кони. Это даже не выспренний пелопонесский Пегас — это наш с детства знакомый конёк-горбунок, явившийся некогда Булгакову во плоти на этой самой Пречистенке.
Ермолинский вспоминал, что Булгаков «мечтал... о писательской среде» (36; 596) — подлинный рыцарь, он был детищем Круглого Стола; зуд братства сидел у него в крови и гнал в тёплый уют вдоль арбатских дворов под зелёную сень абажура. «Абажур священ! Абажур священ!» — мелькало в мозгу по дороге. Швейцар вмиг остудил: «Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. Сказали, что каждую среду будут ходить...» (7; 43).
Значит, Лямин к Шапошникову умотал. Не получилось среды, не получилось. Ну, а что у Шапошникова на четверг? — «Эстетика числа и циркуля», М., 1926, ГАХН.
Раскроем, посмотрим «о чём звук».
«Художники нашего времени не умеют пользоваться циркулем, угломером и числами. После Пуссена художники всё больше удаляются от концепции разума и приближаются к природе, точнее, к внешнему её облику. При этом смешивается жизнь и искусство и достигается изумительная ловкость вызывать удивление неожиданностями, а не истинной красотой форм, данных разумом. Таким образом, искусство окончательно впало в область чувственного восприятия, и в наше время этот сенсуализм сделался церебральным.
Вместо научных исканий, художники единственно стремятся проявить свою индивидуальность, вне всякого закона и метода. Настойчиво гоняясь за оригинальностью, но не имея иного фундамента, кроме фантазии и каприза, они достигли только странности. <...> Ведь не чувственность, а разум делает художника классиком; произведение искусства должно начинаться не с анализа «впечатления», а с анализа «причины», и нельзя конструировать без метода, основываясь только на зрении и вкусе, или на неопределённых общих понятиях» (23—24).
Это шах. А вот и настоящий интеллигентский мат: «Старые философы были геометрами, а художники прежде всего геометрами, а потом и философами. <...> Если природа подчиняется законам, то тем более искусство, выражение вечной гармонии природы, не может быть предоставлено случаю. Всеобщее стремление как науки, так и искусства — это найти законы природы, чтобы творить соответственно этим законам; ...человеческое знание только тогда прочно, когда оно может применить ко всему число и меру. <...>
Только невежеством можно объяснить предположение, что великие зодчие возводили свои своды, руководствуясь данными своего инстинкта и вкуса, а скульпторы творили богов по случайной прихоти своего личного темперамента, копируя их с людей. Все великие произведения древности были строго подчинены точным законам числа и ничто в них не могло быть предоставлено случаю или явиться продуктом хорошего вкуса; даже самые ничтожные детали соответствовали общим мерам или модулям. <...> Всё во вселенной, от звёзд до организма, тесно и гармонично связано законами чисел. <...>
Этот принцип даёт начало новому искусству, тесно связанному с наукой и развивающемуся параллельно с ней; это новое искусство достигнет такой интенсивности экспрессии и такого полного отображения мировой жизни, о каких мы ещё даже не подозреваем» (28, 32—34, 42—43).
Ловко спрятавшись за спину Северини (его книгу «От кубизма к классицизму», 1921 г. Шапошников подробно излагает, подстраховываясь ссылкой на то, что «классицизм это новый mot d'ordre живописи»), «шахматист Боря» исподволь протаскивает основные принципы орденского мировоззрения. Тут не только каменщицкий циркуль и угломер, не только образ Великого Зодчего, вычерчивающего первую окружность на картине Уильяма Блейка, — канонический образ орденского Творца Мира — но абсолютно кабалистическая патетика числа, взятого дискурсивно и понятийно одновременно. Гимн мессиански ожидаемому в мир Новому Пифагору, которым Северини оканчивает свой трактат, довершает прозрачную рыцарскую колористику изложения Шапошникова. Убожество живописных опусов автора трактата, приложенных к книге в качестве иллюстраций, особенно впечатляет и подозрительно смахивает на карнавальное передёргивание и высунутый вдогонку язык. Лишь реальное взаимодействие с адептом и общий цеховой энтузиазм могли превратить «собачий скулёж на луну» в весёлое и вдохновенное общение современников. Ибо только Гулливер обеспечивает в Лилипутии патетику гигантизма, гимнастическая пирамида из лилипутов этого не даёт.
Выходит, к мастеру приложен эзотерический камертон Пифагора, греческого выученика египетских жрецов, а это уже не мало.
Безусловно, Булгаков читал книгу Бориса Шапошникова, и, вероятно, она была ему автором подарена. Пречистенцы ничего не писали «просто так»; они «перестукивались через стенку», и лишь потаённая адресность принималась в расчёт. Поэтому книжка, посвящённая жалкой возне итальянских модернистов, вышла под солидной «шапкой» История и теория искусств. Следующий сбор-ник трудов пречистенских заговорщиков «Искусство портрета» был выпущен вообще Философским отделением ГАХНа с почти не камуфлирующим подзаголовком Сборник комиссии по изучению философии искусства. Книга вышла в 1928 году, и к Шапошникову в этом случае прибавился ещё один приятель Булгакова, его коктебельский «одноделец» А.Г. Габричевский, редактировавший этот сборник.
Уже обложка, на которой воспроизведена гравюра из эмблематической энциклопедии конца XVIII века с символической рукой Творца, держащей палитру и кисти у чистого полотна, открытого ко всему (это выражает латинская надпись AD OMNIA4), служит своего рода орденским барьером между миром мастерским и миром профанным, барьером, резко лимитирующим вход внутрь и табуирующим хамское вторжение представителей «пролеткульта». Это сделано мягко, но категорично, ласковым диктатом заботливого врача. Однако настойчивых своевольцев, проскочивших две первые статьи, «пречистенский Капабланка» встречает следующим хуком под дых, носящим нежное шахматное имя «гамбит»: Sub conservatione formae specificae salva anima. И подпись: Raimundus Lullius. Естественно, без перевода. — Чтобы не унижать гегемона подозрением в невежестве5. Да и имя сказавшего известно прямо-таки до фольклорности. Вот-вот, именно люшеньки!..
Сначала Шапошников закидывает вас интимными подробностями значения слова «портрет». Выясняется, французское portrait восходит к старофранцузскому pour-traict, что подразумевало изображение человека trait pour trait — черта в черту, по-русски точь-в-точь. «Немного насилуя филологию, можно было сказать, что портрет есть porte-traits, т. е. носитель черт.
Глагол portraire происходит от латинского protrahere и значил первоначально — извлекать наружу, обнаруживать и только позднее приобрёл значение изображать, портретировать» (77).
Основная направленность портрета — точность, и когда говорят, что портрет чертовски похож, значит, сумма черт, в нём фиксированных, достаточна для узнавания оригинала и даже преизбыточна, а это всегда производит какое-то магическое впечатление.
«Само допущение акта направленности мысли на оригинал... предполагает наличие некоторой неизменной... формы оригинала, которая является его вместилищем, так же как изображение этой формы является вместилищем его «идеи». <...>
В египто-эллинистическом ритуальном портрете предположение наличности такой формы позволяло рассматривать изображение человека как его двойник, «Ка» египтян, в который может вселиться душа...» (80—81).
«Портрет может противоречить нашему обычному представлению о данном человеке, но всё же оставаться портретом его. Портрет Толстого в облачении митрополита, при всей несовместимости идеи церковного иерарха с обликом Толстого, как мы его знаем, всё же будет портретом Толстого, если наличествует сходство, т. е. формальное соответствие.
С другой стороны, портрет может быть «больше похож на человека, чем он сам на себя», т. е., иными словами, открывать в человеке такой лик, который стал нам доступен только через портрет и который мы признали более характерным, чем все до него нам известные. <...>
Эти соображения позволяют сделать одно заключение...: акт направленности на оригинал, при созерцании портрета, наличествует и тогда, когда оригинал не стоит рядом с портретом, и даже тогда, когда оригинала мы никогда не видели» (83). Или возвращаясь ко второму эпиграфу: «Я узнал, что половина жизни моей перейдёт в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем». Это цитата из Гоголевского «Портрета»6, которую «шахматист Боря» сжал при помощи Владимира Ивановича Даля до одного слова «подобень» (в отличие от «парсуны» — парадного, фальшиво-помпезного изображения). И Булгаков усвоил преподанный урок. Тем более, что в области лицедейского (вспомним хотя бы образ пленного немца) и литературного портрета преуспел с юных лет. Вот образчик из «Белой гвардии» (описывается внешность Виктора Викторовича Мышлаевского): «Голова эта была очень красива, странной и печальной привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах, нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок».
Это — свободное демиургическое обращение с материалом, когда глина поёт под руками, а пальцы повинуются только идее, образу, мысли. Речь идёт о новом варианте Льва Николаевича Мышкина — глубочайшем создании Достоевского. Булгаков перекомбинирует смысловые блоки, создавая новый рисунок той же самой семантемы: крайности «лев» и «мышь» соединяются вместе в составную, более дворянскую фамилию (в отличие от княжеской краткости оригинала); получается мышь-лев плюс окончание; затем во льва вставляется камуфлирующее а, создающее одновременно парадоксальный образ «лающей мыши» (от загнанности в угол?); а вместо греческого Ника (в Николаевич) вводится с тем же значением латинское Виктор(ия) с двойным усилением в отчестве для вящего намёка богам и людям.
Сила созданного образа такова, что он возникает из небытия, присылает автору исповедальное письмо и после этого приобретает абсолютно реальное существование. «Власти предержащие», наверняка не пропустившие этого эпизода, смогли по достоинству оценить магическую силу начинающего автора и самоотверженность его литературного воистину героя. Да и обиженный донос приревновавшего к славе Маяковского не дал пройти этому событию незамеченным.
Гоголевский магизм сработал в полной мере.
Почувствовав себя владеющим жанром, Булгаков задумывает панораму литературных портретов писателей-современников. Уже первый из них, посвящённый Юрию Слёзкину, показал Михаилу «Восемь-на-семь»-ичу, что дело это скандалёзное и кляузное: все хотят «глазки побольше и губки поярче», т. е. не пусть патрет, а пусть потрёт.
Тогда как на историческом портрете Булгаков отыгрался с лихвой. Тут и развёрнутое полотно «Жизнь господина де Мольера», и минус-портрет Пушкина в «Последних днях», и, наконец, «дружеские саржи» МиМ. В «закатном Романе» ни один живой человек не отображён портретно, поэтому поиски «следопытами» прямых прототипов не только бессмысленны, но и пошлы. Под рукой мастера была целая «физиотека» ушей, носов, бровей и глаз, не только людей, но и животных; и знаменитая мечта привередливой Гоголевской невесты осуществлялась с необычайной лёгкостью и феноменальным мастерством. Ведь во всех вариантах будущего Романа все до единого персонажи сочатся жизнью и убедительностью; заставляло же идти на новые переделки всё большее соединение с Истиной, оставившее интересы «художественности» далеко позади. От варианта к варианту повышалась высота замысла и глубина его осуществления. Все персонажи настоящего и прошлого были лишь натурщиками для создания паноптикума МиМ. Их «донорская кровь» употреблена для оживления совсем других — подлинных — героев произведения7.
Одномерная и однозначная прототипическая привязка, сужающая сатиру и гротеск до комариных укусов памфлетности (вспоминается пресловутый «Полёт шмеля» Римского-Корсакова), не может иметь место при разговоре об Истине. Свободное конструирование из всех имеющихся на земле подручных материалов является обязательным при «художественном обслуживании» Духовного Центра мира. Естественно, всё остальное является в этом случае всего лишь фоном, и задача его — максимально оттенить, выдвинуть на первый план главное. Так создавались евангелистами тексты четырёх Евангелий (как, впрочем, и всех других, «апокрифических»), так поступил и Булгаков, когда текст, начатый им как очередная игривая «дьяволиада», приобрёл постепенно статус откровения.
В движении от временного к вечному Булгакова сочувственно сопровождал второй коктебельский мудрец, Александр Георгиевич Габричевский, так определивший статус искусства в упомянутом сборнике, посвящённом портрету: Всякое художественное произведение есть, с одной стороны, замкнутый в себе микрокосм, вполне довлеющая себе и изолированная система, строящаяся по особым внутренним закономерностям, некий своеобразный, отрешённый от всякого иного тип бытия. С другой стороны, это же произведение отличается столь же несомненной «открытостью», связанностью, центробежностью, максимальной культурной насыщенностью и действенностью; в нём сгустилось, более, может быть, чем в каком-либо ином продукте человеческого творчества, бесконечное многообразие экспрессии, идущей от субъекта, и изобразительности, идущей от объекта; оно впитало в себя и в себе претворило всё духовное и вещественное богатство породившей его культуры с тем, чтобы, в свою очередь, как новая, невиданная вещь воздействовать на культурное сознание в целом» (9; 54—55).
И снова, ещё более настойчиво, подводя к чему-то главному: «Конечно, всякая картина есть прежде всего изолированная вещь, символ замкнутого в себе индивидуального мира, но в то же время она и отражает некий субъект (...не в смысле эмпирической биографической личности художника, а в смысле творческого субъекта вообще, который может быть понимаем и как художник, и как эпоха, и как культура в целом) и прорубает окно в некий новый мир, который, как бы он ни был фантастичен, всё же оказывается для нас оптически однозначным и правдоподобным, причём, однако, совсем не в меру того или иного сходства его с воспринимаемым нами в нашей практике миром действительности, а лишь благодаря тому, что он является выражением строения вещи... и понимается нами как воплощение творческой индивидуальности» (9; 57).
Вот оно! Ведь это написано под впечатлением Булгаковской гофманианы: «Дьяволиады», «Роковых яиц», «Собачьего сердца». В свою очередь, не послужила ли вышеизложенная концепция опорой, «баальбекским фундаментом» для начатого в том же 1928 году подобного античному храму Романа? Долгие часы общения во время «коктебельского сидения» в 1925 году под крылом у Макса были прекрасной возможностью для обмена духовной информацией, а понимали они друг друга с полуслова. Феноменально образованный представитель немецкой интеллектуальной элиты в России (достаточно сказать, что его отец, Георгий Норбертович Габричевский, был основателем Российского бактериологического общества), Александр Георгиевич, судя по всему, послужил (наряду с Экзюпери) фактурной моделью для словесного портрета Воланда. — Хотя немцев среди гахновцев было предостаточно; имели немецкую кровь в своей генетике и Волошин с Булгаковым. Так что заезжий иностранец недолго колебался с ответом на вопрос о его национальности. Кстати, контакты с Кантом здесь ни при чём. А орденский треугольник на портсигаре многое проясняет. Высочайший розенкрейцерский статус Волошина, о чём догадалась М. Цветаева, подтверждается стихотворным посвящением коктебельскому мастеру одного из ведущих представителей Ордена Б.М. Зубакина8. Да и подмастерье Георгий немногим отставал от мастера: во врубелевском семинаре, который вёл один из участников сборника «Искусство портрета» Н.М. Тарабукин, выступали несколько членов Ордена тамплиеров во главе с А.А. Солоновичем.
В гахновской иерархии А.Г. Габричевский был подчинён учёному секретарю ГАХНа А.А. Сидорову, имевшему «не только масонское посвящение высокого градуса, но и высокие степени в Ордене розенкрейцеров и Ордене тамплиеров» (37; 31). Любопытно, А. Сидоров всё советское время писал в качестве искусствоведа о совершеннейших пустяках: книжной иллюстрации, гравюре, балете, — создавая достаточно легковесные опусы, и несмотря на это пользовался непререкаемым авторитетом в интеллигентских кругах самой разной «профессиональной ориентации». Его «подопечные» позволяли себе философствовать на грани фола, парить в гностическом поднебесье, а ААС (кстати, эта аббревиатура узнавалась парольно), кряхтя, с улыбочкой пробивался мусором на задворках культуры, и все относились к этому не только с пониманием, но и абсолютным пиететом. Только теперь орденский «заговор» интеллигенции становится прозрачным для исследователей, которые не только погружаются в глубины их трагедии, вороша хроники застенков, но и пользуются плодами их духовной победы.
Что ж, теперь с Сидоровым всё ясно. Не его ли козява-коза паслась у Козьих болот, дав имя Козихинскому переулку? Звучит как каламбур, не так ли? Не спешите с выводом. На лучшем из созданных В. Фаворским экслибрисов «Из книг А.А. Сидорова» изображена некая чёрная пиявка или головастик с человеческим не то лицом, не то личиной. Подобная же личина висит и сверху надписи, венчая кол или клин, причём в этом случае личина поименована однозначно за счёт вьющихся поверх неё завязок. Острие клина отрубает головную часть пиявицы-запятой, которая сразу сходит на линию — волнообразный зигзаг. Завязки для вящей внятности повторены вокруг верхней надписи «Из книг», а трагическое выражение лица «пресмыкаши» недвусмысленно говорит о вынужденности маскировки и противоестественном напряжении постоянно прятать своё лицо. Как всегда, мудрец и эзотерик Фаворский вытащил максимум возможного из смыслового потенциала изображения. Клин вниз — это нисходящая гамма от си к до в первых двух слогах фамилии владельца. Жирное (в линейном смысле) тело пиявицы, быстро сходящее почти на нет, — это графический эквивалент судьбы А. Сидорова, чья слава искусствоведа всё более убывает, а орденская прибывает и имеет тенденцию стать в апогее при полном снятии прикрывающей подлинное лицо личины. Толщина линии, образующей тело головастика, чётко читает заглавное M9 в камуфлирующих лишним зигзагом его изгибах. И самое невероятное: под закорюкой хвоста художник поставил еле видные свои инициалы на латинице WF, что чудесным образом соответствует двум вариантам написания имени Woland-Faland10 в Ми М.
Удивляться особенно не приходится: «Общепризнанным главой московских розенкрейцеров разных направлений в первой половине 20-х годов был В.А. Шмаков, известный теоретик, автор фундаментальных трудов по арканологии и пневматологии. В его доме — и вокруг него — собирались вплоть до его отъезда за границу в августе 1924 года представители самых различных мистических течений и взглядов, среди которых были, например, П.А. Флоренский, интересовавшийся тогда практической магией, ...историк искусства А.А. Сидоров... а также ряд других лиц, сыгравших позднее роль в передаче оккультной преемственности в последующие десятилетия» (37; 31).
А коза — это итальянская коза, дело (как в словосочетании cosa nostra, испохабленном одиозным употреблением). Дело же Алексея Алексеевича Сидорова достаточно прозрачно прорисовывается из фактов: «А. А. Сидоров, человек, обладавший самой полной в Москве библиотекой книг и собранием рукописей по оккультизму, тамплиер, розенкрейцер и масон высокого посвящения, как показывали сведущие о том люди, оказался в стороне от... репрессий. Он продолжал интересоваться мистицизмом, охотно вёл на эту тему разговоры со своими знакомыми, порою даже давал им читать книги по вопросам оккультизма и теософии» (37; 190—191).
Одновременно с Булгаковской работой над «Жизнью господина де Мольера» А. Сидоров пишет для той же серии ЖЗЛ биографию Р. Вагнера, любимца русских мистиков начала века (книга вышла в 1934 году). Будучи ровесником Булгакова Сидоров уже в 1912 году участвует в одном из самых эзотерических изданий — мусагетовском журнале «Труды и дни», три духовных патрона которого (Данте, Гёте и Вагнер) удержали русское интеллектуальное юношество от растворения в мусорной оккультной болтовне, так сказать «брошюризации культуры», сопутствовавшей декадансу.
Любопытно, физиогномика А. Сидорова — почти готовый набор черт для портрета Коровьева, особенно Коровьева-франта на балу у Сатаны.
Булгаков и Сидоров знали друг о друге (возможно, и были знакомы), это не подлежит сомнению не только потому, что их общий приятель А. Габричевский был естественным связующим звеном, но и в силу единства орденских интересов, исключающих невнимательное и прохладное отношение друг к другу.
Итак, круг замкнулся.
Круг избранных, братский круг.
Если не прямым участием, то идеологически в этот круг вошёл и Булгаков. В этом кругу оказались такие гностические сокровища, как три концептуальных трактата Владимира Шмакова: «Священная книга Тота: Великие Арканы Таро. Абсолютные Начала Синтетической Философии Эзотеризма», М., 1916; «Основы Пневматологии: Теоретическая Механика Становления Духа», М., 1922 и «Закон Синархии и Учение о Двойственной Иерархии Монад и Множеств», подготовленный к печати (как продолжение «Пневматологии»), но выйти не успевший и ходивший в списках.
Братский круг приобрёл в лице Булгакова гениального рече- и образотворца, а он получил из их рук такие золотые слитки знания, что можно было подумать о создании текста вровень с «Божественной комедией» Данте.
Компанию дополняет ещё один человек «не от мира сего», а на самом деле — от того, родимого.
В последние дни пребывания четы Булгаковых в Коктебеле там появился новый обитатель, сразу привлекший к себе всеобщее внимание. Это был ещё один гахновец — культуролог, филолог и медиевист Борис Исакович Ярхо. Феноменальная эрудиция в нём сочеталась с не менее ошеломляющей рассеянностью и почти вызывающим социально-политическим «аутизмом». В те годы, когда московские розенкрейцеры собирались у Владимира Шмакова, Борис Ярхо не менее ярко засветился на «чёрном бархате» совкового обскурантизма. В начале двадцатых годов он написал и подготовил к печати книгу весьма «актуального» содержания — «Средневековые латинские видения», она должна была увидеть свет в издательстве «Задруга» тиражом (что видно по надписям на гранках) в 5000 экземпляров. И только закрытие издательства в конце 1922 года помешало осуществлению предприятия, хотя в январе 1923 года были напечатаны пробные оттиски книги. Наряду с исследованием книга должна была стать сборником переводов соответствующих текстов, а вместе — своего рода лестницей к подножию величайшего из всех Видений — La Divina Commedia. Разбирая во вступлении огромный корпус Видений, среди которых Видения из Диалогов Платона и «Энеиды» Вергилия, Видения Ездры и Книга Еноха, Видения из Евангелия Никодима и Видения апостола Петра, Видения святых Антония и Григория Великого, а также многочисленные Видения средневековых мистиков и визионеров, Ярхо отмечает одну важную особенность. «Пророк или апостол вступает в загробный мир спокойной стопой, заранее оправданный; он идёт туда на предмет осведомления, и перед ним развёртывается как бы учебник эсхатологии с картинками; только жалость к осуждённым может волновать его высокую душу» (38; 28). Не отсюда ль бестрепетная решительность Булгаковских Мастера и Маргариты, их самозабвенная жалость к Фриде и Пилату, чего лишён сам Данте как персонаж своей великой поэмы. Никакого суда, одно божественное туда. — И только косичка разлетается на ветру.
Конечно, Ярхо привозил гранки невышедшей книги Волошину. И похоже, Булгаков её содержание знал. Возможно, к разработкам Ярхо, который в начале 30-х годов стал готовить в издательстве Academia серию публикаций по кельтской мифологии (первый том: «Сага о Волсунгах» вышел в 1934 году), восходит образ Геллы (у Ярхо — Хел), инфернальная «начинка» её имени в Булгаковском смягчённом варианте дополнена обертональным гелем (липким и эфемерным желе) и гелием (летучим и лёгким). Не исключено, что исследованием Б. Ярхо «Юный Роланд», появившемся в издательстве Academia в 1926 году, вдохновлена Булгаковская рыцарская патетика, в особенности образ рыцаря-пажа из финальной главы Романа. Не правда ли, от Роланда до Воланда всего только шаг, величиной в одну букву.
Что касается демонологии, по которой был специалистом Булгаковский Феся, то, переступая (в Видении) через грань земного бытия, человек непременно оказывается в компании существ этого рода. Важно только, чтобы он не растерялся и не спасовал. В этом и всё спасение. Вот откуда знаменитая Булгаковская война трусости: у автора МиМ были надёжные Вергилии.
Одним из них был Густав Густавович Шпет, философ, герменевтик, культуролог, эстетик-концептуалист. Общаясь с ним в своих пречистенских приключениях, Булгаков не мог не познакомиться с кругом идей его книги «Внутренняя форма слова», над которой Шпет в это время работал. Слишком созвучна Булгакову была патетика проработки третьего измерения — глубины. Шпет и сам по себе был выразительная личность. По воспоминаниям жены А.Г. Габричевского, «Шпет напоминал кошку, но умную бестию, красивую, статную. Шатен с небольшим коротким носиком, строгие, но очень лукавые губы и небольшие, порой гвоздики, то серые, то чёрные глаза. Какие бы они ни были, грустные или озорные, неизменно горели умом, да каким! Чем его сильнее прижимали в споре, тем лицо его становилось всё более одухотворённым, по-кошачьи хищным, он отвечал так, что все начинали смеяться и ничего не могли ответить, а он был в восторге победителя» (3; 242). Отсюда, несомненно, многие черты кота Бегемота, ёрника и софиста, не признающего поражения даже в споре с Мессиром11.
В одной из ранних работ («Очерке развития русской философии. Первая часть», Пг, 1922) Шпет подробнейшим образом разбирает русскую орденскую литературу конца XVIII — начала XIX веков, уделяя ей чуть ли не полкниги. Критически оценивая редчайшие сочинения того времени, он активно реанимирует их и вводит в культурный оборот XX столетия, что было абсолютно в пандан проводившейся духовной работе. Наряду с монографией П. Сакулина о В.Ф. Одоевском 1913—1914 годов, книга эта стала редкостным источником панорамного охвата русской эзотерической литературы.
Со Шпетом Булгаков встретился ещё раз в вышедшем, как и книга Ярхо, в 1934 году томе примечаний к публикации в издательстве Academia «Посмертных записок Пиквикского клуба» Диккенса. Работая как актёр над ролью судьи в инсценировке романа во МХАТе, Булгаков наверняка штудировал главу «Суды» упомянутого богато иллюстрированного издания. Образ Судьи, вылепленный «по Шпету», стал своего рода «кошачьей штудией» автора МиМ12.
Самым молодым в плеяде пречистенцев был Андрей Александрович Губер, окончивший в 1922 году философское отделение Московского университета и сразу же сделавшийся одним из корифеев ГАХНа. «Философия поэта», «Структура поэтического символа», «Понятие о структуре художественного образа» — статьи Губера, появившиеся во второй половине 20-х годов в различных гахновсалатзаправил вместо сметаныских сборниках. Восторженный поклонник Булгакова, старавшийся не пропускать чтения им новых произведений, Губер вместе с другими гахновцами занял круговую оборону против наглых притязаний лефовско-опоязовской свистобратии, позволявшей себе наступательные выпады и наскоки в аспекте бодрячково-холуйского подпевания режиму. Трудно вообразить, что такие деликатные и тонкие люди, как Губер, жили в одно время с носившим у пояса маузер Мейерхольдом, работавшим в театре «имени себя».
Пречистенка была сильна круговой порукой. Когда в начале 30-х годов ГАХН был ликвидирован, его сотрудники вскоре заполнили собой издательство Academia, специализировавшееся на публикации и исследованиях памятников классической литературы. И Губер, и Булгаков были привлечены к этой братской работе: Губер участвует в 1935 году в выпуске двухтомника избранных сочинений Леонардо, а Булгаков через год переводит Мольеровского «Скупого» для выходящего в издательстве Academia полного собрания сочинений великого французского комедиографа. Однако в конце 30-х участь ГАХНа постигает и издательство Academia; после этого интеллектуальная жизнь поредевших за счёт многочисленных посадок пречистенцев уходит в глубокое подполье. Все рассредоточиваются по маргинальным — и поэтому более, вроде бы, безопасным — смежным дисциплинам: краеведению, музейному делу, реставрации, прикладной эстетике, истории искусств (уже без всякого теоретизирования). Губер, поступив работать в ГМИИ им. Пушкина штатным сотрудником, в конце концов дослужился до должности главного хранителя. Когда б они знали, что он на самом деле хранил!
Впрочем, через некоторое время это прояснилось. В 1940 году был опубликован трактат Джамбатисты Вико «Основания новой науки...» (М., 1940) в переводе Губера; над ним Андрей Александрович работал в то же время, когда Булгаков заканчивал МиМ. Оригинальнейшее сочинение итальянского духовного мастера, где есть и абсолютно булгаковская глава о поэтической экономике, является адекватным возрождающим ответом на смерть великого мастера.
Среди прямых собеседников, питавших Булгакова идеями, был ещё известный историк культуры и литературовед Леонид Петрович Гроссман, у него как раз в эти годы, время их знакомства и общения, начало выходить собрание сочинений, о чём Булгаков, естественно, знал. Достоевско- и пушкиноведческие штудии, приведшие Гроссмана к созданию и достоверных и невероятно увлекательных исторических романов «Записки Д'Аршиака» и «Рулетенбург». не могли не стать для Булгакова образцом при создании «Жизни господина де Мольера». Недаром педантичный Вересаев упрекал своего молодого соавтора по написанию драмы «Последние дни», что он создаёт образ Дантеса по Гроссману, а не по его компетентным указаниям. В обострившихся почти до разрыва отношениях Булгаков выбрал сторону автора «Записок Д'Аршиака» и при аргументации своей позиции в развёрнутой до состояния статей переписке дал своего рода рецензию на гроссмановское сочинение, восторженную и апологетическую. Создание художественного сочинения требует отклонения от документальности в сторону выразительности, порукой достоверности в этом случае является только вкус и чувство истины литератора. В этом смысле пьесу «Пушкин (последние дни)» можно назвать Булгаковским «гроссманеском», а её популярность при постановке, к сожалению, посмертную, справедливо сравнить с популярностью двух вышеупомянутых книг. На тему о занимательности серьёзного лучшего собеседника, чем Гроссман, Булгаков едва ли смог бы найти. Гроссман обладал ещё одним феноменальным качеством — необыкновенной легкостью пера при столь же необыкновенной тяжести знаний. Это выгодно отличало его от многотомных (т. е. многотомящихся) «беллетристов-профундо» и от целлулоидно-пустоголовых «профурсеток от пера» (типа «служил Гаврила Дюма-перомлук»). Среди публикаций Гроссмана-литературоведа была и дореволюционная статья о Гофмане («Гофман, Бальзак, Достоевский» — журнал «София», вып. 5, 1914 г.). Так что информацию о своём любимце Булгакову получить было у кого.
В виде обратной рефлексии можно смело назвать книгу Гроссмана об Алисе Коонен (М., 1930, Academia), ставшую замаскированной апологетической реакцией маститого литературоведа на факт постановки в театре Таирова Булгаковского «Багрового острова», премьера которого состоялась 11 декабря 1928 года. Спектакль был снят со сцены в июне 1929 года после более чем шестидесяти представлений. Один из цепных псов режима И.И. Бачелис в статейке «О белых арапах и красных туземцах», опубликованной в первом номере журнала «Молодая гвардия» за 1929 год, «докладывал по инстанции»: «В одном только месте Таиров сделал неожиданное и странное ударение. Разворачивая весь спектакль как пародию, он в последнем акте внезапно акцентирует «трагедию автора запрещённой пьесы». Линия спектакля ломается и с места в карьер скачет вверх, к страстным трагическим тонам. Из груди репортёра Жюля Верна рвётся вопль бурного протеста против ограничения... «свободы творчества»... Злые языки утверждают, что автора-репортёра Булгаков наделил некоторыми автобиографическими чертами... что ж, тогда нам остаётся принять к сведению эти движущие причины его творчества. Но как бы ни звучал авторский вопль на сцене, характерно уже то, что Камерный театр выпятил именно этот момент13. Это был пробный выпад театра — выпад осторожный, с оглядкой, — но выпад. Таиров солидаризировался с Булгаковым в требовании «свободы творчества»». Со ссылкой на мнение германской печати И.И. Бачелис предъявил Булгакову страшное обвинение, охарактеризовав «Багровый остров» как «первый в СССР призыв к свободе печати». Имелась в виду статья, опубликованная 5 января 1929 года в берлинской газете «Дойче Альгемайне Цайтунг». Её перевод сохранился в булгаковском архиве: «Новая вещь Булгакова... — гениальная драматическая шутка с несколько едкой современной сатирой и с большой внутренней иронией. <...> Русская публика, которая обычно при театральных постановках так много говорит об игре и режиссёре, на этот раз захвачена только содержанием. На багровом острове Советского Союза среди моря «капиталистических стран» самый одарённый писатель современной России в этой вещи боязливо и придушенно посредством самовысмеивания поднял голос за духовную свободу!» В письме правительству 28 марта 1930 года Булгаков героически соглашался с этой оценкой «Багрового острова»: «...Когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати»... — она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода»14 (5; 31—32).
Забавно, что актёра, играющего роль цензора Саввы Лукича (читай: совка «Лукича»), загримировали под реального цензора В.И. Блюма, писавшего на Булгакова злобные пасквили под псевдонимом «Садко». Поскольку в финале спектакля Савва Лукич царственно уплывает на корабле (перед этим милостиво разрешив пьесу Дымогацкого-Жюля-Верна), его «садковость» была выявлена на сцене абсолютно однозначно. Блюм не посмел запретить пьесу Булгакова и тем самым расшифроваться до конца. Полгода Булгаков и Таиров вопили о духовной свободе и были первыми, а до публикации за рубежом замятинского романа «Мы» и единственными, кто поднял голос в защиту священного права интеллигенции. И орденское братство мгновенно откликнулось на это ответной благодарностью.
Ни до, ни после Гроссман не писал об актёрах монографий и даже очерков, хотя драматургическое творчество Тургенева и Сухово-Кобылина осветил в специальных исследованиях, а также написал оригинальную книгу «Пушкин в театральных креслах». Старательно обходя любое упоминание о Булгакове, Гроссман создал впечатляющий портрет «первой леди советской сцены»15, воздав должное героической инициативе её мужа и театра в целом. Тем самым он косвенно присоединился к мнению немецкого рецензента спектакля о гениальности пьесы и о том, что её автор — самый одарённый писатель современной России. Правда, сказать об этом вслух было невозможно, в том числе и из страха навредить самому Булгакову. И всё-таки Гроссман не смалодушничал. Уйдя после войны в маргинальную тьму МГПИ им. Потёмкина, он отсалютовал напоследок великой орденской парой: Пушкин и Достоевский, — в третий раз переиздав в серии ЖЗЛ биографию первого (М., 1960) и добившись за два года до смерти издания в ней же биографии второго (М., 1963).
Биографии третьего в означенной серии не существует и до сих пор...
Об особом старшинстве Гроссмана говорить не приходится (он родился за три года до Булгакова) и только ранняя включённость в литературную работу сделала из него к концу 20-х годов столь солидного автора. Правда, когда в 1934 году был организован приём в только что созданный Союз советских писателей, в дневнике Е.С. появляется такая запись: «В Москве волнение среди литераторов — идёт приём в новый Союз писателей. Многих не принимают. Например, Леониду Гроссману (автор работы о Сухово-Кобылине и «Записок Д'Аршиака») сначала отказали в приёме, а потом приняли его» (4; 60).
«Самого одарённого» кое-как приняли тоже.
В довершение влияние главное и принципиальное.
Один из основных «генераторов идей» России начала века Павел Александрович Флоренский сразу же оказался в центре внимания молодого киевлянина, приехавшего в Москву в самом начале 20-х. Гностический комментарий Флоренского к «Божественной Комедии» Данте, скромно озаглавленный «Мнимости в геометрии» (М., 1922) и графически усиленный концептуальной гравюрой В. Фаворского, был приобретён Булгаковым, судя по всему, сразу по выходе и с этого времени стал его настольной книгой. Труд этот был внимательно им прочитан, наиболее важные для него места подчёркнуты толстыми цветными карандашами, и эта своего рода «раскрашенная лоция» стала путеводной картой в трансцендентальных плаваниях автора МиМ. Это красно-синее сердце книги содержится в 48—53 её страницах.
Войдём вместе с Булгаковым в эти стройные Пропилеи идей.
«...Никаким физическим опытом убедиться в предполагаемом движении Земли невозможно. Иначе говоря, Эйнштейн объявляет систему Коперника чистой метафизикой в самом порицательном смысле слова» (48—49).
«...Земля покоится в пространстве — таково прямое следствие опыта Майкельсона. Косвенное следствие — это надстройка, именно утверждение, что понятие о движении — прямолинейном и равномерном — лишено какого-либо уловимого смысла. А раз так, то из-за чего же было ломать перья и гореть энтузиазмом якобы постигнутого устройства вселенной?» (49)
«...ет и принципиально не может быть доказательств вращения Земли, и в частности, ничего не доказывает пресловутый опыт Фуко: при неподвижной Земле и вращающемся вокруг неё, как одно твёрдое тело, небосводе маятник так же менял бы относительно Земли плоскость своих качаний, как и при обычном, Коперниковском предположении о Земном вращении и неподвижности Неба. Вообще, в Птолемеевой системе мира с её хрустальным небом, «твердью небесною», все явления должны происходить так же, как и в системе Коперника, но с преимуществом здравого смысла и верности Земле, земному, подлинно достоверному опыту, с соответствием философскому разуму и, наконец, с удовлетворением геометрии» (49—50).
«Обращаясь к Птолемеевой системе, мы видим, что внутренняя её область, с экваториальным радиусом
R = (23 ч 3 м 56,6 с)/2π · 300 000 км16
где 23 ч 3 м 56,6 с есть продолжительность звёздного времени по среднему солнечному времени, ограничивает собою всё земное бытие. Это есть область земных движений и земных явлений, тогда как на этом предельном расстоянии и за ним начинается мир качественно новый, область небесных явлений, — попросту Небо. Этот демаркационный экватор, раздел Неба и Земли, не особенно далёк от нас, и мир земного — достаточно уютен» (51).
Граница мира приходится как раз там, где её и признавали с глубочайшей древности» (51).
На границе Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса беспредельна, а время его, со стороны наблюдаемое — бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяжённость, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость. Разве это не есть пересказ в физических терминах — признаков идей по Платону — бестелесных, непротяжённых, неизмеряемых, вечных сущностей? Разве это не аристотелевские чистые формы? или, наконец, разве это не воинство небесное — созерцаемое с Земли как звёзды, но земным свойствам чуждое?» (52)
«...За границею предельных скоростей простирается царство целей. При этом, длина и масса тел делаются мнимыми».
«...Пространство ломается при скоростях, больших скорости света, подобно тому, как воздух ломается при движении тел со скоростями, большими скорости звука; и тогда наступают качественно новые условия существования пространства, характеризуемые мнимыми параметрами» (53).
«Так, разрывая время, «Божественная Комедия» неожиданно оказывается не позади, а впереди нам современной науки» (53). (Цит. по 39; 136—137.)
Вот подлинный мир мыслей будущего автора МиМ. И это в годы его фельетонного ёрничества в «Гудке»! А одесские дикари имели наглость считать его своим! — Нет! С порога «как бы двойного бытия» он пристально вглядывался в Надземное, Запредельное. И — слава Богу — в этом у него оказался достойный Вергилий.
«Когда два харьковских студента, приехавшие к автору «Дней Турбиных» (было это в январе 1927 года), спросили, кого стоит повидать в Москве, то в ответ услышали:
— Флоренского» (39; 137).
«Отец Павел», который после октябрьского переворота превратился в скромного профессора Вхутемаса, по совместительству читавшего лекции в Сергиевском педагогическом институте, оформил один из прочитанных там курсов в виде книги «Мнимости в геометрии». Издательство «Поморье», выпустившее книгу, анонсировало на её последних страницах огромный капитальный труд Флоренского «У водоразделов мысли» с подробным оглавлением каждого из предполагаемых томов. Труд этот создавался в контакте с розенкрейцерским центром Владимира Шмакова, о связи Флоренского с которым уже упоминалось. Грандиозные гностические «соборы», созидаемые двумя титанами мысли, подвигли и более молодого адепта включиться в это метаисторическое строительство. Его творение возникло чуть позже, но к людям пришло раньше других. Ибо оно увенчало их мегалитические сооружения и после потопа показалось на свет первым. Да и сам Булгаков-Голубков (фамилия персонажа «Бега» является анаграммой фамилии автора) был голубем Ноя, выпущенным, чтобы оповестить мир, что история может продолжаться дальше. В начале 20-х Булгаков верифицировал через сердце гностические максимы Павла Флоренского.
В «Мнимостях в геометрии» последовательно и достаточно доказательно проводится мысль о необходимости возврата к Птолемеевой системе мира, положенной на идее геоцентричности, где сфера человеческого достаточно компактна и имеет чётко выраженные параметры и масштаб: она ограничивается орбитой Урана и условно названа автором книги психосферой. Таким образом, классическое «семипланетное» построение духовной культурой картины мира подтверждено Флоренским с высоты современной науки (не забудем, что Павел Александрович был профессионально образован в этой области). Развивая и обогащая богословскими идеями разработки своего учителя Николая Бугаева, главы Московской философско-математической школы, Флоренский включает огромный блок понятийной математики в массив своих гностических построений, что делает его идеологический спиритуализм безукоризненным со стороны естественно-научной. В этом «леонардовость» Флоренского17, положенная на особой авторитетности его исследовательской работы.
Дерзновенная книга Поморья свободно парила в двух мирах: спиритуалистически осмысленной физики и согласованного с физическими (с выходом в мир трансфизического) законами спиритуализма. Соединение одного с другим, произведённое по принципам духовной алхимии, находит верифицирующий отклик со стороны всего человеческого существа, абсолютно по Лермонтову: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, Но им без волненья внимать невозможно».
Дойдя до дна Ада, Данте и Вергилий спускаются ещё глубже по узкой винтовой лестнице, ведущей в глубь колодца, и через некоторое время оказываются в Чистилище, из этого колодца выходя. Дело в том, что появляются они из люка головами вверх, и Флоренский старается научно объяснить загадку этого таинственного переворота. В результате он подтверждает правоту Данте, а затем трансфизически истолковывает этот мистический факт: «плёнки натяжения» и вообще плоскости, относящиеся к физическому миру, как бы ускользающе малой ни была (вплоть до нулевого выражения) их толщина, имеют две поверхности, к тому же разнозаряженные; проходя через некое таинственное средостение предмет будет менять полюса, а если эти полюса закреплены топологией верха и низа, то и переворачиваться.
Стадиальные превращения одного в другое вынесены за пределы земной видимости, но всё человеческое существо подтверждает правильность столь неожиданной позиции.
На этом построена органичность чуда, несмотря на всю его экстраординарность.
Как свободно парил в гностических высотах опытный и мудрый духовный мастер, и как самоотверженно следовал за ним его понятливый ученик! Они прямо-таки катапультировались в духовные глубины мироздания, не замечая, что в «чадах праха» это вызвало панику и ужас. Первые же их советские книги оказались и последними. Оба вынуждены были мигрировать в далёкие от собственного призвания сферы, оба вынуждены были «писать в стол».
Зато «У водоразделов мысли» и МиМ — парные сочинения, спаянные воедино и по духу, и по судьбе.
Флоренский был не только умозритель и гностик — духовная культура ставила его на баррикады идеологической борьбы, и он героически сражался с полчищами обскурантов разного толка. В начале пути он был связан с «Обществом памяти Вл. С. Соловьёва», потом с основанным М.А. Новосёловым «Кружком ищущих христианского просвещения», в революционные 1905—1907 гг. вошёл в созданное Сергеем Николаевичем Булгаковым «со товарищи» «Христианское братство борьбы». В первые послеоктябрьские годы возглавлял философско-художественное общество «Маковец», а в 30-е годы был обвинён в создании «Партии возрождения России» на основании изъятого у него гэпэушниками трактата «Предполагаемое государственное устройство в будущем», где якобы излагалась программа этой мифической партии. В этом сохранившемся в архивах ОГПУ трактате Флоренский утверждал: в будущем государстве ведущую роль должны играть люди науки, церковь необходимо отделить от государства (независимо от конфессиональности), «поскольку государство не должно связывать своё будущее с догнивающим клерикализмом, но оно нуждается в религиозном углублении жизни и будет ждать такового» (цит. по 5; 476).
С подачи В. Шмакова, эмигрировавшего в Чехословакию в 1924 году, розенкрейцер Масарик (знавший его ещё с дореволюционных времён) попытался через 10 лет вырвать из лап палачей и Флоренского. В июле—августе 1934 года с помощью Е.П. Пешковой к нему в лагерь смогла приехать жена с детьми; она привезла мужу предложение правительства Чехословакии договориться с советскими властями о его освобождении и выезде в Прагу. «Для начала официальных переговоров требовалось согласие Флоренского. Но он отказался» (5; 476—477).
Я уверен, что героический отказ Иешуа лукавить во время допроса, несмотря на «подмигивания» Пилата, скопирован Булгаковым с этого невероятного факта. Он сам часто обращался к Е.П. Пешковой по своим проблемам и, горячо любя своего второго духовного учителя, наверняка спрашивал у всеобщей заступницы и хлопотуньи о его участи. Позднейшие известия о гибели Флоренского не оставили Мастеру шанса на рай в подвале в финале Романа.
О необыкновенном пиетете перед старшим наставником говорит и такой факт. Второй фамилией, которую Булгаков назвал после Флоренского двум заезжим визитёрам, была фамилия Михаила Нестерова. И, конечно, речь шла об авторе двойного портрета «Философы», на котором были изображены С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский. Что Булгаков был хорошо знаком с творчеством обоих изображённых, не подлежит сомнению.
С.Н. Булгаков был в Киеве всю гражданскую войну, там написал свою известную книгу «На пиру богов». В силу чрезвычайной известности сочинение это не могло пройти мимо внимания Михаила Афанасьевича, жившего в Киеве в то же время. Поэтому на картине Нестерова он смог оценить образную выразительность не только Павла Флоренского, но и своего однофамильца.
Контраст между кротко потупившим очи долу бродячим молчальником и визионером и мрачным и волевым огненным проповедником и борцом — вот что поражало в портрете. Поражало до такой степени, что М. Булл хранил его в памяти как модуль и воплотил на страницах Романа дважды: сначала в паре Иешуа — Левий Матвей, а затем (в сцене в дурдоме) в дуэте Мастер — Иван Бездомный. Детальная аналоговость этих пар объясняется тем, что взяты они с одного и того же чрезвычайно выразительного визуального образца.
Знаменитый философский дуэт произвёл в дальнейшем своего рода «рокировку». Марксистское клокотание Сергея Николаевича под влиянием младшего современника уступило место такой же огненной защите идеализма, затем сдавленному шёпоту «тихих дум», а кончилось всё после революции принятием сана и полной подражательской капитуляцией. В эти же годы «тихий долгоносый попик» раскочегарился сначала до борьбы (вспомним, что они и встретились как единомышленники в «Христианском братстве борьбы» в годы первой русской революции), а кончил жизнь героем, наподобие Муция Сцеволы, причём муки, какие он претерпевал, заставили его мрачно заметить после возвращения из первой отсидки: «Был в ссылке, вернулся на каторгу». Кстати, этот «первый звонок» прозвучал в июле 1928 года; не стал ли он знаком для начала Булгаковской эпопеи? Во всяком случае, спасительницей опять выступила их общая знакомая Екатерина Павловна Пешкова.
В это время «свирепый вепрь» с картины Нестерова стал «блаженным батюшкой» и благостно отсиживался в эмиграции, пока его кроткий младший современник бестрепетно «восходил на крест».
Отсюда и это брезгливое воландовское: раб!
В 1926—27 годах Булгаков жил в Малом Лёвшинском переулке, где неподалёку обитал и Павел Флоренский. Их контакты не исключены, хотя после шмона у Булгакова могли носить прикровенный характер. Кроме того, Л.Е. Белозерская, жена Булгакова, работала в редакции «Технической энциклопедии» рядом с Флоренским18. Однако с момента шмона она научилась «держать язык за зубами». Единственно, Феся из ранних вариантов Романа читал лекции во Вхумате — читай Вхутемасе, где преподавали П. Флоренский и В. Фаворский. В конце концов их обвинили в создании «мистической и идеалистической коалиции» и лавочку прикрыли.
И ещё одно: в автохарактеристике для статьи в Словаре Гранат Флоренский определил своё мировоззрение «соответствующим по складу стилю XIV—XV веков русского средневековья»; это же он подтвердил и на допросе в ОГПУ в марте 1933 года: «Я... по складу своих политических воззрений романтик Средневековья примерно XIV века...» Н.А. Бердяев в концептуальном сочинении «Русская идея» называл Флоренского «новым человеком», и эта дуальность чётко фиксирована Булгаковым в образе Мастера, архаичного по культурным привязкам и авангардного по мысли и миропониманию. Ибо Истина — никогда не позади, а всегда впереди. Вот почему Христос принадлежит не культу, а духовной культуре.
Реальное христоподобие Флоренского, вспыхивающее многоцветно в серой толпе совслужащих («кепок», по выражению Мастера), надоумило Булгакова, что оригинальность — позиционно, а не автократична. Этим качеством обладают и тексты Флоренского. Его книги, как проза, наиболее близки МиМ по раскованности, энергетике, высоте духа и всепобеждающей убеждённости в своей правоте. Булгаков ещё и превзошёл своего учителя. Магией, которую Флоренский осваивал под руководством Владимира Шмакова, Булгаков владел в совершенстве. — «В белом плаще с кровавым подбоем...»
Похоже на то, что и Флоренский знал о Булгакове.
Во-первых, два любимца Пречистенки не могли не знать друг о друге.
Во-вторых...
«Извозчик... полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трём свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.
— Отец Иван, — задыхаясь, буркнул буфетчик, — в срочном порядке... об избавлении от нечистой силы...
Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою...
«Благословен Бог наш...» — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.
— Шуба императора Александра Третьего, — нараспев начал отец Иван, — ненадёванная, основная цена 100 рублей!
— С пятаком — раз, с пятаком — два, с пятаком — три!.. — отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.
— Ты что ж это, оглашенный поп, во храме делаешь? — суконным языком спросил буфетчик.
— Как что? — удивился отец Иван.
— Я тебя прошу молебен, а ты...
— Молебен. Кхе... На тебе... — ответил отец Иван. — Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!
И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.
— И ты, злодей...
— Злодей, злодей, — с неудовольствием передразнил отец Иван, — тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры...
Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил» (7; 209—210).
Бытовой конформизм в этой сцене из раннего варианта Романа особенно впечатляет. Рутинный маразм обнажает всю схожесть ситуации до «перемены власти». И основательность и солидность восприятия в «дореволюционные времена» «сладкого хора кастратов» в качестве звучащего слова Божия становится вдруг до жути самоочевидной.
Булгаков первый понял это ещё до войны. Флоренский, кто, помимо всего прочего, купался в православной ритуалистике и гордился как признаком элитарности приставкой свящ. перед фамилией, пришёл к «посконной простоте» и эгалитарности «мучительным путём познания». Конечно, «благообразный попик» с картины Нестерова симпатичен (В. Эрн в одном из частных писем 1908 года так описывает его внешность: «Павлуша отпустил длинные волоса, подвязал их на макушке какой-то тесёмочкой и локоны пустил на уши. Получилось что-то древне-египетское»19.), но подлинен и пронзителен он лишь на поздних гэпэушных и лагерных фотографиях.
И всё же, чтобы дойти до убийственной (уже процитированной) отповеди клерикалам, нужна была побудительная причина, некое «магическое слово», о каком он так вдохновенно говорил в том самом 1908 году на лекции «Общечеловеческие корни идеализма» в Московской духовной академии (отд. изд.: Сергиев Посад, 1909). Таким словом, по мнению Флоренского, могло быть только художественное слово, и в этом случае Булгаковские тексты были вне конкуренции.
Воздействовала и магичность ситуации: Булгаков-старший, бросивший своего друга «на произвол судьбы» и ударившийся в бега в эмиграцию, был тут же заменён Высшими Силами на Булгакова-младшего, и дуэт двух этих «слабаков», «одуванов» промужествовал уже до конца, до смерти.
Вдохновенность и надёжность нового Булгакова Флоренский мог ощутить и оценить мгновенно. И если отказался от эмиграции в тридцать четвёртом, то именно потому, что в России созревали такие чудеса, как Ми М.
Однако он был не единственным грузином, напряжённо следившим за мистерией создания текста Романа...
28 февраля 1929 года в донесении неизвестного осведомителя ОГПУ появляется первое упоминание о работе Булгакова над ранней редакцией Ми М.
К мистике событий следует отнести тот факт, что именно в этот день Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной. Значит, осведомителем был один из гостей или хозяин того дома, куда они оба были приглашены. «Это было в 29-ом году в феврале, на масленую, какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашённых и его и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом» (8; 387—388).
Предчувствия Булгакова не обманывали.
Но пересилил он себя не зря.
На обе чаши весов Высшие Силы положили по гире. Обратите внимание на слово «решил». Ведь это решка в пользу Е.С. Шиловской. — Всё упаковано смыслами до предела.
Однако сигнал немедленно пошёл наверх. И реакция не замедлила. 6-го марта того же года было опубликовано решение Главреперткома о снятии с репертуара всех пьес Булгакова.
В начале июля Булгаков пишет письмо-заявление Сталину (копии Калинину, начальнику Главискусства Свидерскому и Горькому) с просьбой разрешить выезд из СССР, поскольку на родине невозможно добыть средства к существованию.
В связи с отсутствием реакции Булгаков 3 и 28 сентября шлёт повторные письма Горькому и Енукидзе с той же настойчивой просьбой.
Снова не дождавшись ответа, Булгаков 2 октября подаёт заявление о выходе из Всероссийского Союза писателей.
Кремлёвские упыри отмалчиваются.
28 марта 1930 года Булгаков пишет письмо Правительству СССР с просьбой определить его судьбу и в связи со сложившийся ситуацией полной творческой обструкции дать возможность эмигрировать.
18 апреля, на следующий день после похорон Маяковского, Булгакову позвонил Сталин. Дальнейшее известно.
С той поры работа над МиМ находится под неусыпным вниманием «кремлёвского горца», хотя Булгаков ровно за месяц до того сжёг первый вариант «романа о дьяволе», о чём писал в своём письме. Самосожжение это было далеко не случайным. Полунамёками Булгаков дал понять тогда, что его предал один из наиболее близких ему людей. Предал и продал. Кто это был?
В пречистенское братство входил известный шекспировед, знаток английской литературы и переводчик, милый и обаятельный Михаил Михайлович Морозов, знаменитый серовский «Мика». С ним разыгралась в одном из самых близких ему пречистенских домов (у Ляминых) «чудовищная», по определению рассказывавших о ней, история. «При всём собрании гостей он ударил по лицу Наталью Габричевскую. <...> На него накинулись А.Г. Габричевский и Н.Н. Лямин, вытолкали из квартиры и спустили с лестницы. Больше в этих домах он уже не бывал. А много лет спустя, встретив Н.А. Габричевскую в Коктебеле, он спросил её: «Неужели Вы не поняли, зачем я это сделал?..» И пояснил, что ему было нужно, именно чтобы он публично был изгнан из милого дома. «А среди гостей, — добавил он... — находился человек, который мог это происшествие где нужно, подтвердить...» (22; 425).
Одно слово, мир не без добрых людей.
О Булгакове через несколько месяцев после разговора и зачисления режиссёром-ассистентом во МХАТ одна из очевидиц, приехавшая ненадолго из Петербурга в Москву, вспоминает: «Михаил Афанасьевич был всё время оживлён, весел, словом — в хорошем настроении. Он, конечно, устал от одиночества, создавшейся вокруг него атмосферы недоверия, настороженности и просто недоброжелательства. <...>
Михаил Афанасьевич предложил пройтись пешком. <...> Мы перешли Зубовский бульвар и вышли на тихую Пречистенку. Между невзрачными деревянными домами стояли особняки с ампирными колоннами, среди разговора Булгаков называл имена архитекторов, бывших владельцев, или события, связанные с тем или иным домом. Он несомненно любил московскую старину и, видимо, хорошо знал её. <...>
При большой сдержанности М.А. всё-таки можно было заметить его редкую впечатлительность, ранимость, может быть, нервность. Иногда и не уловишь, отчего чуть дрогнули брови, чуть сжался рот, мускул в лице напрягся, а его что-то царапнуло. <...>
Когда мы вышли из квартиры Булгакова, дворник усиленно заработал метлой, подымая перед нами облако пыли. Лицо М.А. еле заметно напряглось, он поторопился открыть калитку. На улице сказал очень раздражённо: — Прежде он униженно шапку ломал, а теперь пылит в лицо.
Я хотела было ответить, что не стоит обращать внимания, а он с тем же раздражением и, пожалуй, болью сказал: — Как жило холуйство, так и живёт. Не умирает.
Не раз ещё я замечала, что М.А. очень остро воспринимал отсутствие человеческого достоинства во всех его проявлениях — себя ли не уважал человек или — других» (22; 445—446).
Но вот ведь ирония судьбы! Павел Попов, запятнавший себя конформизмом, а потом и прямым предательством своего университетского соученика и друга А.Ф. Лосева, написав на него донос с обвинением в идеализме, имел в своей библиотеке «Столп и Утверждение Истины» Флоренского, за чьим творчеством он пристально следил. Судя по всему, именно этим экземпляром фундаментального сочинения «русского Леонардо» пользовался Булгаков для ознакомления со взглядами любимого мыслителя; Попов, вероятно, был гидом в его странствиях по хитросплетениям этого далеко не простого труда. Когда Елена Сергеевна, вопреки высказанному в письме от 27 декабря 1940 года совету Павла Попова затаиться и затаить рукопись («чем меньше будут знать о романе, тем лучше»), распечатывала на машинке экземпляры и раздавала друзьям (например, такая копия Романа была у Анны Ахматовой), она поступала наоборот мышьей, трусливой осторожности и потливому «здравомыслию» — и победила. После пятнадцатилетнего перерыва Елена Сергеевна снисходительно и победно прислала ему первый послевоенный Булгаковский сборник (М. Булгаков. Дни Турбиных. Последние дни. М., 1955); Попов разразился дребезжащим ответом: «Я снова оказался во власти обаяния Миши... показалось, что вернулись вновь старые времена — как будто ничего не было20, я сижу в подвальчике, читаю и сейчас пойду поделиться своими впечатлениями в соседний переулок» (2; 534).
Если бы «Патя» был жив, она бы прислала ему после ещё двенадцати лет молчания Роман, только что вышедший в двух сверхдефицитных номерах журнала «Москва», чтобы показать, что никакие не сто и даже не пятьдесят, как он предупреждал её пятнадцать лет назад.
«Низко, низко Вам кланяюсь...» — заканчивал Попов своё письмо.
Нет, лежачего не бьют.
А почему, собственно, лежачего? Разве у него не было столпа и утверждения, на которые он волен был опереться? Бессмертие оказалось слишком убойным, чтобы его добиваться. Впрочем, вечность себе таких в адепты не выбирает.
«Петля Нестерова» связала воедино новый дуэт: Павла Александровича Флоренского и Михаила Афанасьевича Булгакова. Идут два светоча, два апостола — и никаких попов.
И в самом деле, именно Флоренский сформировал юное дарование из Киева. Будучи постоянным читателем богатейшей библиотеки КДА Булгаков, не мог пройти мимо публикаций восходящего светила русской богословской мысли. Каждое выступление Флоренского в печати и с публичными чтениями производило фурор среди корифеев как философии, так и теологии. Михаил Тареев, братья Введенские, братья Муретовы подготовили своими исследованиями благодатную почву для мощного старта сергиево-посадского самородка. Они гордились Флоренским, поддерживали его, радовались заслуженным успехам. В уже цитированном письме Владимир Эрн описывает атмосферу чтения доклада «Общечеловеческие корни идеализма»: «На лекции21 Павлуши собралась вся Академия. Прочёл он их хорошо, и та лекция, которую он выбрал от себя, была очень оригинальна по содержанию и красива по форме. Академики горячо ему аплодировали».
Вслушаемся в речь молодого богослова, чтобы понять, чем он заслужил такую реакцию.
Ставя на место всевозможных ретроградов и охранителей, он сразу заявляет, что подлинным основателем Академии является «боговдохновенный» Платон. «Вы знаете, — говорил он, — о несомненной преемственности нашей духовной культуры от Платона».
Задав вопрос «Откуда происходит платонизм», сам уверенно отвечает на него:
«Магия — вот единственное слово, которое решает платоновский вопрос. Или, если хотите более современного слова, то это будет оккультизм. Но не думайте, что я хочу говорить вам о чертях или ведьмах. Меня, как историка, вопрос о их реальности нисколько не касается. Пусть нет леших и русалок — но есть восприятие их. Пусть нет власти заклятий и заговоров — но есть вера в неё. Как мне, так и вам, дан факт — мироощущение и мировоззрение мага. Этим-то фактом мы и обязаны заняться».
После этого краткого, но мощного вступления Флоренский переходит к апологетическому разбору русской народной эзотерики, благоговейно и восторженно погружаясь в её мельчайшие элементы. Здесь травы, которые живы лишь на страницах народных травников, а не сухих ботанических атласов, и саморазные зверюшки, ценность которых можно уяснить себе только из народных песен и сказок, а не из мёртвых литографий Брема.
Приводя детский стих-приговорку о божьей коровке, Флоренский восклицает: «Какая непроходимая пропасть отделяет это благоговение перед всем и гадливость ко всему — гадливость, которая так трудно отделима от интеллигентности!»
От круга живых существ (куда входит и человек), общающихся между собой при помощи своего рода телепатической связи, Флоренский переходит к их названиям, создавая фундаментальную русскую философию имени.
«Всё, — всё, что ни видит взор, — всё имеет своё тайное значение, двойное существование и иную, за-эмпирическую сущность. Всё причастно иному миру; во всём иной мир отображает свой оттиск».
И резюмирует: «Таинственное врастает в обиход, обиход делается частью таинственного». Представляя ряд примеров народной образной понятийности, восторгаясь его переходящей за грань обыдённого логикой, Флоренский подытоживает: «И так далее — без конца. Киты, на которых стоит земля, зверь Индрик, великорыбие — огнеродный змей Елеафал, Стратим-птица, баснословный Китоврас и др. — тут мы имеем дело, конечно, не с чем иным, как с кантовскими «предельными понятиями», с «вещами в себе», о коих не должно спрашивать, но в существовании которых невозможно сомневаться».
Ведь кто-то владеет всем этим арсеналом, более того, кто-то его создаёт. И Флоренский описывает типы народных знахарей, догад и колдунов — прямых причастников всем этим разнообразным чудесам. «Все они, добрые и злые, прирождённые и выученные, переживают такие времена, когда видят, слышат и всячески воспринимают то, что незримо и непостижимо всем прочим. Все они живут двойной жизнью. Перед всеми ними отверзаются настежь двери потустороннего. Всю силу своей воли сосредоточивая на одном желании, заклинатель наполняется этим желанием, сам становится воплощением единого акта воли. «Воля к действию» отделяется от него, выходит за пределы его ограниченности, вступает в активное взаимодействие с волями природных вещей-существ. Она — действенный дух среди других духов, центр мистических сил среди других центров. Он борется с природою и вступает с нею в союз. <...> Он — часть природы; она — часть его. Он вступает в брак с природой, и тут намёк на теснейшую связь и почти неразделимую слиянность между оккультными силами и метафизическим корнем пола. Двое становятся одним. Мысли мага сами собою вливаются в слова. Его слова — уже начинающиеся действия. Мысль и слово, слово и дело — неразделимы, — одно и то же, тождественны».
«Чем напряжённее желание, чем непосредственнее сознание, тем ближе друг другу мысль, слово и дело. В экстазе магического творчества, упоении миротворческою властью нет границы между ними». Короче, «активность кудесника — это нечто совсем, совсем иное, нежели обычное, пассивное восприятие мира». «И вот он, — по словам Веселовского, — уже маг, плывущий в облаке, опоясанный Млечным путём, наводящий чары и насылающий страхи».
«По слову своему эти шептуны и баяны — великие, могучие, сильные. Санскритское mah, древне-зендское meg, mag, mug, клинописное magusch, греческое μεγας, латинское magis, русское могучий означает всё одного и того же, — внутренне великого и могучего, владеющего силою мудрости и знания».
«Неспроста ведь глагол «делать» относится в своём истинном смысле к магическому действу, этому деланию по преимуществу».
Далее Флоренский разворачивает огромную панораму индоевропейских языков с санскритским kar — делать; karmana — чары (от karman — дело), подтверждающую его мысль о магической власти слова. «Слово кудесника есть эманация его воли; это выделение души его, самостоятельный центр сил, — как бы живое существо с телом, сотканным из воздуха22 и внутренней структурою — формою звуковой волны. Это — элементаль, — по выражению оккультистов, — особого рода природный дух, иссылаемый из себя кудесником».
«Слово кудесника — вещно. Оно — сама вещь. Оно, поэтому, всегда есть имя. Магия действия есть магия слов; магия слов — магия имён. Имя вещи и есть субстанция вещи. В вещи живёт имя; вещь творится именем. Вещь вступает во взаимодействие с именем, вещь подражает имени».
«Вещее заклятие — это судьба мира, рок мира. Да и что такое рок, как ни приговор, как ни изречение, как ни слово, как ни заклятие? Вспомним, что наше «рок» происходит от «рокати», т. е. шуметь, рокотать, «рещи», т. е. изречь, совершенно так же, как латинское fatum — от fari, т. е. говорить, сказать. Слово кудесника — это рок вещей, их fatum».
«Восторг... есть мгновенное отторжение себя от себя. Слово кудесника, рождённое в восторге, несёт в себе, возносит с собою отторженный кусок его волнения. И потому, слово кудесника само по себе есть новое творение, мощное, дробящее скалы... и двигающее горою, низводящее Луну на Землю, останавливающее облаки, меняющее все человеческие отношения, всё могущее».
«В экстазе творчества именами теург сознаёт себя богом. Весь мир пронизан магическими и мистическими силами, и нет вещи, которая не была бы опутана сетями мага».
«Магическое миро-созерцание не укладывается на рассудочной плоскости. <...> Совершенно то же — и с системою Платона. <...> Прежде всего идеи — этот срединный болт платоновского построения, — для рассудка имеют две, различные точки опоры. Они — и орудия познания подлинно-сущего, но они же — и познаваемая реальность..., они — идеальны, но они же и реальны. — В магическом миросозерцании как раз такою же двойственностью обладают имена. Они — орудия магического проникновения в действительность: зная имя можно познавать вещь; но они же — сама познаваемая мистическая реальность».
«Для меня лично это миро-созерцание кажется гораздо ближе стоящим к истине, нежели многие лже-научные системы. Но если вы не согласны со мною, если вам это мужицкое миросозерцание всё-таки представляется чем-то вроде навозу, то и тогда вам незачем быть в обиде на развитый здесь взгляд. Ведь «свет из тьмы! над чёрной глыбой вознестися не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно не впивался погружённый тёмный корень их»».
После чего грянул бурный аплодисмент, ибо никто из почтенного собрания не захотел добытую с таким трудом и кровью свободу в выражении народного самосознания (речь идёт о революции 1905—1907 гг.) держать за простой навоз, все предпочли обменять его на воздух, взрывающийся между ладонями.
Удивительно то, что такое прозвучало в стенах Московской духовной академии, и то, что нет почти ни одной потрясающей воображение мысли в МиМ, какая не была бы концептуально высказана в этом докладе. Впечатляет ещё один факт: Флоренскому в это время было столько же лет, сколько и будущему Иешуа Га-Ноцри. Значит, судьбе было угодно после мелькнувшего метеором на небосклоне Булгаковской жизни Володи Маккавейского подарить ему ещё один ориентир возраста абсолютной зрелости духа. — И Булгаков его не пропустил.
Не правда ли, какая конспиративность, какая секретность!
Если бы не два случайных безвестных свидетеля, мы бы никогда не узнали о тайной Булгаковской любви. Любви вдохновляющей, любви на всю жизнь.
Возникает естественный вопрос, каковы были взаимоотношения Волошина и Флоренского — двух Булгаковских учителей и наставников? Да и были ли они вообще знакомы?
Знакомство могло произойти в феврале того же 1908 года в «башне» у Вячеслава Иванова; такой визит отмечал в своём дневнике Михаил Кузмин, Волошин же в это время бывал в «башне» постоянно.
Новая встреча, уже фиксированная документально, состоялась в начале 1917 года в Москве, где тогда находился Волошин. Флоренский подарил ему три своих брошюры: «Не восхищение непщева», «Приведение чисел» и «Около Хомякова». На первой из них, имеющей подзаголовок К суждению о мистике и посвящённой Вячеславу Иванову, автор написал: «Многоуважаемому Максимилиану Волошину с чувством признательности и за лики творчества и за лики земли». В качестве подписи использован шрифтовой набор имени и фамилии на обложке. 1917.I.18. Остальные две книги надписаны в тот же день, таким образом все три надписи образуют единый поток мысли. На книге «Приведение чисел (К математическому обоснованию числовой символики)» Флоренский аккуратно вывел: «Максимилиану Александровичу Волошину с глубокой признательностью за впечатление от его метагеологии», а на критических заметках «Около Хомякова» закончил триптих следующим пассажем: «Глубокоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину, пленённый его мышью».
Метагеология и лики земли относятся к волошинским акварелям; несколько акварелей Волошин подарил Флоренскому. Возможно, вторым подарком был том критических статей «Лики творчества»: Флоренский особо оценил самую «ударную» из опубликованных в томе работ «Аполлон и мышь». Высокие похвалы в данном случае носят характер безошибочных гностических оценок, а возможно, и орденских поощрительных знаков.
Через год в письме к Георгию Шенгели, стиховеду и переводчику, одобряя его намерение составить «Словарь эпитетов», Волошин писал: «Но ещё было бы интереснее составить толковый словарь символов. Мы об этом в прошлом году говорили со свящ. Пав. Флоренским. Моя статья «Аполлон и мышь» представляет, в сущности, такой опыт выяснения широты символа». Всего в библиотеке Волошина было около десятка книг П.А. Флоренского, включая и фундаментальный горячо любимый Волошиным «Столп и Утверждение Истины».
В свою очередь, Волошин подарил Флоренскому книгу стихов «Anno Mundi Ardentis» (М., 1915) с надписью: «Отцу Павлу Флоренскому с глубоким уважением и робостью23 посылаю эту книгу. 1917 12/II».
На этом общение не прервалось.
18 сентября 1923 года, пользуясь оказией, Волошин отправляет Флоренскому письмо:
«Глубокоуважаемый и дорогой отец Павел!
Эти годы я часто и всегда с радостью соприкасался с Вашей мыслью. Последнею весною вестью о Вас были «Мнимости в геометрии». Мысли Ваши о Дантовом миростроительстве были мне особенно ценны и мне захотелось поделиться с Вами тем, чем я жил эти годы. Посылаю Вам тексты двух моих книг: «Неопалимой купины» и «Путями Каина», которые, верно, не скоро увидят свет. Первая — о России, вторая о Западе и о материальной культуре. Вторая — ещё фрагменты. Особенно хочется мне, чтобы Вы прочли главу «Космос».
Начали ли выходить выпуски «У водоразделов мысли»?
Посылаю Вам эти стихи и строки через д-ра Гранберга, который в Коктебеле и обещал всё передать Вам из рук в руки».
Вот так. Из рук в руки. Чтобы, не дай Бог, не раскопали, чем на самом деле занимается коктебельский «массовик» и «юрод».
Весной 1924 года, будучи в Москве, Волошин, вероятно, встречался с Флоренским. В его записной книжке 1 апреля помечено: «5 ч. Фаворс[кий], Флоренс[кий]». Значит, Волошин общался с обоими «коалиционерами» сразу.
Зимой 1926 года о Флоренском Волошину писала искусствовед Е.А. Некрасова, сообщая о делах журнала «Маковец»: «о. Павел живёт очень замкнуто».
На следующий год, снова будучи в Москве, Волошин, очевидно, виделся с Флоренским; во всяком случае, в его записной книжке отмечен его московский адрес.
И наконец, за полтора месяца до смерти, отвечая на литературную анкету, Волошин подытожил своё отношение к Флоренскому-мыслителю. Перечисляя семь книг прозы, которые бы «оставил навсегда с собой», он после Библии, «Братьев Карамазовых» и рассказов Лескова назвал «Столп и Утверждение Истины» (по мат. 40; 325—333).
Атмосфера проясняется. Учителя находились в абсолютном унисоне и взаимной любви. Волошин, будучи старше Флоренского на пять лет, благоговел перед своим младшим современником. Физико-математическая базисность его богословствования и мифологических построений в соединении с открытостью мистике и эзотерическому знанию сразу сделала авторитет Флоренского в русской культуре непререкаемым. Оппонировать ему устно или печатно считалось дерзостью и ребячеством. Это позволяли себе или глухие завистники, или люди, пытавшиеся таким образом привлечь внимание общественности к собственному имени «в связи с Флоренским». После нескольких лет общения с Владимиром Шмаковым и орденский статус Флоренского поднялся чрезвычайно высоко. Не забудем, что «Мнимости в геометрии» (к 600-летию со дня смерти Данте) и «Основы пневматологии» Шмакова вышли одновременно.
Реально в России установилось духовное троевластие. Правда, ненадолго. Шмакову не простили его невероятную книгу — спешно пришлось эмигрировать. «Нераскаянный» за «Путями Каина» Волошин ещё глуше ушёл в юродство и «профессиональное радушие», обслуживая в Коктебеле в основном советскую массолитовскую сволочь. А на Флоренского набросилась свора особо усердных цепных псов режима. Показательно выступление в печати бывшего декадентского баловня, ген(гомо)сека при Вячеславе Иванове Сергея Городецкого: «Наряду с развитием материалистического миропонимания и широким его распространением, мы имеем зачастую проявления самого необузданного мракобесия. Кто бы мог подумать, что как раз к юбилею Коперника в Москве 1923 года выйдет книга, объявляющая его теорию ложной и возвращающая читателя к птоломеевской «тверди небесной»? А между тем именно так ставится вопрос в книге учёнейшего богослова и выдающегося математика П. Флоренского. <...> Достаточно перекувыркнуться, и вы попадаете на тот свет, «в царство идей Платона». На подобном мракобесии Главлит поставил свою визу за № 1987» («Красная нива», 1923, № 12).
Особенно впечатляет в этом «запоздалом доносе» номер глав-литовской визы, который читается только как дата окончательного крушения воспеваемого режима. Правда, холуям «царство идей Платона» не светит, а кувыркаются они здесь, на глазах у Хозяина в надежде заслужить хоть какую-нибудь мзду.
Насчёт названия печатного органа: не отсюда ли «сатирический журнал «Красный ворон», издания ГПУ» из Булгаковской повести «Роковые яйца»? — «Красная нива» это почти так же смешно.
Флоренским заинтересовался всемогущий в те годы Троцкий. Внимание последнего к мистицизму требовало достойного собеседника. Троцкий приехал в институт, где работал Павел Александрович. «Начальство института и все сотрудники вышли его встречать. Флоренский, который ходил постоянно в рясе, не захотел вызвать неловкости своим видом и остался в лаборатории, где он работал. Троцкий, как только поздоровался, спросил у директора:
— Где у вас Флоренский?
За ним тотчас же побежали. И вот можно себе представить следующую картину: сотрудники образовали как бы аллею, стоя двумя шеренгами вдоль зала, в одном конце её стоял Троцкий, а на другом конце появился Флоренский. Оба они пошли навстречу друг другу. Директор представил Флоренского, Троцкий, после рукопожатия, взял его под руку и пошёл с ним, разговаривая, в его лабораторию по этой аллее, не обращая внимания на всех остальных присутствующих».
Через некоторое время очевидец рассказывал о таком эпизоде: «На людной московской улице проходит комсомольский отряд. Движение экипажей приостановилось. В открытом автомобиле, тоже остановившемся, сидят Троцкий и Флоренский, последний, по своему обыкновению, в рясе и скуфье. Оба они оживлённо о чём-то беседуют, не обращая внимания на окружающее. Комсомольцы угрюмо и подозрительно смотрят на человека в рясе и ворчат:
— Видно, нами скоро попы владеть будут!..» (40; 321—322).
Что и говорить, сцена впечатляющая. Особенно выразительна она, если вспомнить, что в «Белой гвардии» Троцкий нарисован эпической кистью Булгакова как демон-убийца Абадонна. Причём это единственный из свиты Воланда персонаж, который ни с кем из жителей Земли в контакт не вступает. Так что «высоковольтная убойность» («Не влезай — убьёт!») «мирных» бесед Флоренского была для многих самоочевидна. — Так оно и получилось в дальнейшем.
Булгаков не мог не знать об этом факте — предмете пречистенских застольных разговоров и пересудов. Вероятно, именно отсюда проистекает патетика общения Мудрости и Власти — центральная тема всех мистико-романтических утопий — одна из главнейших и в МиМ. А пристальное слежение за политической судьбой Троцкого, отразившееся в записях дневника «Под пятой»24, на самом деле подразумевает интерес Булгакова к фигуре его собеседника — учителя и образца. Во всяком случае, когда звонок из Кремля оказался не розыгрышем, Булгаков мгновенно встал в хищную стойку Финна по отношению к Руслану, повторенную затем в разговоре Иешуа и Пилата по поводу Марка Крысобоя. Он думал: ему повезло больше с партнёром и он отыграется сразу за всех. Он захотел невозможного, забыв, что политика — это искусство возможного. И что невозможное и ненужное на языке политиканов одно и то же.
Простодушным интеллигентам перевес на доске, возникший в результате гамбитной жертвы, всегда будет казаться победой, поддержанной небесами, и они всегда, повременив, будут стучаться в двери «высоких кабинетов» с предложениями по культурному строительству. Неистребимое желание духовно продолжать Историю является биологическим свойством интеллигентности, и срабатывает оно независимо от своекорыстных интересов отдельных личностей.
Булгаков даже в душе не попенял учителю на эту противоестественную «близость», а вот я слышал рассказ об одиозном дуэте — в аспекте трагических для Флоренского последствий — в тональности укора и злорадства, что в устах «профессиональных христиан» звучало особенно дико. Правда, меня эти наветы не поколебали, как — в виде живых событий — не смутили они и автора МиМ. И если бы встреча со Сталиным состоялась, Булгаков продолжил бы с того места, где остановился в разговоре с Троцким Павел Флоренский.
И я думаю, что Высшие Силы заботились о сохранении их энергии, нервов и времени, не заботясь об экономии того же властителей.
Впрочем, диалог так или иначе продолжался. Когда Сталин предложил Булгакову приписать к «Бегу» ещё «один или два сна», чтобы изобразить закономерность победы большевиков в гражданской войне25, Булгаков, пользуясь косвенностью обращения, оставил просьбу вождя без внимания. С другой стороны, когда Булгакова уломали с «Батумом», Высшие Силы не дали состояться булгаковскому «поздравлению» — «место на столе» было уже занято:
«Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза.
Адольф Гитлер» (16; 536).
Всё, что выходило из-под пера Булгакова, тщательно прочитывалось в Кремле: «Бег» стал известен Сталину по авторской машинописной копии. Судя по всему, Булгаков был его самым любимым писателем; Сталин признался исполнителю роли Алексея в «Днях Турбиных» актёру Хмелёву, что его чёрные усики ему часто снятся по ночам. Конечно, реально эти усики принадлежали другому человеку, автору вышеупомянутого поздравления — единственному конкуренту, кого «кремлёвский горец» боялся; но то, что Булгаков и Хмелёв «зацепили его за живое», не подлежит сомнению. С той же нежностью удава он относился и к Ахматовой, ценил её за дружбу с Булгаковым (интуитивно почувствовав это, они вместе сочиняли письма в Кремль, в результате чего были освобождены Лев Гумилёв и Николай Пунин) и время от времени осведомлялся у подчинённых, что там поделывает «наша монахыня».
Надо отдать ему должное — Хозяин хорошо знал своё хозяйство. Правда, расслабляться до сентиментализма не позволял себе никогда. Даже когда сын Илья попал в перипетиях Второй мировой войны в плен, он отказался обменять его на Паулюса, деловито заметив, что не гоже менять генерала на рядового.
Поэтому вотще за месяц до смерти Булгакова актёры МХАТа Качалов, Тарасова и Хмелёв отправили письмо Сталину с просьбой о телефонном звонке умирающему со словами поддержки — они просили о невозможном.
А слабеющий рыцарь всё волновался: «Я разговор перед Сталиным не могу вести... Разговор не могу вести». И снова:
«Идти! Вперёд!
Ответил бы!.. Ответил непременно! Я ответил бы!» (16; 542)
И то: единственное всемогущество, каким обладал жалкий кунцевский трус, было всемогущество подавления. Ни вдохновлять, ни воскрешать, ни дарить светлые мысли он, увы, не мог. И боялся обнаружить это.
Вернёмся к Флоренскому.
Он первым опробовал возможность контакта представителя штучного человечества с главарём человечества роящегося, коллективного, стадного. Это была пора первых проб в устройстве социального термитника под лозунгами «ты — ничто, твой народ — всё», «единица — вздор, единица — ноль» и т. д., и поначалу казалось, что «новая власть» вменяема к сокровищам культуры прошлого, по крайней мере, должна быть вменяема. Однако генетическая ненависть к штучности с убойным воплем «ты что, лучше других?!» оказалась непробиваемой. Загнанный в угол, незадолго до смерти Флоренский писал в письме с Соловков: Всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий» (3—4 июня 1937 г.). И выводил безрадостным законом следующее убийственное резюме: «Ясно, что свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонениями» (13 февраля 1937 года). Нет, уж лучше в покой, под крыло к Владыке Справедливости. В ласковую тьму «Лунной сонаты» и «Русских ночей».
Как же ученик смог поднять глыбу утверждения, что «все люди добрые»? Он, повторявший немеющими губами вослед учителю: «Служить народу... За что меня жали? Я хотел служить народу...»
Воистину, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.
«Минут через десять примерно видели некоторые обитатели громадного дома на Садовой, как председатель правления в сопровождении двух людей быстро проследовал в ворота дома и якобы шатался, как пьяный, и будто бы лицо у него было как у покойника.
Что проследовал, это верно, ну а насчёт лица, может быть, и приврали добрые люди» (7; 69).
Точка.
Это единственное, что успел изъяснить учитель в упомянутом Волошиным Словаре символов (Symbolarium'е). Первый выпуск предполагаемого издания сохранился в рукописи, и хотя Флоренский старается — сообразуясь с условиями времени — оставаться в пределах математической понятийности, «идеалистический вокализм» сочится из каждого слова сугубо деловой статьи. Точка в математике, писал он, играет двойную роль, символизируя в своих предельных значениях «полноту» и «пустоту» (пробел — hiatus), единицу и нуль. «Единица и нуль, как значения точки, суть пределы; но можно использовать точку и как стремящегося к этим пределам; тогда она понимается как дифференциал, и притом дифференциал в двояком смысле: либо как «дух возникающей величины»..., кирпичик, из которого строится величина, как пользуются обычно дифференциалом в математическом естествознании; тут дифференциал имеет тайную наклонность сближаться в мысли... с актуально бесконечно малым; в этом своём смысле он есть некая единица, и не без причины дифференциалы Лейбница были родными братьями его монад, уже знакомых единиц. Либо точка получает смысл «духа исчезнувшей величины», точнее исчезающей, и тогда есть своего рода нуль: это — ньютоновские флюксии, которые и обозначались-то, кстати сказать, у Ньютона точкою, поставленною над буквенным символом соответствующей величины».
«Когда мы не имеем способности созерцать hiatus, пробел между точками, усматриваемый только созерцательно, мы не можем и строить континуума, ибо не знаем, имеет ли пробелы то, что построили, или «связано», как выражается Кантор»26.
Точка, добавим мы, при своём ускользающе малом топосе, способна источать из себя бесконечно огромные величины; при точечном прикосновении жезла Моисея к скале из ничего пробуждается источник, точность, она же пунктуальность, — вежливость королей; точечная медицина — снайперское лечение; пункция позвоночника — ювелирнейшая из хирургических операций.
Не забудем, что точь-в-точь — эквивалент французского «портрет», что точиться плавно переходит в течение; что меч, если его не наточить, — всего лишь кусок металла.
Вспомним, что без точки, двоеточия и многоточия грамматика была бы мертва, а «поставить все точки над i» является наиболее выразительным символом завершения работы.
Все Булгаковские полёты завершаются или тем, что персонаж, удаляясь, превращается в точку, или приближаясь, из этой точки возникает. Причём хиатус — «зиятус» не всегда бывает в наличии; так, например, в финальном полёте все четыре рыцаря сливаются в одно тёмное облако, а шпоры Воланда, оказывающиеся на самом деле сияющими вдалеке звёздами, пробивают таинственным многоточием последнюю сферу посюсторонности, и всадники «проваливаются» в другую мерность.
Уроки Флоренского были усвоены капитально, и фантастическая трансформативность в МиМ осуществляется Булгаковым по таким неукоснительным математическим законам, что производит более реальное впечатление, чем самоё обыдённость. В этом параметре он не имеет себе равных среди тех авторов, чьё творчество можно приписать к стилистике «фантастического реализма». Поэтому он нигде не сюр, нигде не экспрессионист, не символист-эмблематик и даже не романтик, несмотря на наличие в тексте «трижды романтического» Мастера. Он реалист и виртуоз супергротеска, равняющийся в этом на позднего Гойю (особенно фрески «Дома Глухого»), Гектора Берлиоза («Фантастическая симфония» и «Осуждение Фауста») и Достоевского («Бесы»). Последняя аналогия не прошла мимо внимания Павла Попова, в уже цитированном письме Елене Сергеевне от 27.XII.40 года он панически подчёркивает эту прямую связь и генетическое родство.
Кстати, в большом романном поле функцию точки выполняют ласточки, а также Иван Бездомный, ныряющий ласточкой с набережной в Москва-реку. В конце концов он, преследующий Воланда, в отчаянии доходит до точки, в этом состоянии в дурдоме его и встречает Мастер, чтобы из точечного знакомства Ивана извлечь полноту информации о Сатане. Точность воспроизведения Евангельских событий рождает у Мастера восклицание: «О, как я всё угадал!».
Точность — непременный атрибут справедливости, поэтому Сатанаил часто изображается с весами в руках; в этом смысле он идентичен Фемиде. А что может быть более соотнесено с мнимыми величинами, чем гири её весов? Недаром Истина-Справедливость Маат в Египте изображалась легчайшим предметом — страусовым пером, которое подносили для проверки наличия дыхания-жизни ко рту умирающего.
Не есть ли МиМ такое перо, поднесённое к лицу того, кто «как труп в пустыне» — уже 80 лет?
Итак, ко второй половине 20-х годов Булгаков полностью усвоил орденскую идеологию и «был принят» в спроектированный ещё Достоевским рыцарский Орден Чести, став почти сразу его идеологом и глашатаем. Когда в 1929 году в Париже вышла вторая часть «Белой гвардии», на неё откликнулся восторженной рецензией один из корифеев масонской мысли за рубежом Михаил Осоргин. Он писал: «Именно то и интересно, что Булгакову удалось доказать силу настоящей художественной правдивости: его роман, хотя бы только первый том и переделанная из романа пьеса, всё же терпятся в стране социального литературного заказа и обязательной марксистской тенденциозности; об него обломились копья официальной критики. Автора старались выставить идеологом белого движения; но роман его каждой строчкой доказал, что автор лишь идеолог человеческой чести; стрелы критики ударились в художественную броню, и ложь не пристала.
Роман, конечно, останется в литературе. Вероятно, он займёт в ней скромное место — искусной и правдивой хроники. Сейчас, в момент исключительный и в условиях необычных, он кажется выше подлинного своего значения и представляется почти подвигом художника» (16; 208).
Понимая, что рецензия во «вражеских» «Последних новостях» наверняка будет прочитана на Лубянке, Осоргин вуалирует похвалы; вместе с тем положительные оценки, какие всё-таки прозвучали, носят характер не эмоциональных выплесков, но строгой посвятительной квалификации.
Любопытно сравнить эту текстовую орденскую эмблематику с графической на двух экслибрисах Павла Флоренского, один работы А. Сидорова (1918 год), второй — В. Фаворского (1922 год). На них изображён рыцарь в латах, из чего легко заключить, что обе гравюры созданы по концепции самого Флоренского. В изображениях поражает полное игнорирование христианских элементов и абсолютная «светскость» в подаче материала. Бросается в глаза пассивность позы и отсутствие оружия в ранней ксилографии и присутствие его в поздней, где рука рыцаря тянется к рукояти меча, что может быть истолковано как реакция на изменившиеся исторические обстоятельства. Рисунок на щите, который держит рыцарь на миниатюре Фаворского, концептуально передаёт фразу-кредо «общечеловеческие корни идеализма»; вместе с тем рисунок похож на известную схему «языкового древа» и, скорее всего, имеет оба эти значения. Доминирующая в изображениях стрела, пронзающая рыцаря навылет, — это, безусловно, стрела любви, против коей бессильны латы; на такое её значение указывает и спокойная поза первого рыцаря, и вдохновенная энергия второго, кажется, именно этой стрелой приведённого в движение. Обращает на себя внимание разнонаправленность стрел: по часовой стрелке у Сидорова и против часовой стрелки у Фаворского. Движение первого рода символически соответствует образу времени, второго — вечности. В стадиальном смысле это абсолютно оправданно. Главный вывод, какой можно сделать на основе изображений, — в 1918 году принадлежность Флоренского к орденской структуре представляется несомненной, учитывая и орденский статус первого гравёра. Возможно, «Рыцарь, пронзённый стрелой» было розенкрейцерской титулатурой Павла Александровича.
В аспекте всего перечисленного очевидна связь пьесы «Дон-Кихот» с образом и памятью Флоренского. Два обстоятельства могли подвигнуть Булгакова нарушить свой категорический отказ писать для драматического театра: глухие известия о смерти учителя и то, что заказ на инсценировку пришёл из «тамплиерского гнезда» — Вахтанговского театра. Во всяком случае, это единственная работа конца 30-х, кроме МиМ, которая не вымучивалась Булгаковым. Он с аппетитом учил испанский язык и читал в оригинале наиболее ответственные места; только что перепечатанный беловик МиМ легко и органично выплёскивал смысловые сгустки для новой пьесы:
«Дон-Кихот. Какие бы несчастья и неудачи ни постигали меня, я, клянусь в том рыцарским орденом, к которому принадлежу, все силы свои отдам на служение людям, с тем, чтобы облегчить их страдания...» (6; 356).
Какая подпись под великолепной гравюрой Фаворского!
Какой чёткий и ясный девиз всей жизни Флоренского!
И какая глубина понимания со стороны гениального продолжателя и ученика!
Это не удивительно. Когда Волошин в феврале 1927 года приехал в Москву, Булгаков встретил мэтра не менее радушно, чем тот его два года назад в Коктебеле: по контрамаркам автора супруги Волошины 16 февраля смотрели в Вахтанговском театре «Зойкину квартиру», а 25 февраля «Дни Турбиных» во МХАТе.
1 и 12 марта Булгаков принимал гостей у себя в Малом Лёвшинском; оба свидания прошли с максимальной секретностью и, если бы не две кратких заметки в записной книжке Волошина, могли бы вообще ускользнуть из поля зрения исследователей. О реакции учителя на спектакли можно только догадываться. Реконструировать её позволяет письмо коктебельского отшельника Булгакову от 4 апреля 1926 года, где он вновь предпринял попытку заполучить к себе любимого ученика: «Дорогой Михаил Афанасьевич, не забудьте, что Коктебель и волошинский дом существуют и Вас ждут летом. Впрочем, Вы это не забыли, так как участвовали в Коктебельском вечере27, за что шлём Вам глубокую благодарность. О литературной жизни Москвы до нас доходят вести отдалённые, но они так и не соблазнили меня на посещение севера. Заранее прошу: привезти с собою конец «Белой гвардии», которой знаю только 1 и 2 части, и продолжение «Роковых яиц». Надо ли говорить, что очень ждём Вас... и очень любим...» (31; 422—423, курсив мой. — О.К.).
Булгаков не имеет возможности даже намекнуть о произошедших, грозящих убойностью событиях и посылает сдержанный аккуратный ответ: «Дорогие Марья Степановна и Максимилиан Александрович. Люба и я поздравляем Вас с праздником. Целуем. Открытку М.А. я получил, акварель также. Спасибо за то, что не забыли нас. Мечтаем о юге, но удастся ли этим летом побывать — не знаю. Ищем две комнаты, вероятно, всё лето придётся просидеть в Москве. Ваш М. Булгаков» (курсив мой. — О.К.).
Ответное письмо помечено 3 мая. Через три дня у Булгакова произошёл описанный выше шмон.
Ученик первым понял этот «знак судьбы»; чтобы дать знать о происшедшем, не могло быть и речи. Однако в декабре общая коктебельская знакомая О.Ф. Головина пишет Волошину: «По моему, [«Зойкина квартира»] это блестящая комедия, богатая напряжённой жизненностью и лёгкостью творчества... Жаль, что его [Булгакова] писательская судьба так неудачна и тревожно за его судьбу человеческую» (31; 423, курсив мой. — О.К.).
Мудрому Максу не надо было сильно пояснять ситуацию.
В начале следующего года он уже был в Москве.
Гахновские друзья устроили Волошину небольшую выставку акварелей в помещении Академии; она открылась 26 февраля, на следующий день после просмотра «Дней Турбиных»; судя по всему, на открытии её был и Булгаков, хотя из осторожности мог и не светиться в первый день. За два месяца до того Л. Леонов, знакомый с Булгаковым по Коктебелю, писал Волошину: «Мишу Булгакова встречаю редко: оказиями. Он где-то в таинственности пребывает» (31; 422, курсив мой. — О.К.).
Булгаков привык скрываться и скрывать своё прошлое: отказавшись сниматься для кинохроники, чтобы не быть узнанным случайными свидетелями его белогвардейского прошлого, он лишил нас впечатлений своего живого присутствия. Орденский навык конспиративности он усвоил сразу и вполне. Во всяком случае, встреча с Флоренским и Фаворским, на которую Волошин не мог не пойти с любимым учеником, осталась абсолютно вне фиксаций, если только не обнаружится со временем некий сексотский отчёт «службы наружного наблюдения»28...
Рыцарь с экслибриса Флоренского является знаковой эмблемой этой таинственной встречи, доминантой братского общения. Злоба гэпэушников от невозможности знать реальное содержание беседы29 и их далеко идущие предположения о её содержании привели к цепи санкций против её участников. Размякший и «размечтавшийся» от относительного успеха выставки, повышенного внимания к себе со стороны московской интеллигенции, «трижды романтический» Волошин первым вкусил, вернувшись домой, волчью хватку преследований.
«Мы, нижеподписавшиеся, жившие в «Волошинской даче» удостоверяем, что гр. Волошин своей дачи коммерчески не эксплуатирует, а предоставляет её целиком работникам искусства и науки для летнего отдыха совершенно бесплатно» (17; 48).
Под этой петицией к правительству, защищающей коктебельский оазис от очередной попытки властей ликвидировать его, стоят подписи О.К. Толстой, С.А. Есениной, А. Г. и Н.А. Габричевских, проживавших в нём в 1923—1926 годах.
С трудом масонский храм удалось отстоять. Волошину эти перипетии сократили жизнь, а Булгаков ласково отчитал учителя на страницах МиМ. В сентябре 1928 года был арестован и выслан в Нижний Новгород Павел Флоренский, а в начале 1929 года были сняты с репертуара все пьесы Булгакова.
И тогда пером молодого адепта рыцарство отвечает на тиранство семинариста-недоучки: в декабре этого переломного года Булгаков пишет концептуальную драму «Кабала святош».
Сначала он чётко проговаривает рыцарское достоинство Мольера. Затем сатирической кистью Домье рисует жестокое тиранство тупого самодержца, сосредоточивая разящий взгляд на циничной и хитрой камарилье церковников, вьющихся вокруг властителя, как кровожадный гнус, его руками душащих своих ненавистных врагов. Образчик их словесной патоки, которой они умело манипулировали, не сомневаясь в абсолютной победе: «Разве может быть на свете государственный строй более правильный, нежели тот, который существует в нашей стране? — Нет! Такого строя быть не может и никогда на свете не будет. Во главе государства стоит великий обожаемый монарх, самый мудрый из всех людей на земле. В руках его всё царство... благоденствует...»
Иезуитской политике и логике тайного общества клерикалов-рясофоров в ткани драматического полотна противопоставлены высокие качества рыцарей «Ордена чести» (Мадлена, обращаясь к верному ученику Мольера Лагранжу: «Вы — рыцарь, и вам одному я сказала тайну»... Лагранж «берёт фонарь и уходит, как тёмный рыцарь». И вновь: «Лагранж в тёмном плаще ходит взад и вперёд... За ним по стене ходит тень рыцаря».).
А вот как король рассуждает по поводу власти.
«Людовик. Скажи, Справедливый Сапожник, государство без доносов жить не может?
Сапожник (шут). Как можно без доносов!
Людовик. Ну а доносчик?
Сапожник. Ну, это, ваше величество, всегда такая сволочь!...»
Архиепископ парижский Шаррон прямо назван дьяволом, причём это не воплощение справедливости Воланд, а пошлый дьявол мерзости людской, который, что характерно, «возникает, страшен, в рогатой тиаре; крестит обратным дьявольским крестом» и, вообще, является родным братом Великого Инквизитора Достоевского.
Поэтому рыцарский вердикт Мольера, до конца испившего эту чашу, высказан в жанре «слова пред казнью».
Сначала светлая волна бунта смывает грим с церковного примаса:
«Мольер. А-а... Это вы, святой отец? Я догадался сейчас... меня осенило30... А знаете ли, архиепископ, почему вы носите сутану?
Шаррон. Почему, сын мой?
Мольер: Чтоб хвост не был виден... Не сметь называть меня сыном. Я не дьяволов сын!»
Затем шевалье де Поклен принимается за короля:
«Мольер. Тиран! Тиран!
Бутон. Про кого вы это говорите, мэтр?
Мольер. Про французского короля!
Бутон (в ужасе закрывает двери). Молчите!
Мольер. Про французского короля: тиран. Видел сегодня — золотой идол. Изумрудные глаза. <...> Тиран! Тиран! <...> Холодная злоба этого человека неизмерима, как и его сила, как его царство. <...> Тирания! Кабала! И что он понимает в искусстве?.. Всё равно, как бы писатель ни унижался, как бы он ни подличал перед властью, всё едино, она погубит его. Не унижайтесь! Я унизился и погиб. Ненавижу государственную власть!
Бутон (вскрикивает). Да здравствует король! Умоляю вас, умоляю.
Мольер. Он думает, что он всесилен, он думает, что он вечен! Какое заблужденье. Чёрная кабала за его спиной точит его подножие, душит и режет людей, и он никого не может защитить!
Бутон. Я погиб! Погиб! <...>
Мольер (тоскуя). Да нет, вздор. Он не виноват. Виноват я, я сам! Писатель не может жить! <...> Теперь жду смерти. <...> Пожалей меня, Бутон, не покидай. На тебе, Бутон, луидор с его изображением.
Бутон. Да здравствует король!
Мольер. Да, да, верно. Я лгу. Он велик, именно такая сила и нужна во главе государства. Слепой идол, который всё сокрушит... а писателю нет места. <...>
Бутон. Господи Боже мой, сделай так, чтобы никто не слышал, о чём он говорил.
Мольер (внезапно). Тиран! Убил меня!
Бутон. Да здравствует король! Боже мой! <...> Да здравствует король!
Тьма» (6; 446—447).
Сердце всадника-актёра останавливается, и рыцарь Лагранж констатирует: «Причиной этого явилась немилость короля и чёрная Кабала31! Так я и запишу!» (6; 448).
Светлому рыцарскому братству противостоит организация религиозных фанатиков, они борются друг с другом, разоблачая оппонентов перед власть предержащим и пытаясь заручиться его поддержкой. Однако властитель лавирует и всегда принимает сторону сильнейшего. Во времени (почти) всегда побеждают мракобесы, в вечности — светочи.
Советская «чёрная Кабала» мгновенно почувствовала угрозу и приняла меры. «В архиве писателя сохранился... машинописный текст пьесы со штампом Реперткома от 3 октября 1931 года и поправками. Убиралась главным образом та часть текста, которая касалась «демонической» темы, а именно: превращение архиепископа Шаррона в дьявола, появление монашки — предвестника смерти, различная символика и обрядность Кабалы святош и т. д.» (6; 442).
Рядом с Мольером жили и рыцарски сражались с мракобесием Блез Паскаль и Сирано де Бержерак. Все трое были сведены в могилу интригами «Кабалы», но они да ещё поэты «Плеяды» — единственное, что осталось от эпохи Луи Каторза, которую даже проницательный Вольтер считал «золотым веком» Франции.
И теперь новый отряд рыцарей держал круговую оборону против сил мрака. Орденское достоинство Мастера подтверждено финальной сценой МиМ: спешившийся всадник в Моцартовском парике освобождает от двухтысячелетних мук Всадника Золотое Копьё. И это апофеоз рыцарской поэтики Романа.
Следующей ступенью постижения и осмысления темы становится созданный в 1938—39 годах «Дон-Кихот». Рыцарская патетика доходит в нём до невероятных высот. А ведь за полгода до этого Булгаков писал Вересаеву, пытавшемуся по мере сил заменить ему коктебельского наставника: «Мои попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше я его не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет»32 (31; 479). «Я очень утомлён и размышляю, — исповедуется он старшему Брату. — Я имею опыт, слишком много испытал...» И всё-таки — последний рывок, последнее вдохновение — и «Вложив ногу в стремя, В предсмертном томленьи, Пишу тебе это, великий сеньор». В Сервантесовом посвящении романа Булгаков жирно подчеркнул вторую строку, полностью отдавая себе отчёт в безнадёжности обстоятельств, в коих ему пришлось в последний раз примерить латы Ламанчского правдолюбца:
«Дон-Кихот. Пусть я буду рыцарем печального образа, я с гордостью принимаю это наименование, но я рождён для того, чтобы наш бедственный и развращённый железный век превратить в век золотой! Я тот, кому суждены опасности и беды, но я же тот для великих подвигов и дел. Идём вперёд и воскресим с тобою время бессмертных рыцарей Круглого Стола. Пойдём скитаться по свету, чтобы мстить за обиды, нанесённые сильными слабым, восстановить поруганную справедливость и честь, лететь навстречу боям и приключениям, чтобы покрыть имя бессмертной славой!» (6; 341)
Булгаков прикоснулся к таинству Грааля, к глубочайшим истинам легенд о короле Артуре. Об этом свидетельствуют многочисленные пометы в русском переводе романа Сервантеса, каким пользовался писатель при создании своей драматической поэмы. Это отразилось в монологе-размышлении о золотом веке, которым автор обогатил пьесу во второй редакции:
«Дон-Кихот. Я думаю о том веке, когда не было этих слов: моё и твоё. Когда люди, мирно сидя, вот как мы сейчас сидим с тобой на зелёной траве, щедро делились друг с другом тем, что им послала благостная, ни в чём не отказывающая природа. Да и что людям, пасшим свои стада, было прятать друг от друга? Прозрачные ключи давали им воду, а деревья — плоды. Не было золота, которое породило ложь, обман, злобу и корыстолюбие, и хоть его не было — этот век, Санчо, назывался золотым веком, и вот мечтание странствующего рыцаря, как я уже говорил тебе, заключается в том, чтобы возродить этот пленительный век! Ах, Санчо, если бы на мою долю не выпало тревожное счастье стать рыцарем, я хотел бы быть пастухом! Я назвался бы Кихотисом, а ты — Пансино, и мы стали бы бродить по горам и лугам, то распевая романсы, то вздыхая от полноты души. Днём нас спасала бы от жгучего солнца буйная листва дубов, а ночью нам светили бы мирные звёзды. Ах, неужели ты не понимаешь, что только в такой жизни человек может найти, что это его наилучший удел?» (6; 454)
И конечно, оппонентом выступает представитель тогдашней «кабалы святош» и, как всегда, голос и доводы его партийны и резонёрски бескрылы:
«Духовник. Как вы могли взять в голову, что вы странствующий рыцарь?.. Перестаньте шататься по свету!.. Перестаньте безумствовать!.. Где это вы нашли в Испании странствующих рыцарей?..
Дон-Кихот (духовнику). Вы полагаете, что достаточно окончить семинарию-пансион, чтобы навязывать свои законы рыцарству? Вы считаете, что человек, странствующий по свету не в поисках наслаждений, а в поисках терний, праздно тратит время? Если бы меня считали сумасшедшим рыцарем, я счёл бы себя оскорблённым, но слова первого попавшегося начётчика, вроде вас, я не ставлю ни в грош! Я — рыцарь и рыцарем умру! <...> За кого я мстил, вступая в бой? За слабых, которых обидели сильные! Если я видел зло, я хотел его исправить, я, схватившись в смертельной схватке, побивал чудовищ злобы и преступлений. Моя цель светла: всем сделать добро и никому не причинить зла!» (6; 385)
Кремлёвский семинарист-недоучка получил по заслугам сполна от всего рыцарства. Но вслед за «последним словом» наступила садистская пауза... и «шевалье де Булгак» начал торопливо сочинять сценическую парсуну о романтическом «пастыре» Сосо, стараясь успеть к всенародному юбилею.
Сталин умел «соблюсти лицо», что было несложно, ибо оно представало нарисованным на картонной личине, прикрывающей звериный оскал хищника. Он, например, сделал выговор гэпэушникам, арестовавшим Мандельштама в связи с «кремлёвским горцем»; после чего и последовал иезуитский звонок Пастернаку.
Булгаков знал это и не ждал ничего хорошего.
В образе псевдорыцаря бакалавра33 Сансона Карраско (он специально меняет привычное М на Н в его имени, чтобы оно ещё сильнее походило на Сосо), носителя кары (даже карры) идеалисту, Булгаков создаёт портрет «вождя», проступающий сквозь благообразную маску «дедушки»:
«Дон-Кихот. Я побеждён... Но вот что вдруг стало страшить меня гораздо больше, чем острие вашего меча! Ваши глаза!.. Ваш взор холоден и жесток... Впрочем, вашему железному сердцу этого не понять... Каменное сердце!»
«Читая предисловие к роману Сервантеса и биографический очерк о нём, написанные переводчиком — М.В. Ватсон, Булгаков подчеркнул всё, относящееся к Сансону Карраско. Вот некоторые фрагменты этого текста: «Что касается Самсона Карраско — в нём как бы олицетворены здравый смысл, логика, метод, осторожность, сухое рассуждение... Он недурной человек, или же никто не считает его дурным человеком, у него самые лучшие намерения (те, которыми ад вымощен. — ОК), самые разумные рассуждения: это слегка утомлённый, разочарованный, здравомыслящий человек, не верящий в «идеи», которые он называет безумием. Имя его посредственность, а это самая большая сила и теперь и во времена Сервантеса... Мы видим, что лишь Самсону Карраско удалось победить (надо думать, временно. — ОК) рыцаря Идеала и отнять у него... его мечты о славе»» (6; 458).
«Рыцарь Белой Луны»34 побеждает Рыцаря Печального Образа.
«Санчо. ...Куда вы смотрите, сеньор?
Дон-Кихот. На солнце. Вот он, небесный глаз, вечный факел вселенной, создатель музыки и врач людей. Но день клонится к ночи, и никакая сила не удержит его на небосклоне, и солнце уйдёт под землю. И мне вдруг показалось, Санчо, что день мой кончается и для меня наступает мрак ночи. Мне страшно, Санчо, тоска охватила меня...
Санчо. Сеньор, не пугайте меня! Чем мне развеять эту тоску?.. <...> Неужели этот проклятый рыцарь Белой Луны... своим мечом повредил вам не только грешное тело, но и бессмертную душу?
Дон-Кихот. Эх, Санчо! Я боюсь, не вылечил ли он мне душу, или, вернее, леча её, не вынул ли её вовсе из меня, а другой не вложил... Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награждён человек, он лишил меня свободы. На свете много зла, Санчо, и мы с тобой неустанно боролись с этим злом, несмотря на насмешки, которыми нас осыпали. Но хуже плена нету зла. Мне теперь, пойми, нельзя выйти из этого круга, и никакая мечта меня никуда не ведёт. Он ограбил меня, Санчо! Смотри, солнце срезано наполовину, земля поднимается всё выше и выше и пожирает его! На пленного надвигается мрак! Он поглотит меня, Санчо!» (6; 396, 459)
Недаром после истории с телеграммой-молнией, настигшей его в поезде, Булгаков, вернувшись домой, скупо резюмировал: «Он подписал мне смертный приговор...»
Многоточие. По числу убиенных.
Кстати, о Карраско.
В середине 1929 года Булгаков направил письмо Сталину с изложением своего отчаянного положения и воплем о помощи. Затем аналогичное письмо Булгаков направил на имя начальника Главискусства А.И. Свидерского. Ознакомившись с письмом, Свидерский отправил 30 июля записку секретарю ЦК ВКП(б) А.П. Смирнову, где, в частности, писал: «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обречённого. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безвыходное».
В свою очередь А.П. Смирнов, вполне лояльно относившийся к творчеству Булгакова, направил 3 августа письмо писателя и записку Свидерского в Политбюро на имя Молотова, изложив в сопроводительной записке свою точку зрения:
«Посылаю Вам копии заявления литератора Булгакова и письма Свидерского — прошу разослать их всем членам и кандидатам Политбюро.
Со своей стороны, считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение и исправление — практиковалась только травля35..., а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться».
Предложение А.П. Смирнова было одобрено, и вопрос был рассмотрен на заседании Политбюро 5 сентября 1929 года. В протоколе Политбюро помечено: «Слушали. О Булгакове. Постановили: снять».
Почему же Политбюро отказалось рассматривать вопрос «о Булгакове»? Совершенно ясно: Сталин в это время был в отпуске, и без него Политбюро не решилось определять судьбу писателя (см. 16; 206).
После телефонного звонка генсека, сделавшегося притчей во языцех в устах интеллигенции, сексоты, шнырявшие в её нестройных рядах, сообщали наверх об услышанных разговорах:
«А главное, говорят о том, что Сталин совсем ни при чём в разрухе. Он ведёт правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин им дал щелчок по носу.
Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нём говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова.
Такое впечатление, словно прорвалась плотина и все вокруг увидали подлинное лицо тов. Сталина.
Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, ненависти, мнений как об озверелом тупом фанатике, который ведёт к гибели всю страну, которого считают виновником всех наших несчастий, недостатков, разрухи и т. п., как о каком-то кровожадном существе, сидящем за стенами Кремля.
Сейчас разговор:
— А ведь Сталин действительно крупный человек. Простой, доступный» (16; 232—233).
В июле 1931 года Булгаков писал Вересаеву с трагической иронией: «Имеются в Москве две теории. По первой (у неё многочисленные сторонники), я нахожусь под непрерывным и внимательным наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупный недостаток. Так на мой вопрос: «А зачем же, ежели всё это так важно и интересно, мне писать не дают?» — от обывателей московских вышла такая резолюция: «Вот тут-то самое и есть. Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под Вашего пера хвала»».
Это совершенно переворачивает формулу «Бытие определяет сознание», поскольку нельзя даже представить, чтобы человек, чьё бытие составлялось из лишений и неприятностей, вдруг «грянул хвалу».
О второй теории не упоминаю, ибо правильной оказалась именно эта. Булгаков, возможно, специально выстроил хитрый софизм, чтобы подтолкнуть власти к милосердию (перлюстрация писем подразумевалась).
И главная мысль: «Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и чёрный гроб. <...>
Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? <...> Что произошло? Ведь он же хотел принять меня? <...>
У меня перебито крыло» (2; 203—204).
В ответном письме Вересаев назидал собрата примером своей «несгибаемости», стараясь поддержать в трудную минуту, поднять, научить. Однако некоторая польская однозначность и прямолинейность с первых дней знакомства вызывали у Булгакова скептицизм и лукавую усмешку. Недаром, разложив на составные псевдоним Викентия Викентьевича Смидовича — Верь, Исайя — он создал пародийный образ Ликуй Исаича в комедии-фарсе «Багровый остров». Эти качества Вересаева чуть не привели к разрыву отношений недавних соавторов, и только орденское великодушие и благородство обеих сторон не позволили этому случиться.
Напрасно Булгаков думал (если действительно это имело место), что его «скромная» личность не является достойным объектом для столь пристального внимания высшей власти, — дело обстояло именно так. По поводу «Кабалы святош» на самый верх (Сталину и Молотову) была отправлена «справка о «Мольере» М. Булгакова» с подробным анализом «политических аналогий между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV». Керженцев, подписавший «справку», предлагал угробить пьесу ругательной передовицей в «Правде». Сталин начертал на «справке» резолюцию: «Молотову. По-моему, т. Керженцев прав. Я за его предложение». «8 марта было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О постановке «Мольера» М. Булгакова в филиале МХАТ» следующего содержания: «Принять предложение т. Керженцева, изложенное в его записке от 29.II.36 г.»» (16; 405).
Сексот из ближайшего окружения Булгакова докладывал в ОГПУ:
«Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы М.А. Булгакова особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии..., хотя внешне он старается [его] скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает дальнейшая судьба как писателя... Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от постоянной темы — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти...» (16; 405—406).
11 марта 1936 года Вересаев писал Булгакову, снова смыкая в цепь разорвавшуюся было рыцарскую шеренгу: «Я глубоко потрясён снятием Вашей пьесы. Неизбывно труден Ваш творческий путь! Желаю Вам силы душевной перенести этот новый удар...» (41; 89).
На следующий день Булгаков отвечал: «Сейчас, дорогой Викентий Викентьевич, получил Ваше письмо и был душевно тронут! Удар очень серьёзен. <...> Дальнейшее мне не ясно.
Сердечно благодарю Вас за письмо, дружески обнимаю. Желаю доброго.
Ваш М. Булгаков» (16; 406).
Утром 15 марта позвонили от П.М. Керженцева и пригласили Булгакова на беседу. На следующий день Булгаков с женой отправился на приём в президиум Главискусства. Говорили около полутора часов. Керженцев критиковал «Мольера» и «Пушкина». Булгаков не спорил, ни о чём не просил и ни на что не жаловался. Единственно, позволил себе показать фотограмму отзыва Горького о «Мольере», в котором тот в тоне похвал отзывался о пьесе. Но Булгаков понял, что «Пушкина» тоже снимут и что за словами Керженцева стоит воля совсем другого человека.
Когда в финале разговора зашла речь о будущих планах, Булгаков «счёл нужным» (как записала в дневнике Елена Сергеевна) сказать о пьесе о Сталине.
Любопытно, что в этот момент творилось в душе у Главискусства... Впрочем, делу уже был дан необратимый ход.
На следующий день, 17 марта, в газете «Советское искусство» появилась статья «Покушение на Пушкина» с таким выразительным резюме: «Памяти Пушкина угрожают халтурщики, пошляки, драмоделы, спекулирующие на его имени...» Имелись в виду злополучные соавторы.
«Миша звонил Вересаеву, предлагал послать письмо в редакцию о том, что пьеса подписана одним Булгаковым, чтобы избавить Вересаева от нападок, но Викентий Викентьевич сказал, что это не нужно». Старый витязь действительно умел держать удары. Орден — это вам не медаль, не «Анна на шее» (см. 16; 406).
Так закончилась «сеча при Керженцеве». Или, лучше сказать, высеча начальственным ремнём.
Дальнейшее известно.
Волошин, Флоренский и Булгаков пали на поле боя. Вересаев, Сидоров и Фаворский дотянули до послевоенного времени.
Однако не все рыцари сохранили своё лицо.
Георгий Петрович Шторм, прославившийся книгой «Труды и дни Михайлы Ломоносова», вышедшей в 1932 году, познакомился с Булгаковым в краткий период их общей работы в Лито. Это описано в «Записках на манжетах»: «Утром в 11 вошёл молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: Шторн.
— Чем могу служить?
— Я хотел бы получить место в Лито. <...>
И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «Пр. назн. инстр. За завед.» Буква. Завитушка».
Затем ещё пару раз фамилия эта «штокает» между строк. И всё.
В 20-х годах Г. Шторм стал активным членом общества тамплиеров (37; 33, 87, 109), и рыцарский статус ему был обеспечен. Книгу его оформил Фаворский, превратив её в полиграфический шедевр; после войны Шторм протащил исподтишка орденскую тему, написав «Потаённого Радищева»... И всё же. «Некоторые подробности этого времени припомнил незадолго до своей кончины, в одной из наших бесед в январе 1978 года, литератор Георгий Петрович Шторм... Запомнилось неожиданное начало разговора, когда Георгий Петрович сказал — после первых же слов: «Он сохранил лик, а я надел личину». <...>
...«Печальный Шторм», «тихо сказал»36 — удивительно, что всего два штриха, черкнутых в беглом портрете одного из персонажей «Записок», и шестьдесят лет спустя остались самыми заметными чертами оригинала...» (22; 152—153). А ведь Шторм не подличал, не ползал ужом, не предавал. Такое впечатление, что «сохранить лик» в то время можно было только лёжа в гробу...
...Хотя Воланд называет то одного, то другого гаера из своей карнавальной свиты рыцарями.
Значит, карнавал — чести не помеха.
Запомним.
В предыдущее столетие в среде русской общественности сложилось мнение, что Россия, в отличие от «Европ», не знала рыцарства, была чужда самой его идее и духовной патетике. Мысль эта была в ходу в среде разночинцев, а в аспекте бесчинств XX века приобрела характер не требующего доказательств «общего места». Много своим авторитетом уважаемого историка сделал для её «утверждения» в умах В.О. Ключевский. Ему на смену в чисто идеологической сфере пришёл Николай Бердяев, оформивший эту мысль в манере своего «поэтического философствования» с велеречивостью в виде доказательств: «Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала». Высказав в жанре откровения эту красивую формулу, он поясняет для самых тупых: «С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворённости в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство куёт чувство личного достоинства и чести, создаёт закал личности. Этого личного закала не создавала русская история... Русский человек не ставил себе задачей выработать и дисциплинировать личность, он слишком склонен был полагаться на то, что органический коллектив, к которому он принадлежит, за него всё сделает для его нравственного здоровья... Смирение было единственной формой дисциплины личности. Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться»37. И так далее. Короче говоря, «Будем сидеть на простате По горло в святой простоте» — а в западной публике гонору много!..
«Он сидел и воспалёнными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же: «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...»
Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь — страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя. <...>
Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос... Валяется на полу недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами...»
Это роман. В пьесе Алексей сам вспоминает Достоевского: «Он был пророк! Ты знаешь, он предвидел всё, что получится. Смотри, вон книга лежит — «Бесы». Я читал её как раз перед вашим приходом. Ах если бы могли это всё раньше предвидеть!.. <...> Вот Достоевский это и видел и сказал: Россия страна деревянная, нищая и опасная, а честь русскому человеку одно только лишнее бремя!» Кармазинов, произнёсший у Достоевского эту сакраментальную фразу, в XX веке «пробердел» вдогон: «Русский человек привык думать, что бесчестность — не великое зло, если при этом он смиренен в душе, не гордится и не превозносится... Всякий слишком (? — ОК) героический путь личности русское православное сознание признаёт гордыней38, и идеологи русского православия готовы видеть в этом пути уклон к человекобожеству и демонизму». Ну в общем, чем подлее, тем человечнее; чем вороватее, тем святее.
Этот картавый, брызгающий слюной кошмар привиделся отчаянно сражающемуся в рядах стихийно возникшего ордена Белой гвардии рыцарю, чей прототип и автор писал в эти дни во фронтовой газете: «... Все ждут страстно освобождения страны.
И её освободят.
Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла. <...>
Нужно драться. <...> Мы будем драться» (23\1; 86).
Правда, он предчувствует трагический финал этого героического стояния:
«Кто увидит эти светлые дни?
Мы?
О нет! Наши дети, быть может, а быть может и внуки...»
В качестве «рыцаря Серафимы» он ударяется в бега, вытесненный с родной земли ордами супостатов. И когда изгои возвращаются, они сознательно идут на латентное существование во вражеской среде, приближая по мере сил это светлое время. Рыцарь, наяривающий на балалайке в Париже, ничем не лучше рыцаря, «надрывающего животики» публике фельетонами в «Гудке». Мышлаевский и здесь не превращается в мразь.
А коли так — демонизм, конечно; демонизм и гордыня.
На самом деле всё проще.
На земле живут два разных человечества: человечество стадное, роящееся, массовое — и человечество штучное; из первого выходят банды и их главари, из второго — рыцари и герои. Философские спекуляции на тему этнических обобщений являются знаменитым «попаданием пальцем в небо», могущим потешить лишь самого автора и его семью. Представители штучного человечества разных регионов очень похожи друг на друга, поэтому возможно плеромное мышление и герметическая философия (Гупта-видья). Человечество роящееся разных народов и стран образует не меньшее единство — это демонстрируют Олимпийские игры, Международные фестивали и Всемирные выставки.
Штучность встречается в самых разных слоях населения — «простонародье» в этом смысле не является исключением. Весь фолк всегда — авторское искусство, просто имена авторов не сохранила история. Если имя случайно до нас дошло, возникает полная ясность, что никакого «коллективного» (в муравьином смысле слова) творчества не было, нет и быть не может. И если художественная или гностическая инициатива такого мастера затем мультиплицировалась его соплеменниками, превращаясь в «нижегородскую резьбу» или «городецкую роспись», то это не должно вводить в заблуждение. Творчество Ефима Честнякова чрезвычайно показательно, к нему близки «вышедшие из народа» Борис Шергин и Павел Бажов.
И всё-таки честь, достоинство для простолюдина, пожалуй, слишком недостижимое, экзотическое качество. С другой стороны, к середине XIX века русское дворянство выродилось в нечто сугубо декоративное, увядающе-анахроничное, маргинальное в творческом смысле. Почувствовав это, Достоевский выдвинул «фантастическую идею Ордена чести вместо дворянства»39, которую концептуально изложил устами Версилова в «Подростке»: «Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновлённом виде могло бы удержаться сословие.
Князь оскалил зубы:
— Это какое же будет тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.
Повторяю, князь был ужасно необразован. <...>
— Я не знаю, в каком смысле вы сказали про масонство, — ответил он, — впрочем, если даже русский князь отрекается от такой идеи, то, разумеется, ещё не наступило ей время. Идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому беспредельно, — конечно утопия, но почему же невозможная? Если живёт эта мысль хотя лишь в немногих головах, то она ещё не погибла, а светит, как огненная точка в глубокой тьме»40.
Здесь, безусловно, звучит авторский голос, а идея взлелеяна в самых потаённых святилищах его огромной души. И является она как бессмертная Точка Флоренского, божественная «точка схода» духовных мастеров Возрождения, не понятых «отцом Павлом», но вдохновлявших всю жизнь Достоевского — вспомним о духовном браке его мужественного сердца с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля. Рыцарь Фёдор твёрдо встал в братский круг орденского ансамбля Петрашевского; он безропотно претерпел все испытания после разгрома силами обскурантизма этой светлой дружины. — И не мудрено: вся русская история «сделана» рыцарями. И мифические богатыри, и Ослябя и Пересвет, и Иван IV взятия Казани, и Пётр I Полтавы — только высочайшие пики, а сколько было других!..
Иван Васильевич, вернувшись из казанского похода, заказал икону «Церковь воинствующая», выполненную по его подробным описаниям. Это величайшая в мире рыцарская поэма в живописи41. Воинство, возвращающееся из похода, сопровождается двумя отрядами тонкоматериального потустороннего рыцарства; возглавляет шествие архангел Михаил на коне — патрон и духовный камертон ордена. Эзотерическое богатство иконы выражено в знаковом символяриуме щитов и изображений на них, демонстративно положенных на переднем плане второго, более монументального варианта иконы-картины. Первым и главным среди земного воинства является сам Христос — это проясняется из написанной несколькими годами ранее «Четырёхчастной иконы» Благовещенского собора Кремля, самом мистическом произведении древнерусской живописи. Выполненная по устным указаниям Ивана IV псковскими мастерами икона даёт уникальное изображение Иисуса Христа, восседающего на навершии креста в латах рыцаря (эзотерически рифмующего слово царь в надписи «Царь иудейский» со словом рыцарь).
Содержательное богатство, выход на европейский уровень гностической оснащённости всегда в истории XX столетия совпадали с повышением значения орденской идеологии в социальной жизни стран континента. Мещанство, теплота и уют мало располагают к геройским добродетелям, в том числе и к героизму мысли. Стадо, которому приданы по необходимости, по выражению Пушкина, лишь «ярмо с гремушками да бич», не способно удовлетворить взыскующий взгляд Создателя. «Самостоянье человека — залог величия его», и только оно способно адекватизировать с Небесами. Рыцарство и есть самостояние человеческой воли (героизм), ума (гениальность) и сердца (святость). Тайна трёх, пользуясь выражением Мережковского, и есть Христос, воплощающий в себе все три качества. Значит, погружение в Истину-Христа есть погружение в Тайну, ибо концы рациональных цепей и онтологических связей принципиально положены по ту сторону бытия. Хищные поползновения хамского своеволия — спорадические вспышки «беснования плоти» — доходят лишь до какого-то предела. Беспредельность, свобода, радость — качества, доступные человеку лишь при унисонной связи с Творцом. Русское выражение «человек порядочный» означает по точному переводу слова «человек орденский», и всякое движение в сторону положительных качеств есть восхождение по посвятительной лестнице рыцарских совершенств. Стадо притягательно лишь для тех, кто желает раствориться в коллективной безответственности; всякая ответственность осуществляется индивидуально. Это и есть рыцарское стояние и интеллигентское состояние ума.
Когда Булгаков «с поднятым забралом» писал в письме Правительству СССР о своём «упорном изображении русской интеллигенции как лучшего слоя нашей страны» в «Беге», «Днях Турбиных» и «Белой гвардии», он, по существу, говорил о своём служении сердцем и пером рыцарству и орденской идеологии.
«Умигать — не в помигушки иг'ать, — вдруг, картавя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс42.
Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времён крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.
— Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.
— В гаю, — ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.
— Как странно, как странно, — заговорил Турбин, — я думал, что рай это так... мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаётесь и в раю офицером?
— Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор, — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнём вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.
Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса — чисты, бездонны, освещены изнутри» (43, 52).
Из этого следует, что рыцарь в латах — это человек, окуклившийся перед тем как выпростать из себя ангела. В этой же промежуточной форме происходят в МиМ и финальные трансформации по ту сторону бытия. Причём некоторая ракообразностъ вписывает семантику «рыцаря» в лунную символику созвездия Рак (правильнее Краб, образ полной Луны), хозяйкой которого является Изида, богиня мудрости и мистического покоя. Панцирь Краба и покрывало Изиды обладают идентичными мифологическими функциями, а забрало часто прикрывает лицо мужчины с той же целью, что и вуаль — лицо женщины. Рыцарские девизы целомудренны, как девицы, и турниры — это, конечно, соревнования буй-туров, най-турсов, бой гвоздик и настурций, бледных лилий и роз. Как алхимическое действо невозможно превратить в промышленное производство, так рыцарское братство немыслимо использовать в качестве профессионального войска. Рыцарский турнир — состязание, а не мясорубка, и меч в руках Христа — хирургический нож, а не орудие убийства. Рыскать по свету царской поступью рыси, рисковать собой ради «други своя» вплоть до потери души (по слову Иешуа Га-Ноцри) — вот подлинный пафос и истинная патетика рыцарства.
И «русские мальчики» это усвоили в полноте.
Рыцари 1812 и 1825 годов с честью несли своё высокое звание даже в тяжкие годы предреформенного столбняка; уход Александра, отказ от трона Константина, самоубийство Николая являются лишь детонацией, эхом великой битвы рыцарства с драконом эгоизма, невежества и злобы. Именно у закованного в бронзу Пушкина объединил русское общество Рыцарь Огненного Глагола Фёдор Семипалатинский. Недаром Рыцарь Печального Образа был его любимым героем.
В начале XX столетия на смену рыцарям приходят те, кто умеет рыться, с их весьма специфическим гимном: «Весь мир насилья мы разроем До основанья, а затем, Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем!» Т. е. всем роем разроем, термитной толпой. В то время как легальный марксист набрызгивал слюной свои вышеизложенные энтузиастические опусы о «бабьей душе России», скромный просветитель с характерным именем Иван Иванович Иванов написал и тихо издал книгу «Рыцарь слова и жизни» (М., 1911), посвящённую Сервантесу и его бессмертному роману.
Но каково название!
Ведь это духовная концепция будущего автора МиМ, аккурат поспевшая к его двадцатилетию. И конечно, не прошедшая мимо его внимательного и пытливого взгляда. Более того. Последующие 30 лет, отпущенные ему Высшими Силами на всё про всё, завершились этим Сервантесовским аккордом.
Литературоведы недоумевают, почему Булгаков начал писать свою сценическую версию сходу, не потратив на подготовку — в отличие от «Пушкина» и «Мольера» — ни дня, ни полдня. Всё очень просто. Он был в материале всю жизнь. И вообще он ощущал себя перевоплощением великого испанца, называя его в письмах жене Михаилом Сервантесом.
Врастая в испанский язык, эквилибрируя переводами: Пансо — «пузо» (исп.) и Панса — «мыслящий» (фр.), он создаёт последнему рыцарю единственного ученика из незатейливого подручного материала. Что делать, Дон-Кихоты уходят по ту сторону бытия. На земле остаются Левии Матвеи, Иваны Бездомные и Сергеи Ермолинские. Когда ученическо-учительская нить прерывается (в пределах орденской структуры), бытующая в народе легенда начинает заменять собой эзотерическое предание — чисто орденский феномен. Тогда безудержные «пережимы» и гиперболизации делают историю в глазах толпы абсолютно недостоверной. И говорят снисходительно: сказка, внимая «делам давно минувших дней, преданью старины глубокой». Те, кто похрюкивал сладко под вальтер-скоттовский плеск в середине 30-х, даже не догадывались, что в это самое время в застенках ГПУ за рыцарство ставят к стенке.
«Обвинительное заключение. (9 января 1931 года.)
...Во главе анархо-мистической организации «Орден Света» стоял старый анархист... — Солонович, называемый командором. Члены «Ордена Света» назывались рыцарями. Организация строилась сверху донизу по принципу десяток, и перевод из низовых кружков в вышестоящий производился через «рыцарское посвящение».
Знаки ордена — голубая восьмиконечная звезда и белая роза.
В момент собраний на младших степенях роза лежит на столе, а старших — каждый рыцарь держит её в руке.
Организация ставила своей целью борьбу с Соввластью как властью «Иальдобаофа» (одним из воплощений сатаны) и установление анархического строя. <...>
В книге А.А. Солоновича, нелегально распространявшейся среди членов Ордена, ...высказываются следующие мысли:
«Человек есть «гроб Господень» — его надо освободить новыми крестовыми походами, и должно для этого возникнуть новое рыцарство, новые рыцарские ордена — новая интеллигенция..., которая положит в основу свою непреоборимую волю к действительной свободе, равенству и братству всех в человечестве». <...>
В отобранной... рукописной тетради записаны различные мистические методы посвящения в рыцари Ордена, различные церемонии мистических орденских праздников и различные орденские мистические явления» (37; 261—276).
И так далее — на нескольких листах для вынесения приговора Особым Совещанием.
Из обвиняемых двадцать шесть получили ссылки и концлагеря, четверо расстреляны, трое осуждённых умерли позже в местах заключения. Так был закончен разгром тамплиеров в Москве.
Но и...
Так началось восстание из пепла великого феникса Ми М.
В 1935 году, когда работа была в самом разгаре, Высшие Силы отметили верность в служении молодого мастера43, устроив ему необыкновенную встречу с крупнейшим духовным учителем Запада Антуаном де Сент-Экзюпери. Американское посольство поддерживало русского диссидента; его баловали вниманием, приглашали на приёмы, где он сталкивался нос к носу с номенклатурно обязательными совбоссами и стукачами, приводя первых в раздражение, а вторых в замешательство.
Даже в 70—80 годы, когда мне самому приходилось бывать в подобной ситуации44, такая независимость в рабовладельческом государстве требовала определённого мужества. Каково же было претерпевать это в середине 30-х, можно только догадываться. Однако жене Булгакова, привыкшей к шику и «светскости» (со сквозящей второй буквой о), все эти знаки внимания и своего рода отличия доставляли неизъяснимое наслаждение — она щебетала, купаясь в «жизни званской» с полным самозабвением. Это отразилось в дневниковых записях.
«У Уайли было человек 30, среди них турецкий посол, какой-то французский писатель, только что приехавший в Союз, и, конечно, Штейгер (будущий барон Майгель. — ОК). Были и все наши знакомцы — секретари американского посольства. С места — шампанское, виски, коньяк. Потом — ужин a la fourchette. <...> Мне есть не хотелось. Но Миша-бедняга никак не мог положить себе куска в рот. Так его забрасывала вопросами одна приезжая американка. Француз — оказавшийся, кроме того, и лётчиком — рассказывал про свои опасные полёты. Показывал необычайные фокусы с картами. Я сначала думала, что он вошёл в соглашение с хозяйкой. Но потом, когда он проделал фокус со мной непосредственно, я уверовала. И испугалась — объяснить немыслимо.
Сидели до половины третьего, а потом на машине поехали домой» (22; 566—567, курсив мой. — О.К.).
Встреча произошла 1-го мая 1935 года.
День святой Вальпургии, не омрачённый парадизностью бумажных роз и парада, мягко перешёл в пургаторио вальсов (иллюминация, толпы, радостное оживление), Высшие Силы позаботились на этот счёт.
«Вследствие условий, в которых протекало это путешествие, Антуан, к своему глубокому сожалению, мог очень мало увидеть и даже не попал во время первомайской демонстрации на Красную площадь, так как французское посольство не успело заблаговременно предупредить власти о его прибытии, да и в СССР в это время его ещё никто не знал» (44; 186).
Мало того. Экзюпери вообще был вырван из своего привычно текущего бытия, как по мановению волшебной палочки, и оказался в России так же неожиданно, как и Воланд: «Поездка эта не была подготовлена, и Сент-Экс согласился на неё только в виду большого интереса к советскому опыту» (44; 186). Речь идёт об интересе потомка рыцаря Святого Грааля (44; 8) к русскому рыцарству, испытываемому обстоятельствами на изгиб, на разрыв, на излом. Булгаков был чрезвычайно популярным во Франции автором, а его рыцарский тематизм не мог не привлечь к себе внимания аристократа и рыцаря по крови и по духу Антуана де Сент-Экзюпери. Свидетельство этого знакомства: «Я вспоминаю рассказ жены одного приятеля. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу.
Судёнышко было битком набито людьми. Любой дополнительный груз мог его перевернуть. Оно медленно отходило от набережной. Ещё узкая, но уже непреодолимая трещина пролегала между двумя мирами. Стиснутая в толпе на корме, молодая женщина смотрела назад. Вот уже два дня, как побеждённые казаки откатились от гор к морю и теперь всё текли и текли. Но кораблей больше не было. Достигнув набережной, казаки перерезали глотки своим коням, сбрасывали с себя бурки, бросали оружие и ныряли в море, чтобы вплавь добраться до ещё столь близкого судёнышка. Но люди, которым было приказано не допускать их на борт, стреляли с кормы, и с каждым выстрелом в воде расплывалась красная звезда. Вскоре вся бухта была расцвечена этими звёздами. Но поток казаков не иссякал, с бредовым упорством они появлялись на набережной, спрыгивали с коней, перерезали им глотки и плыли до тех пор, пока не расплывалась красная звезда...» (44; 192).
Что это? — Булгаковский «Бег», кошмарный сон рыцаря Серафимы? Нет, это фрагмент Сент-Эксовского репортажа из Москвы, посвящённого судьбе обрусевших французов, которые вынесли единственное впечатление от переворотов, застигнувших их в России: «революция — это скучно». Да уж, и нарисованный как бы кистью автора «Белой гвардии» эпизод — только он оживляет картину.
Собравшись на поиски «обломков империи», Экзюпери с трудом пробирается по адресу. «Удостоверившись, что это и есть тридцатый номер, останавливаюсь напротив большого грустного дома. Сквозь ворота замечаю вереницу дворов и строений» (44; 187). Убожество, перегородки, грязь.
А вот Булгаковский «№ 1345. Дом Эльпит-Рабкоммуна»: «Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась сто семидесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана».
Номера у домов разные, возможно, разные и улицы и районы, пейзаж же абсолютно один, хотя описания разделяет более десяти лет. Не может быть, чтобы в этом метафизическом пространстве оба духовных мастера не встретились. — Встретились! Перед нами этот необыкновенный след: «За чёрными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики». В знаменитом адском доме на Садовой начинается пожар: «А там совсем уже грозно заиграл да не маленький принц, а огненный король рапсодию» (курсив мой. — О.К.).
В генезисе и генеалогии «Маленького принца» Булгаковский вариант — не первый. Стихотворение Хосе Марти-и-Переса (1853—1895) «Маленький принц»:
Для маленького принца
Затеян этот праздник,
Для маленького принца
С льняными волосами —
Волною по плечам
Рассыпались их пряди...
А тёмные глаза,
Как две звезды играют:
То гаснут, то мерцают,
То вспыхивают ярко.
Он для меня подушка,
И шпора, и корона...
С коварным зверем в схватке
Моя рука не дрогнет,
Но эта же рука
Как воск в его ручонке.
Чуть он нахмурит брови,
Как я уже в тревоге,
Едва слезу обронит,
От страха я белею...
Моё омыто сердце
Его горячей кровью,
И может оно биться
Лишь по его приказу.
Для маленького принца
Затеян этот праздник.
Приди ко мне, мой рыцарь,
Тропинкой заклинаний,
Войди, мой повелитель,
В прибежище печали!
Едва передо мною
Твой образ возникает,
Мне мнится, что звезда
Опаловым сияньем
Печальное жилище
Моё преображает;
И тени отступают,
Пронизанные светом,
Как тучи перед солнцем,
Им раненные насмерть!
Оружья не сложивший,
Я вновь готов сражаться
За маленького принца,
Его большое счастье!
Он для меня подушка,
И шпора, и корона...
Подобно чёрным тучам,
Когда пронзит их солнце
И радужным соцветьем
Их чернота займётся,
Мрак моего жилища,
Пронзённый шпагой принца,
Лилово-алым светом
Мгновенно озарится...
Мой милый принц, ты хочешь,
Чтоб я вернулся к жизни?
Приди ко мне, мой рыцарь,
Тропинкой заклинаний,
Войди, мой повелитель,
В прибежище печали!
Смерть за тебя приму я
Как высшую награду...
Для маленького принца
Затеян этот праздник.
В балладе-посвящении кубинского «борца за свободу» есть и рыцарские аллюзии, и шпага, с чем будет рисовать своего героя Антуан де Сент-Экзюпери в своей знаменитой сказке, написанной, возможно, не без влияния Хосе Марти. Но каким образом маленький принц оказывается в огненном нутре печурки, через мгновение ставшей причиной пожара и гибели знаменитого дома-ковчега, остаётся загадкой. Буржуйку установила, вопреки строжайшим запретам, в своём закутке небезызвестная Аннушка-чума, и это перед ней, сующей в открытую дверцу выломанный из пола паркет, является размахивающий огненным мечом маленький рыцарь возмездия и справедливости. Ласковой патетике Марти и Экзюпери противопоставлена отчаянная радость заклинания «Огнём Обновляется Вся Природа».
«Уже давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо всё висело на небе. Всё дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от чёрной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.
Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слёзы высохли.
Подперла голову и отчётливо помыслила в первый раз в жизни так:
— Люди мы тёмные. Тёмные люди. Учить нас надо, дураков...» (23/1; 208—209).
И вдруг — озарение: ведь «Маленький принц» Экзюпери был написан в 1942 году на фоне пожара Второй мировой войны! И вслед за ним пророк и проповедник «руми Антуан» пишет огненное же «Воззвание к французам», принимая завет русского духовного мастера. В идеологическом смысле — это копия Булгаковских «Грядущих перспектив».
Такой унисон не мог не сказаться во время встречи. Внимательно слушал Булгаков и рассказы француза о полётах, и намёки на использование самолёта для крупномасштабного осмысления мира.
Именно после знаменательного общения исчез из черновиков Романа следующий пассаж главы «Полёт»:
«Предалась размышлениям о летании и очень осудила аэропланы и под свист разрываемого воздуха беззвучно посмеялась над человеком, который летает в воздухе воровато, норовя пронырнуть повыше и поскорее в воздухе, ежесекундно опасаясь полететь вверх тормашками вместе со своей сомнительной машинкой или вместе с нею же сгореть в высотах, куда его никто решительно не приглашал подниматься» (6; 182).
Ещё бы! Перед ним сидел тот, кто, по выражению одного из современников46, был «велик и гениален», и кто был «чистейшим из людей».
Можно представить их прощальное рукопожатие. Другой приятель Экзюпери вспоминал: «Он был в полном смысле слова человеком. Таких мало. Но он им был естественно, без всякого напряжения, в силу природного таланта... Пожатие его руки всегда превращалось в событие. Заметишь его, подойдёшь, наберёшься новых идей — и ты счастлив. Да, таков был этот единственный в своём роде человек!..»
И Сент-Экс получил после встречи-сретения новый импульс к дальнейшему осмыслению мира: с 1936 года он начинает свою великую «Цитадель».
Значит, МиМ, «Иисус Неизвестный», «Иосиф и его братья», «Игра в бисер» и «Цитадель» пишутся одновременно, на фоне удушающих деспотий тоталитарных режимов и безумия мировой войны, противостоя им и являясь единой рыцарской духовной контртезой. Воистину, «как мало шума производят подлинные чудеса! <...> Тоталитарная тирания могла бы обеспечить удовлетворение наших материальных потребностей, но ведь мы не скот, предназначенный на откорм. Благополучие и комфорт не в состоянии полностью удовлетворить все наши запросы. Для нас, воспитанных в культе Человека, огромное значение приобретают простые встречи, которые превращаются иногда в замечательный праздник...
Уважение к человеку! Уважение к человеку! Это и есть краеугольный камень! <...> Порядок ради порядка оскопляет человека, лишает его основной силы, заключающейся в том, чтобы преображать мир и самого человека. <...>
Никто из нас не обладает монополией на чистоту помыслов. Я могу оспаривать во имя своего пути направление, которое избрал другой. Я могу критиковать ход его мыслей. Ход мыслей не есть нечто бесспорное. Но я должен уважать этого человека, если он прокладывает путь в направлении той же звезды.
Уважение к человеку! Уважение к человеку!»47
Под этими словами могли бы подписаться все пятеро духовных мастеров.
По сути, «в политике есть смысл лишь постольку, поскольку она служит какой-то бесспорной духовной истине». Но политика никогда не служит Истине, она служит манипуляции человеческими стадами и благополучию господ политиков. Политики говорили небрежно об этом «чистоплюе» и «абстракционисте»: «Он хорош только на то, чтобы показывать карточные фокусы». Такой же вердикт был вынесен ими и по поводу остальных.
Все эти выдающиеся умы Европы были озабочены в предвоенные, а затем и военные годы вопросом, сформулированным Экзюпери: «Что можно, что нужно сказать людям?» И каждый из них поставил «планку» намного выше своего «личного рекорда». «Моя цивилизация — наследница Бога»48, и не соответствовать ей — значит подвести самого Творца. Все пятеро превзошли «самые смелые ожидания».
Последнее время меня не оставляет мысль: в образе лиса-фенька из «Маленького принца» запечатлено, возможно неосознанно, то «что-то лисье», что чувствовали в Булгакове многие его современники. Возникшая взаимная молния симпатии (не потому ли истинный шевалье Сент-Экс так направленно развлекал фокусами и рассказами именно его жену) обязана была войти глубоко в душу каждому из двух титанов духа. Мягкость и деликатность французского мастера могли напомнить Булгакову ушедшего с земного плана Максимилиана Волошина с его идеальным французским языком и огромной французской библиотекой по эзотерике. Рыцарственный облик и манеры, рыцарское служение посланца родины Жака де Моле должны были особенно пронзить сердце русского заложника режима, тем более что «для контраста» на вечере присутствовал «барон Штейгер — непременная принадлежность таких вечеров, «наше домашнее ГПУ», как зовёт его, говорят, жена Бубнова» (4; 97). Вот почему «означенный барон» под фамилией Майгель оказался достоин казни49. Инициативу автора МиМ поддержали «по представлению наверх» и Небеса, ибо через несколько лет барон действительно был расстрелян как один из подручных Енукидзе. Так что «сон в руку — пуля в лоб».
По дороге в Москву Экзюпери сделал наброски заключительной главы «Земли людей», текст замечательной книги вчерне был закончен. И если учесть, что этим словосочетанием древние египтяне называли свою страну (подразумевая, что вокруг неё живут дикари, некая двуногая нелюдь), а текст писал египтянин (так называли Антуана друзья и знакомые за смуглый цвет кожи), то привет от египетских магов Булгакову прозвучал достаточно внятно. Кроме того, сакраментальный вопрос «Ты как это делаешь?», которым прокуратор пытает Иешуа, это, конечно, тот самый вопль, который стоял над столом, когда под руками французского мага исчезали и возникали карты.
Отсюда следует главный вопрос-догадка: «Ты был в Египте?»
На него можно было не отвечать, ибо ответ был налицо, т. е. на лице.
И осаждаемый своей назойливой собеседницей, Булгаков думал, время от времени бросая взгляд на заезжего гостя: «Боги, какая улыбка!»50
Булгакову, как он ни рвался, не удалось побывать в Париже. Ну что же... Тогда Франция поднялась и приехала на встречу к нему.
Понял ли он это?
В конце концов, думаю, да.
Главное: путешествуя мыслью в мире идей, архетипов и первообразов, Булгаков получил надёжные ориентиры. «Медленно развиваясь наподобие дерева, жизнь передавалась из поколения в поколение, и не только жизнь, но и сознание. Какая удивительная эволюция! Из расплавленной лавы, из звёздного вещества, из чудом возникшей живой клетки появились мы, люди, и мало-помалу достигли в своём развитии того, что можем сочинять кантаты и взвешивать далёкие светила... Процесс сотворения человека ещё далеко не закончился».
Это «Земля людей». А кажется, что это развёртка Булгаковской излюбленной «Великой Эволюции», на верность которой он присягнул в письме к Правительству. И в той же тональности писал Экзюпери в военные годы: «Я совершенно чист душой. <...> Меня ничто больше не интересует, абсолютно ничто, только качество внутренней субстанции человека. <...> Добродетель — летать с обнажённой душой, учить читать детей. Добродетель — простым плотником принимать смерть. <...> Наплевать мне, что меня убьют на войне!» (44; 446—447)
Это уже голос Джордано Бруно, Томазо Кампанеллы, Жака де Моле.
А четырьмя годами ранее умирающий Булгаков немеющими губами говорил: «Может быть это и правильно... Что я мог бы написать после «Мастера»?...»
Спасибо четвёртому измерению — времени: Булгакову и Экзюпери удалось встретиться по сю сторону бытия. Но настоящая «роскошь человеческого общения»51 ждала их в пятом измерении, о котором так настойчиво и проникновенно говорил Булгаков на страницах своего великого Романа. Фантасмагория земного бытия уступала место спокойному величию бытия надмирного.
Пока же события развивались с неправдоподобной эксцентричностью. Так, в 1928 году Булгаков писал Замятину:
«Человек разрушен.
К той любви, которую я испытываю к Вам, после Вашего поздравления присоединилось чувство ужаса (благоговейного).
Вы поздравили меня за две недели до разрешения «Багрового острова».
Значит, Вы пророк.
Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать. Написан «Бег». Представлен.
А разрешён «Багровый остров».
Мистика.
Кто? Что? Почему? Зачем?
Густейший туман окутывает мозги» (2; 136).
«Багровый остров» был поставлен в Камерном театре А.Я. Таировым. В этой же «Коробке Чудес» шли, усиливая общий сюрреалистический градус, «Принцесса Брамбилла» и «Синьор Формика» по Э.Т.А. Гофману и «Человек, который был Четвергом» по Г.К. Честертону. Если же учесть, что Камерный театр помещался стена-в-стену со знаменитым «Грибоедовым» (реально — Дом Герцена), то алхимическая смесь становится взрывоопасной. Не от пожара ли «Грибоедова» окрасился Булгаковский остров в багровые тона? Не мимо ли Камерного театра подходили к ограде массолитовского заповедника Коровьев с Бегемотом, заговорщицки перешёптываясь, как робинзоновский Пятница с Человеком, который был Четвергом? «Дело было в Грибоедове» или дело в шляпе, шляпе волшебника?52
Находясь в «возрасте Христа» и заканчивая свой первый роман, Булгаков торжественно обещал: «Смею уверить, это будет такой роман, что от него Небу станет жарко». После фиаско с публикацией последней части в журнале «Россия» МАБ не опускает руки.
25 марта 1927 года Александр Тихонов — он незадолго до этого вёл переговоры с Булгаковым по поводу издания «Белой гвардии» отдельной книгой — пишет Максиму Горькому в ответ на его запрос, «окончательно ли Булгаков запрещён к «богослужению»»: «Работает над романом «Белая гвардия» — переделывает почти заново» (43; 226). Переделки эти согласно найденной недавно последней главе должны были довести количество глав романа до двадцати одной. «В машинописи цифра 21 (порядковый номер последней главы. — ОК) даже подчёркнута автором» (43; 274). Между тем предыдущая глава обозначена как девятнадцатая; пропущенная 20-я глава, скорее всего, должна была быть занятой рассказом «Налёт», два фрагмента которого вошли в журнальную публикацию романа. Педалирование Булгаковым цифры 21 означает его интерес к «таротному числу», взятому пока в популярной форме игры в очко. Вид, который приобретает роман с новонайденной главой, достаточно своеобразен: финал «Белой гвардии» представляет цепь снов, где миражи и явь переплетаются в сложнейшую «двойную спираль кадуцея». Отсюда проистекает чисто сонная структура «Бега» (восемь снов), органично связывающая оба произведения в единый комплекс, причём карточный числовой мотив кульминирует в сцене игры в девятку Чарноты и Корзухина.
И выясняется интересная подробность. В тамплиерском кругу был человек, написавший о сне и сновидениях одно из самых концептуальных дореволюционных сочинений. Это физиолог М.И. Сизов, чья книга «Сновидения» вышла в Петрограде в 1916 году. Тридцатидвухлетний учёный писал: «При пробуждении первобытный наблюдатель находил себя снова на земле, среди прежних бодрствующих людей и среди такой же неизменной, окружающей его, как и раньше, природы. Но он ясно помнил, что в состоянии сна он плыл по неизмеримым тёмным волнам пылающей бездны. Естественно, что живая память о ночных видениях, заслонив своею яркостью не только разрешение вопроса о состоянии сна, но даже и о причине сновидений, заставила этого наблюдателя твёрдо уверовать в действительность грёз, в существование особого мира, посещаемого человеком во время сна. <...>
Первобытный человек, уже на заре своей более или менее осмысленной жизни, ухватился за такое раздвоение человеческого существа для истолкования «тайны тайн» — смерти. Допустив, что душа человека блуждает где-то во время сна, первобытный философ вполне естественно нашёл сходство между состоянием сна и смерти. Сон — это временная смерть, а смерть — долгий непробудный для тела сон, когда наше внутреннее Я, наша душа путешествует по «пылающей бездне» сновидений».
Познакомиться с книгой выдающегося русского антропософа, тамплиера и розенкрейцера Булгаков мог всё в том же обычном пречистенском братском кругу. Один из плеяды русских учеников Р. Штайнера, М. Сизов, строивший вместе с М. Волошиным, А. Белым и Эллисом Гётеанум в Дорнахе, пользовался в этой среде непререкаемым авторитетом. Научная точность и поэтическая глубина его книги могли вдохновить Булгакова не менее чем «Мнимости в геометрии» Флоренского. Сон, грёза, забытьё, наваждение прописаны им в произведениях с максимальной спецификацией и чрезвычайной выразительностью. Достаточно вспомнить «сон Никанора Ивановича», занимающий в МиМ целую главу и отделанный в смысле словесного мастерства и физиологической основательности с ювелирной тщательностью.
Вероятно, Булгаков был знаком с фрейдистским «толкованием сновидений» благодаря активной пропагандистской деятельности русского ученика и продолжателя австрийского учёного Ивана Ермакова. «Психоаналитическая библиотека», издаваемая им, включала и написанные им самим интереснейшие «этюды по психологии творчества» А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Так что научный фон, на котором Булгаков возводил свои ажурные «соборы» (недаром Гоголь называл мастеров отечественной словесности великими зодчими), подвигал его идти выше и дальше, не позволял топтаться по-свински во мраке собственного невежества, что было характерно для массолитовских борзописцев. Так, криминальная фраза «с такими свиньями никаких революций производить нельзя», выкидывавшаяся из всех ранних изданий «Белой гвардии», развёрнута в 21 главе в целое видение-сон: «И вот, в этот... миг какие-то розовые круглые поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные — у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причём подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Чёрным боковым накрыло поросят, они провалились в землю...» (43; 256). Это по поводу «Весь мир насилья мы разроем...»
Сон как инерционная форма раскрученного за день «колеса» интеллектуальной активности привлекал Булгакова в качестве способа наведения образных мостов между двумя мирами53. Спёртое пространство реальности иногда может быть развёрнуто в потустороннее без особых трудов. «Сонная одурь» есть умышленный бытовой аутизм по отношению к миру зла и юдоли. Кроме того, сон нужен для исполнения желании: мы владеем, властвуем и потребляем то, что не даётся нам в руки в натуре. Иногда сон носит характер мистической прогностики; это своего рода «усики», которыми мы ощупываем пространство событийности прямо пред собой. Для более внятного прочтения целого сон «развинчивается» на составляющие элементы и затем, прибегая к помощи символяриумов-сонников, составленных «опытным путём» и прихотью интерпретатора (вторую половину слова в этом случае правильнее читать, как переставень), составляется «букет значений», подлежащий, в свою очередь, окончательной истолковательной оценке. «Дедушка» Крылов со своей незлобивой масонской усмешкой спародировал процедуру («говорила про це дура») в своём ироикомическом соннике:
Кто видит льва, разинувшего пасть —
Тому судьба в полицию попасть;
Кто видит ласковую кошку —
Того уж изведут, беднягу, понемножку;
Блины — к болезни, зеркало — успех;
Заря нам предвещает смех;
Застава — тщетное желанье;
А плёточка сулит венчанье.
Приснится ласточка — к весне,
Приснятся тучки — быть ненастью;
Меня увидите во сне —
Так это уж, наверно, к счастью.
Расхристанный басенный раёшник, которым добродушно и не спеша изъясняется Иван Андреевич, сменяет чеканная и стремительная онегинская строфа, в которую упаковывает Пушкин фантасмагоричный сон Татьяны.
«После пробуждения Татьяна берёт книгу своего любимца Мартына Задеки — толкователя снов. В этой книге издателя сонников, названного Пушкиным иронически «главой халдейский мудрецов»,
Татьяна в оглавленьи кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ворон, ель,
Ёж, мрак, мосток, медведь, метель,
И прочая» (Сизов М.И. op. cit.).
На фоне ординарных сновидений, интерпретация чего носит характер локальной прогностической лоции, выделяются сны с особым значением, угадываемым априори, «сны вещие». И у герменевтов открываются возможности для проявления подлинного пифийского вдохновения и профетической велеречивости. В этом случае основной метод — «символическое толкование сновидений, каким воспользовался библейский Иосиф для объяснения сна фараона. Семь тучных коров, после которых появилось семь тощих, пожравших первых, являются символическим замещением предсказания о семи голодных годах в Египте, которые поглотят весь избыток, созданный сытыми годами.
По такому же символическому методу создано поэтической фантазией большинство искусственных сновидений и мифов, так как они передают мысли поэта-автора в замаскированном виде, приспособленном к известным особенностям наших сновидений. <...>
Символический метод толкования сновидений не отрицал пророческой роли последних и побуждал найденный смысл сновидения излагать в будущем времени. Успех такого толкования зависел в каждом случае от остроумия и таланта толкователя» (Сизов М.И. op. cit.).
Булгаков в «Белой гвардии» использует художественную выразительность снов и сновидений в полноте.
«В тёплых комнатах поселились сны. В своей комнате спал старший Турбин. <...> Сон развернулся во всю. <...> Был он в своей страшной ясности — сон вещий.
Была какая-то скверная ночь. Понимаете, ночь, а видно, как днём. И в то же время темно. И вот крадётся, крадётся Алексей по ступеням этого лучшего в мире садика к флигельку. Крадётся за неизвестным человеком; у человека прекрасный соболий воротник, дорогое пальто, ноги в гетрах. И мелькает странно временами бок лица. Будто на нём чёрные баки, чёрные баки у ненавистного Онегина. Крадётся Турбин, полный злобы, подозрения и отваги, и верный браунинг у него в кармане... Ах, если бы разглядеть лицо этого проклятого человека! Но лицо не даётся. Не даётся. Нет у человека лица. О, сны вещие! Ой, слушайтесь снов. Если кто скажет, что «Верить снам позорно и смешно», ой не слушайте. Вещие сны бывают» (43; 254).
Дело не в том, что вещие сны бывают. Дело в том, что они сбываются. Тогда такой сон является вестью из будущего. И если он ангелический (от вещий — вестник), то только потому, что предвозвещает почти всегда нечто отрицательное, тяжёлое, гнусное. Это своего рода взывающий к осторожности «сигнал из завтра» в безмятежное и расслабленное сегодня.
И хотя портрет фантома списан с реального прототипа — В. Б. Шкловского, удивительно, своими онегинскими баками он делает сон Алексея Турбина дубликат-модификацией сна Пушкинской Татьяны. Конечно, у старшего Турбина не было времени заглядывать в писанину «цадика Мартына»54, да в этом и не было нужды: продиктованный ему ревностью рисунок видения прозрачен для истолкования. Просто он даёт случиться тому, чему по какой-то причине не позволила состояться реальность. Сны финала «Белой гвардии», плавно переходящие в сны «Бега», есть реализация неких несостоявшихся по жизни возможностей, начертанных без выхода за пределы физических законов и других абсолютно естественных «условий игры».
Призрачность и эфемерность нахождения в пространстве сна позволяли героям произведений пребывать в альтернативной среде только в состоянии летаргии, полуобморока, латентности. Действительно, какое существование ждёт в «совейской стране» братьев Турбиных, Карася, Шервинского, Елену, Лариосика? Если не сразу же погибнуть под колёсами нового социального механизма, то — замолкнуть, залечь на дно и пережидать, пережидать, пережидать... «Перекраситься», сменить повадку и походку едва ли получилось бы даже у тех, кто захотел бы это сделать55.
Исповедь «Мышлаевского» мы уже слышали.
В связи с этим, если эта реальность находится «в активном залоге» и выход сюда обрекает на пассивность, неприятие средой и всяческое отчуждение, то остаётся всего одна возможность: выскользнуть в реальность другую — в неотмирное, трансцендентное.
Пунктир из цитат двух упомянутых произведений:
«Рыцарем надо быть», — внушает Мышлаевский Николке на пороге полной «смены декораций» (43; 220).
Что ж, на сцене появляется «рыцарь Серафимы», правда, ещё приват, т. е. «частный», и ещё до-цент, т. е. как бы «не-досотник», но уже (при чужой жене) кавалер, хоть всегда (при чужой стране) недотёпа.
Вот откуда взялся Мастер!
Это приват-доцент истории Голубков, забросивший указку ради пера при первых раскатах НЭПа.
«Нет, задохнёшься в такой стране и в такое время. Ну её к дьяволу! Миф» (43; 56). — Вот именно. Именно так. Реальностью являются события двухтысячелетней давности, а точкой отсчёта этой реальности — фигура пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата, «ахилесова пята истории».
Почему?
Только он «держит» реальность новозаветной истории; личность Иисуса Христа уже тогда зыбилась и ускользала от протоколирующего взгляда в своей неотмирности. Христианство последующих столетий не сделало Его более «отмирным», не считать же в качестве Него многочисленные Его парсуны, имеющие вполне утилитарное назначение. Гордыня «мира сего» своей достоверностью как раз во времена прокураторства Пилата была подвергнута капитальной дискредитации.
И сделал это Иешуа Га-Ноцри.
На протяжении прошедших столетий выработалось два совершенно разных подхода к этому уникальному феномену человеческой истории.
Один основан на говорении о Нём и каждении Ему с взаимной трансцендентностью кадящего и «объекта каждения».
Другой заключается в уподоблении Ему, как единственному пути духовного становления человека, т. е. преодоления изначального и, как выясняется, стадиального человеческого скотства.
Первый положен на Его смерти и потому Его принципиальной смертности — а значит и причастности к Нему человечества, поскольку оно что-то с Ним сумело сделать.
Второй основан на Его категорической бессмертности — появление Его на Земле и исчезновение с неё могут быть описаны только в понятиях приход и уход. В этом случае причастниками Ему являются не те, кто Его «убили», а те, кто Его любили. В Новом Завете они имеют точное наименование — мужи благоговейные (Деяния 8, 2) и составляют Тайный Апостолат Христа, состоящий из представителей штучного человечества, которые изначально ждали Его (Симеон-Богоприимец), вышли приветствовать Его ещё до рождения (три волхва), жаждали Его проповеди и даже простого присутствия (Авгарь) и которые абсолютно непричастны к Его распятию.
Только с этими людьми Ему приятно было общаться на земле, только им Он давал свою твёрдую пищу.
Из всех представителей Тайного Апостолата самая драматическая судьба у Понтия Пилата: он был весь на виду и не мог действовать по прихоти. Мастер оставляет ему только возможность возмездия. Но с ним единственным интересно и важно беседовать Иешуа; в отличие от Левия Матвея он не раб, он, претерпевший справедливую епитимью и тем самым очистившийся, — сын божий и поэтому с Сыном Божьим способен на контакт. Если бы он не сплоховал, он имел бы это удовольствие, эту радость на «дважды двенадцать тысяч лун»56 раньше.
Спасовавший перед лицом обстоятельств Мастер, создав своим alter ego опростоволосившегося в ещё более ответственной ситуации Пилата, признаёт наличный уровень совершенства недостаточным для единобеседования с самим Планетарным Логосом. Плоть немощна, дух же бодр; в их случае только плоть, пропитанная насквозь духом, полагается единственно сподобленной звания человека — для них, рыцарей, единственно возможной. Только в этом состоянии они достойны, а потому и способны общаться со своим великим собеседником.
Сон покидает человека, оставляя его с «кессонной болезнью» слабости, апатии и уныния. Голубков пасует перед напором бытия, превращаясь в «бесплатное приложение» к избалованной дамочке; Мастер (Голубков № 2) получает уже состоявшееся художественное творчество, прибавляя к готовому роману необременительную возлюбленную, впрочем, и необязательную, и только Воланд со свитой вносят разумность и гармонию в их зашедшие в тупик отношения. Ибо рыцари по существу «добивают» до совершенства рыцарей по возможности57.
Подходящим материалом для дьявольской команды оказывается только один «Голубков-духосвятский», ибо всё остальное — слякоть недочеловечества. Т. е. ни самостояния — ни величия.
Когда «плоскотики» истерически кричат: «Нет выхода, нет выхода!» — тычась лбами в стены замурованного лабиринта, они забывают взглянуть вверх и увидеть, что над узилищем нет крыши! Однако этот простой и естественный путь им-то как раз и недоступен.
Да, ситуация на земле такова, что выход вверх является единственной возможностью. Это выясняется после того, как «шаг в сторону» Голубкова оказывается faux pas. Тот, кому необходимо решать проблемы по вертикали не может заменить их фортелями-хитросплетениями по горизонтали.
Рыцарям хитрить не дано.
Им остаётся только одно — ставка на Бога, говоря известной максимой Паскаля.
Вот почему Булгаков — умозрительный Голубков — начинает после окончания «Белой гвардии» собирать материал для «романа о Боге и дьяволе».
Вторая половина темы как-то уже была освоена. «Дьяволиада», давшая название и его единственной вышедшей на родине книге, прочно закрепила за Булгаковым звание первого дьяволописца страны. Настало время резко «повысить планку» — одной гофманианы оказалось мало.
Что касается первой половины темы, то в советской литературе он сделался первооткрывателем. Эпические рельсы текста, в котором раскрывались судьбы народа в XX веке, пройдя через медиативное чистилище изгойничества («Люська. Но если кого ненавижу — это себя, тебя и всех других русских! Навоз! Изгои! Гнусь!»), вышли в пространство решения судеб личностей, коих в Москве 20-х годов насчитывалось на поверку всего две. И не эротика-любовь, а раритетность прибила их в конце концов друг к другу. Образовавшийся путём божественного вмешательства андрогин уже оказался способен на вознесение. Какой колоссальный путь пройден от неустойчивой, на постоянной грани отчаяния пары возлюбленных «Бега» («Люська. Прощай, Сима! С этими молодым человеком ты не пропадёшь, если он тебе, конечно, не перережет глотку...»)! Мастер, желая спасти возлюбленную, уходит, не задумываясь, кому она достанется и что с нею станется вообще.
Мистическое пробуждение ото сна обладает своей духовной спецификой. Нирваническое безразличие к судьбам посюсторонности, включая и свои собственные, отличает героев МиМ от их предшественников. Отчалив некогда на кораблях блуждать по миру, персонажи «Бега» судорожным рывком возвращаются вновь в ноев ковчег отечества. Что с ними будет дальше, не обсуждается; это кажется им преизбыточной и праздной маниловщиной.
Вернуться же им позволено как аутсайдерам главных эпических событий (в отличие от героев событий Чарноты и Хлудова). За это, в лучшем случае, расплачиваются немотой и тараканьим существованием (вспомним хлудовское «шур-шур, мур-мур» и ведро в финале). Если, конечно, речь не идёт о сексоте или предателе. Из дневника Елены Сергеевны:
«14 декабря 1934
Оказывается, что Анатолий Каменский58, который года четыре назад уехал за границу, стал невозвращенцем, шельмовал СССР, — теперь находится в Москве!
— Ну, это уже мистика, товарищи! — сказал М.А. <...>
15 января 1935
Днём в вестибюле филиала [МХАТ] М.А. окликнул и потом подошёл к нему Анатолий Каменский. Болтлив. М.А. слушал молча, изредка односложно отвечая. Из рассказов А. Каменского: был в Париже на спектакле «Белая гвардия». Когда актёры начали петь «Боже, царя храни...», публика встала. «Не встали только Милюков и я».
22 февраля 1938
М.А. ходил на Арбат... — говорил, что видел... Анатолия Каменского. Тот сказал, что написал об эмиграции и добавил: в своём роде — продолжение «Турбиных» (!)».
Поэтому, проскочив в романтическом разгильдяйстве «каменско-лежневское» слободное житие, Голубков со своей «шестикрылой» мгновенно оказался на родине в стане «внутренней эмиграции». И через некоторое время реальному Голубкову-Булгакову выговаривалось «доброхотами» так (дневник Елены Сергеевны, 15 мая 1937):
«Днём был Дмитриев.
— Пишите агитационную пьесу!
М.А. говорит:
— Скажите, кто вас подослал?
Дмитриев захохотал.
Потом стал говорить серьёзно.
— Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались! Это глупо!»
А за неделю до того, 9 мая: «Вечером у нас Вильямсы и Шебалин. М.А. читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе. Понравилось им бесконечно...
11 мая. ...Вечером к Вильямсам. Петя говорит — не могу работать, хочу знать, как дальше в романе. М.А. прочитал несколько глав. Отзывы — вещь громадной силы, интересна своей философией, помимо того, что увлекательна сюжетно и блестяща с литературной точки зрения».
Первое публичное чтение Романа. Елена Сергеевна называет его в дневнике «О Христе и дьяволе». Самые первые слушатели. В уже упомянутый день 15 мая Елена Сергеевна записывает: «Вечером — Ануся, Петя, Дмитриев. М.А. читал дальше роман. Дмитриев дремал на диване, а мы трое жадно слушали».
Каждый в своём амплуа. Двое близких друзей собранны, напряжены — чтение может стоить свободы, а то и жизни. Сексот мирно дремлет: он присутствует (пришёл второй раз — так надо), но расслаблен — ему ничто не угрожает. А вскоре произошло и разоблачение — прямо по Воланду.
«19 июня 1939
После спектакля к нам пришли Дмитриев и Марина. И я и Миша разговаривали с ним резко и начистоту. Да, он окончательно расшифровался. Как наивно мы обманывались с Мишей много лет! Человек, который думает только о себе, а на всех людей смотрит только с точки зрения, какую из них можно извлечь пользу».
Между тем «молния наверх» уже пошла.
«12 мая 1937
М.А. сидит над письмом к Сталину».
Т. е. выход из окопов в полный рост.
«12 мая 1937
Утром телефонный звонок — Добраницкий59. Я сказала, что М.А. нет дома.
— Тогда разрешите с Вами поговорить?.. У меня есть поручение от одного очень ответственного товарища переговорить с М.А. по поводу его работы, его настроения... Мы очень виноваты перед ним... Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь в лице Киршона, Афиногенова и других специально дискредитировала М.А., чтобы его уничтожить, иначе не могли бы существовать как драматурги они... Булгаков очень ценен для Республики, он — лучший драматург...
14 мая 1937
Вечером — Добраницкий. <...> Тема Добраницкого — мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие, как Киршон, Афиногенов, Литовский... Но теперь мы их выкорчёвываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматический фронт. Ведь у нас с вами (то есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема — «Родина».
Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М.А. и не добивался узнать».
Но Голубков, как и Крапилин, заносится в гибельные выси.
«23 сентября 1937
У М.А. ...начинает зреть мысль — ...выправить роман («Мастер и Маргарита»60), представить его наверх».
Он весь — в пятом измерении. С этого момента работа над Романом не прекращалась до полного завершения произведения.
«...И победим и взлетим», — как подписано на итальянском издании «Белой гвардии», подаренном Елене Сергеевне.
Пятое измерение — птичье пространство, главная птица там — Роах Элохим, Дух Господень. Это — самое место для Голубкова.
Итак,
ПЯТНИЦА.
Примечания
1. Ударное дурылинское четырёхкнижие, фиксирующее эту идеологию: «Рихард Вагнер и Россия. О будущих путях русского искусства», М., 1913; «Церковь Невидимого Града. Сказание о граде Китеже», М., 1914; «Град Софии. Царьград и Святая София в русском народном сознании», М., 1915; «Сказание о невидимом Граде Китеже», М., 1916.
2. Заведение это, не получив санкции на арест писателя от верховной власти, постоянно насыщало его «дело» все новыми и новыми бумагами, коих сохранилось так много, что сейчас булгаковеды, допущенные в это заведение, в поте лица трудятся над их освоением, и конца этой работе не видно» (16; 143).
3. Достаточно вспомнить гениальное стихотворение «Слово».
4. Ad omnia — для всего; обычно означает в педагогике полную готовность выпускника по всем предметам.
5. Для беспартийных подскажем, что значит это; Сохраняя форму, тем самым спасаем душу. (Р. Люллий)
6. Из более мистической первой редакции.
7. О натурщиках и о «крови» в статье Шапошникова сказано очень мощно (с. 78—79, 85).
8. См. сборник «Образ поэта: Макс Волошин в стихах...», Феодосия, 1997.
9. Я не комментирую это М после его манифестированности в Романе.
10. Берётся латинское написание второго имени, поскольку немецкое происхождение иностранного специалиста остается проблематичным, предположительным и прикровенным, а его ученая латынь самоочевидной.
11. А уж, вероятно, от дедушки и от Бегемота унаследовала свой непревзойдённый па-д-ша замечательная балерина Екатерина Максимова, внучка Густава Шпета.
12. Кстати, первое название романа Булгакова «Записки покойника» явственно перекликается с развёрнутым названием диккенсовского шедевра, горячо им любимого.
13. Б. Соколов в «Булгаковской энциклопедии», по которой цитируется текст статьи, делает в этом месте примечание: «В действительности Таиров всячески стремился завуалировать данный мотив».
14. Выделенные мной жирным шрифтом две характеристики Булгакова делали его автоматически предметом общей ненависти МАССОЛИТа.
15. В своей патетической «алисологии» Гроссман старался превзойти самого Льюиса Кэрролла.
16. Формула приводится по изданию: М., 1991, «Лазурь», с. 49.
17. Павел Александрович заслужил в интеллигентских кругах прозвище-титул «русский Леонардо».
18. Через месяц за «криминальную фамилию» она была оттуда уволена.
19. Взыскующие Града. М., 1997; 174.
20. В том числе и предательства, подлости — в скобках ядовито замечает комментатор (5; 393).
21. Первая — обязательная — лекция называлась «Космологические антиномии».
22. Вот откуда Булгаковское «соткался».
23. Следует особо отметить содержащийся в «робости» собор, что, конечно, не прошло мимо внимания адресата.
24. Анекдот:
— Лев Давыдович, как ваше здоровье?
— Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет». «Троцкий теперь пишется Троий — ЦК выпало» и т. д.
25. В письме Билль-Белоцерковскому (соч. т. 11, с. 327).
26. Любопытно, что публикацию данной статьи в ежегоднике «Памятники культуры: новые открытия 1982», Л., 1984. произвела почти через 60 лет та же Е.А. Некрасова.
27. Этот вечер прошел 1 марта 1926 года.
28. И сейчас «достоянием гласности стали лишь отдельные агентурно-осведомительные сводки на Булгакова. Наиболее важные материалы до сих пор не открыты и едва ли будут открыты в обозримом будущем» (16; 406).
29. Одна из агентурно-осведомительных сводок 1927 года: «Булгаков в писательских кругах вращается весьма мало, не появляется и для чтения своих произведений... Большей частью бывает в тесных семейных кругах бывшей аристократии. Среди «бывших людей» он в большом почёте. В редакциях Булгаков также почти не бывает. Установить фамилии и адреса лиц, у которых Булгаков бывает завсегдатаем, пока не представляется возможным» (16; 168).
30. Кстати, на рукописи первого варианта пьесы стоит: «Начато: Осень 1929, Москва».
31. Le Cabale des dévots (1627—1666) — Кабала святош или Черная Кабала. В русских мольероведческих трудах, известных Булгакову, «слово «Le Cabale» переводилось или прямо «кабала», или с тем, чтобы подчеркнуть террористическую сущность этой организации, «заговор» и даже «шайка»» (31; 145).
32. Обратите внимание, что более всего Булгакова угнетает невозможность держать оборону на своем участке фронта.
33. С чудовищным перевертнем внутри: бока-рвал.
34. О поэтике Луны будет разговор в связи с МиМ. Пока отметим только: по сюжету «рыцарь Белой Луны» урезонивает «объевшегося белены».
35. Ср. мнение Кабалы святош о Мольере:
«Шаррон. Дорогие братья! Разве может христианин желать смерти ближнему своему?
Сила. ...он не ближний.
Дар. Он бешеный волк» (6; 444).
36. «Тихий шторм» — это оксюморон абсолютно в духе эпохи. Вроде «партийный интеллигент».
37. Характерно название опуса — «Душа России», откуда взяты цитаты. Так и хочется добавить «Патолого-анатомический эцюд».
38. Интересно, как бы выглядела русская история, если б не два «гордеца» — Ослябя и Пересвет.
39. См. 42; 367.
40. ПСС в 30 т.: т. 13, 177—178.
41. Более поздний и ещё более мощный вариант иконы носит название «Благословенно воинство».
42. Это, конечно, легко замаскированный былинный буй-тур. Этот же тур просвечивает в фамилии Турбина.
43. «Общественный просмотр «Мольера». <...> Буллит (американский посол. — ОК) необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М.А. вообще, называл его мастером» (4; 114).
44. В Спасо-Хаузе я в эти годы провёл даже выставку живописи (с учениками).
45. № 13. — Это тот же дом 10 по Большой Садовой. В камертоне «чёртовой дюжины» дом 302-бис МиМ читается: 30×2 = 60 = 15-й аркан Сатанаил = бис (укр).
46. Леона Верта, которому посвящен «Маленький принц».
47. А. де Сент-Экзюпери «Письмо к заложнику».
48. А де Сент-Экзюпери «Военный лётчик».
49. Вокруг Булгакова вертелся на том же посольском уровне ещё один сексот, некто Жуховицкий, отсутствовавший на знаменательной встрече, а потому и пощажённый пером писателя-демиурга.
50. Это стало текстовым фрагментом раннего варианта МиМ. — см. 6; 30—31.
51. Любимое концептуальное выражение А. де Сент-Экзюпери.
52. Magician's Hat английской метафизической литературы.
53. В этом смысле он, конечно, Великий Понтифик орденской посвятительной лестницы.
54. Во времена Пушкина имел хождение и «более интеллектуальный» опус, «Сонник» знаменитой госпожи Ленорман, содержащий истолкование полутора миллионов (!) снов — эта халда всех перехалдела.
55. Особенно сложно перекраситься Карасю, ибо для него это значит перекараситься.
56. С исправл. Подробнее об этом ниже.
57. Несколько примеров из Булгаковского триптиха:
«— Нет, — ответила, всхлипывая, Анюта, — нет, не пустяки... Я, Елена Васильевна, — она фартуком размазывала по лицу слезы и в фартук сказала, — беременна. <...>
Поручик Мышлаевский растерялся. — Знаешь. Виктор, ты всё-таки свинья, — сказала Елена, качая головой.
— Ну уж и свинья? — робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой» («Белая гвардия»).
* * *
«Люська. Ну-с, подведём итоги. Лихой рыцарь генерал Чарнота разгромил контрразведку, вынужден был из армии бежать, ну и теперь нищенствует в Константинополе, а с ним и я!» («Бег»)
* * *
«Хлудов. Рыцарь! Чудак! (Бросает ему револьвер.) Окажите любезность, застрелите больного! <...>
Голубков. Нет, не могу уже стрелять в тебя. Ты мне жалок, и страшен и омерзителен! Убил!
Хлудов. Что за комедия в конце концов! Благодарите Бога, что вы сами не повешены!» («Бег»)
* * *
«Серафима. Ни за что не вернусь.
Голубков. Ах так! (Выхватывает внезапно кинжал у Чарноты и бросается вслед за Серафимой.) Чарнота (обхватив его, отнимает кинжал). Ты что, с ума сошёл? В тюрьму хочется?
Голубков. Пусти! Я всё равно её найду, я всё равно её зарежу!» («Бег»)
58. Каменский А.П. (1876—1941) — знаменитый дореволюционный сексописец. После революции стал сексотом. Что не спасло его, как и других подобных, от репрессий.
59. В 1936—37 годах — видный партийный работник.
60. «Это первое упоминание нового названия романа, ставшего теперь уже окончательным» (4; 375).
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |