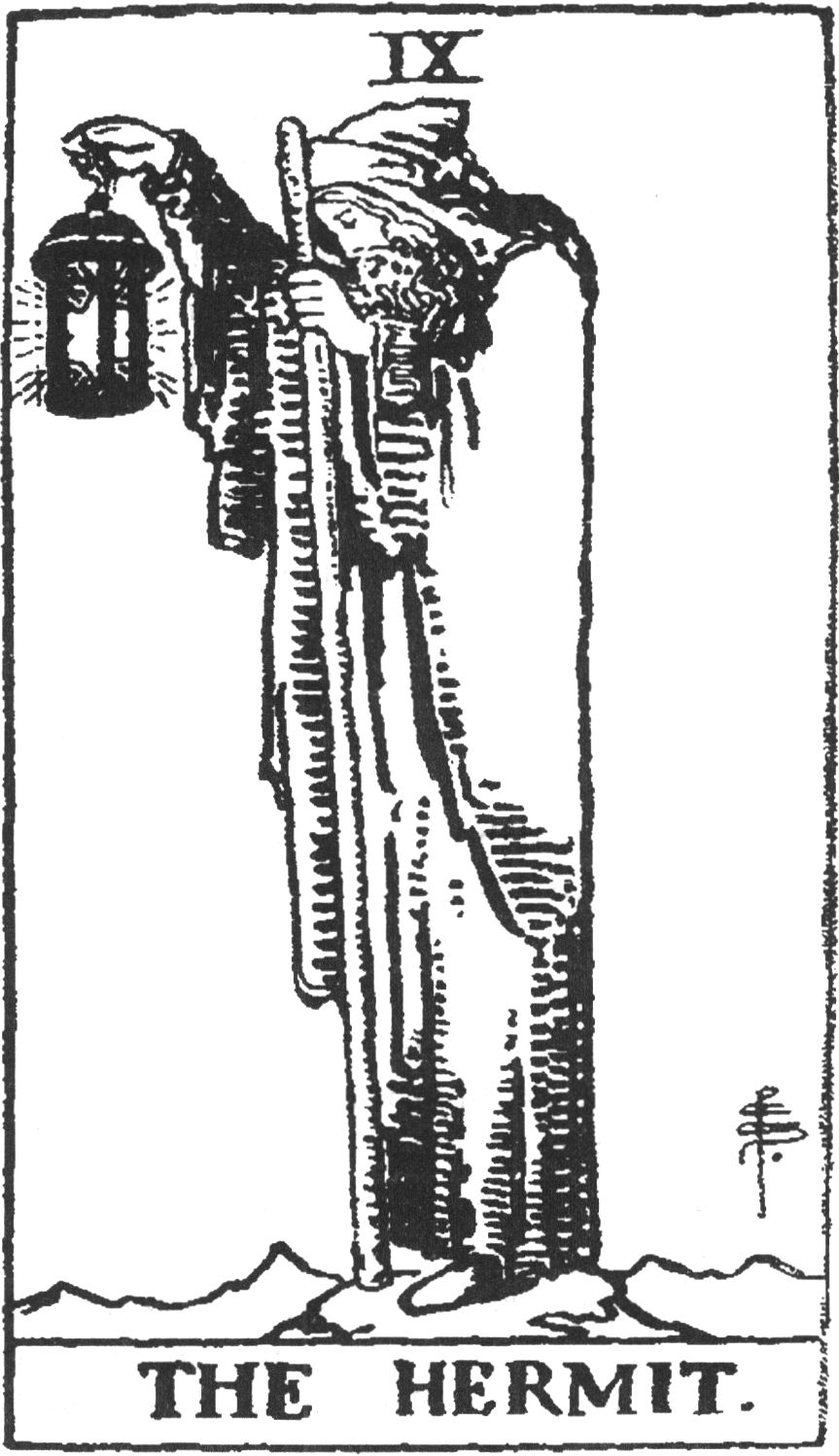Аркан 9.
Наименование: Отшельник.
Буква евр. алф.: ט Тет(с).
Иероглиф: Крыша, кровля (как защита от ненастья).
Числовое значение: 9.
Гностический символяриум: Дух-покровитель; Ангел-хранитель; Протектор; Посвящение; Осторожность; Осмотрительность; Благоразумие; Самостоятельность; Достоинство; Собранность; Концентрация; Паллиатив1.
Графический символ: Пентаграмма, вписанная в квадрат.
Астральный знак: Лев.
Орденское описание. Стратификация начинается с испытания Возлюбленным, уже приобретшим некоторую разумность, самого себя. Для этого он вычленяет свою персону из суеты мира и пытается услышать внутренний голос в тишине пустыней и скитов. «Похвала пустыни» Римского-Корсакова и «Пророк» Лермонтова в равной степени адекватно «озвучивают» говорящую тишину аркана.
На картинке изображён старец, несущий людям огонь разума, свет премудрости, источник понимания. Он бережно прикрывает его от ветра полой плаща, при этом стараясь не мешать огню быть видимым далеко окрест. Старец этот — Прометей, сын Фемиды, несущий людям похищенный у богов огонь (концепция мудрости); это и Диоген, день и ночь таскавший повсюду фонарь с многозначительной надписью «Ищу человека» (отсюда знаменитое русское выражение «днём с огнём»).
Квадратная в проекции лампа и пятилучевая звезда пламени образуют девятеричную структуру аркана. С другой стороны, пламя напоминает гексаграмму среди трёх колонок тела фонаря, связующих его дно и крышку. Крестообразное положение рук и ног образует с вертикалью посоха латинскую девятку — IX. Связь старца (star) со звёздами прекрасно выразил Лермонтов:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Неудивительно, что первый динамический (пеший) аркан Отшельник оформлен Булгаковым гротесковой фигурой Никанора Ивановича Босого. Напомню вкратце этапы превращения концепта. Первый вариант фамилии управдома — Поротый; это намёк на Александра I, сымитировавшего в 1825 году смерть и «ушедшего в народ» простым странником. Через несколько лет сомнительный старик с бородой был изловлен властями и высечен за бродяжничество. Александр Палыч стоически (но лёжа) перенёс мучения, хотя упитанным видом филея уже вызвал подозрения у экзекуторов. То ли ввиду полной никчёмности, то ли по протекции сверху он был отпущен и поселился в Сибири под видом тихого старичка Фёдора Кузьмича. Был посещаем членами царской семьи и дожил до освобождения крестьян, чему, по слухам, немало способствовал.
История эта изустно гуляла по России, поражая воображение своей экстравагантностью и романтическим максимализмом. Первым испытал её магнетическую силу Пушкин, писавший незадолго до гибели: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит... Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег».
Позже Толстой крайне заинтересовался странной былью-легендой и зафиксировал её в полуэссе-полуисследовании «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича»; граф явно примерял сюжет на себя в связи с идеями опрощенчества и «слияния с народом». Правда, он всё тянул и откладывал старт, и когда-таки двинулся в путь, было слишком поздно.
Парадоксальная фигура босого барина, сермяжного аристократа, конечно, вызвала интерес Михаила Булгакова как сатирика. Интерес этот подогревался постоянным общением с внучкой писателя Анной Ильиничной, женой близкого друга Павла Попова. Бесконечная возня с подготавливавшимися к печати очередными томами юбилейного Полного собрания сочинений яснополянского отшельника и популярный в то время фильм режиссёра Протазанова «Отец Сергий» с красавцем Мозжухиным в главной роли были слишком заметной мишенью, чтобы не вызвать на себя огонь пародий. Это доставляло бездну удовольствия юным гаерам и нисколько не вредило вознесённому в заоблачные высоты старцу.
Первыми отличились булгаковские кореши по «Гудку», «нанайские мальчики» Ильф и Петров. В романе «Двенадцать стульев», вышедшем в свет в 1928 году, они порезвились на упомянутую тему целой вставной новеллой «Рассказ о гусаре-схимнике»:
«Блестящий гусар, граф Алексей Буланов... был... героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца-гусара — куртка, расшитая брандербурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.
За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок.
Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звёздами, закутавшись в белый бурнус, и глядел в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинским Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в бесконечную пучину наслаждений. О нём продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.
И внезапно всё кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Таинственное исчезновение графа наделало много шуму. Газеты полны были догадками. Сыщики сбились с ног. Но всё было тщетно. Следы графа не находились.
Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, всё объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века — принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему несчастный роман.
А на самом деле гусар пошёл в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нём забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.
В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему казалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрёл себе особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим всё лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней смирения, он удалился в местную землянку и стал жить в дубовом гробу.
Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.
Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.
Однажды с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришёл неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что мужики сожгли помещика, а монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив сухари, старик, плача, ушёл. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари.
Так прошло ещё несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в неё. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и лёгкая серая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.
Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днём, когда схимник окончательно понял, что всё в его познании светло, он неожиданно проснулся. Размышляя о том, что его разбудило, он вновь заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и, незаметно для самого себя, почёсывая руки. Днём, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял всё. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишнёвого цвета клопы. Схимнику сделалось противно.
В этот же день пришёл старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако стыдясь почему-то и пряча бутылочку, принёс керосин. Как только старик ушёл, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали ещё меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба ещё более поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но «Арагац» не помог. Клопы размножались довольно быстро и кусали немилосердно. Могучее здоровье схимника, которое не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась тёмная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он лучиною жёг клопов. Клопы умирали, но не сдавались.
Было испробовано последнее средство — продукты бр. Глик — розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно престал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.
Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет тому назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным.
Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди тёмного зелёного леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела solo. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошёл вперёд.
Сейчас он служит кучером конной базы Московского комунального хозяйства»2.
Эта история, хотя и навеянная реальным происшествием, случившимся с известным путешественником и этнографом А.К. Булатовичем (1870—1919), скрывает за своей кичевой олеографией хитро упрятанную систему пародийных аллюзий, тем менее заметных, что и Менелик, и абиссинский мальчик Васька, и монастырь, и схима — всё было на самом деле. Крупицы юмора, как клопы, прячутся в еле заметных пазах этого почти достоверного рассказа. Прежде всего их жала метят в ампирный багет «зеркала русской революции» с его достославным князем Касацким, который врезался всем в мозги точёным мозжухинским профилем. Поэтому герой повествования — граф. От Толстого в «Рассказе о гусаре-схимнике» и почтенный возраст (Булатович умер всего 49-ти лет от роду), и огромная серая (намёк на имя Сергий) борода, и «размышления над смыслом жизни» — обычно в схиму уходили с целью покаяния и «оставления грехов».
Это только одна из трёх контаминирующих составляющих.
Вторая — Михаил Булгаков. Гудковцы постоянно служили объектом бесконечных взаимных подколов, шаржей и пародирования (см. воспоминания И. Овчинникова «В редакции «Гудка»» — 8; 131—144). И киевский маэстро, державшийся особняком среди задиристой одесской молодёжи, дружно, хотя и добродушно ею продёргивался. И в этом случае Алексей (после «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» ставшее чуть не вторым именем Булгакова) и почти добуквенное Буланов делают портретное сходство с автором МиМ абсолютно убедительным. Оно ещё усиливается именем возлюбленной героя — княжна Белорусско-Балтийская, — так одесские хохмачи, люди незнатные, издевательски называли Любу Белозерскую(-Белосельскую), поднимая на смех отжившую выспреннюю титулатуру, а вместе с ней и барские привычки «бывших». Объектом иронии в «булгаковской» части гротеска стала его постоянная погружённость в размышления о смысле бытия — в этом он был «весь в Льва Толстого».
И наконец, в истории с гробом и клопами спародирован (даже почти пересказан) киевский приятель Булгакова, такой же интеллектуал и философ Сигизмунд Кржижановский, общение с которым гудковского мэтра вызывало ревностное подхихикивание молодёжи. Действительно, живя в крохотной комнатке на Арбате, Кржижановский описывал её только как гроб, а в рассказе «Квадратурин» фантастическое средство для увеличения жилплощади сопровождает следующая инструкция:
«Способ употребления.
Разведя квадратуриновую эссенцию в пропорции чайная ложка на стакан воды, смочив получившимся раствором кусок ваты или просто чистую тряпочку, смазывают ею внутренние стены комнаты, предназначенные к разращиванию. Состав не оставляет никаких пятен, не портит обои и даже способствует — попутно — выведению клопов»3.
На клопов не раз жаловался и Булгаков, что и запечатлел в инсект-поэтике «Бега».
Весёлые гоготуны вынесли своей вердикт по поводу «старорежимных» интеллектуалов: надо не размышлять о жизни, а заниматься ею.
В свою очередь Булгаков, легко лягнув в «Роковых яйцах» не в меру расшалившихся подмастерий («Валентин Петрович исправляет»), настроил прицел иронического пера на самого патриарха русской словесности. Литературным кунштюкам великого графа противопоставлены «коровьевские штуки», а в карнавальном маскараде всё выглядит так.
«Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какою-то сверхъестественной быстротою, и с семи часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки».
Эти «штуки» почище коровьевских. Число их равно количеству глав Романа, что, конечно, не случайно. Как не случайно и потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире № 31 — речь идёт о Тридцать первой главе «На Воробьёвых горах» с её подведением кармических итогов на пороге больших перемен.
Спасаясь от обвала домогательств, домоуправ поднимается в шестом подъезде на пятый этаж и входит в злополучную квартиру. Как в Пушкинском «Пророке» пентаграмма человека встречает на перепутье шестикрылого серафима, так и в Булгаковской мистерии два штукаря встречаются наконец. В запечатанном Стёпином кабинете Никанор Иванович обнаружил сидящего как ни в чём не бывало за столом «неизвестного высокого и тощего господина в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне».
На атаку «деда-штукаря» и на суровое дознание фамилии наглого нелегала следует игривый ответ:
Фамилия моя, — ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, — ну, скажем, Коровьев».
Первое, что бросается в глаза, — весёлый серпантин политических аллюзий, рисковый карнавал злободневности. Вспоминаются: пломбированный вагон, в котором немецкая охранка переправила в Россию из эмигрантского сидения Ленина со товарищи для подрывной деятельности; один из кремлёвских заправил, Рыков, который был тощ и долговяз, а также контаминация в фамилии персонажа знаменитой цековской троицы Каменев-Рыков-Зиновьев вкупе с вездесущим наркомовским пенсне Луначарского.
Но это первый слой, ярмарочное «колесо обозрения», фельетон, сыгранный на гудке.
Второй слой тоньше, глубже, лиричнее: портрет любимого друга, коллеги и единомышленника Сигизмунда Кржижановского. Это он был, по описаниям современников, длинен, сутул и «худ неимоверно»; это его пенсне было искристо-близким, а судьба глухого литературного неудачника позволила ему как-то сказать сокрушённо: «Мне об этом не говорят, но ощущают меня как некий призрак, привидение от литературы. Причём ничуть не страшное. Я являюсь к чаям, ужинам, затем рассеиваюсь за дверью [моей] комнаты...»4.
Булгаков знал Кржижановского ещё с киевских времён. Одновременно они прибыли в Москву, напечатали свои первые крупные опусы в журнале «Россия» за 1925 год: Булгаков — начало «Белой гвардии», Кржижановский — повесть в письмах «Штемпель: Москва». Кржижановский создал для Таирова «по канве Честертона» фантастическую пьесу «Человек, который был четвергом», она с почти булгаковским успехом шла на сцене Камерного театра. Среди персонажей, названных по дням недели, сам Кржижановский идентифицировал себя именно с Четвергом5. «Очная ставка в 50-й квартире» происходит как раз в четверг. Парадоксалист и умница Сигизмунд соответствовал «клетчатому» ещё и в этом.
От Кржижановского, судя по всему, и образ трёх парок, так неожиданно появляющийся в сцене у Патриарших. Перед нами его новелла-притча «Три сестры», даже название которой — в отличие от драмы «меланхоликоса всея Руси» — звучит по-цирковому: Три сес три.
«Они работали, как всегда, втроём: Клото, Лахезис, Атропос. Через их тридцать пальцев проходили человеческие судьбы. Клото аккуратно ссучивала нити дней. Лахезис протягивала их — вдоль мерки годов. Атропос ждала с раскрытыми ножницами, лезвия их смыкались — и недожитые концы жизней падали вниз, в корзину из тростника, сорванного у берегов Леты.
Как-то случилось, что одна из сестёр сказала:
— Милые парки, давайте, так, ради шутки, поменяемся местами. Ну хоть на одну жизнь.
Сёстры согласились. Атропос пересела на место Клото, Клото, тронув локтём Лахезис, смеющуюся шутке, заставила чуть сдвинуться на опустевшее место Атропос.
И сёстры принялись за работу, Атропос отрезала коротким защёлком своих ножниц новую жизнь от всех ей предшествующих. Клото, не умевшая тянуть нить, но искусная сучильщица, сделала так, что жизнь у неё получилась короткой, но свитой из множества нитей. А Лахезис, знавшая лишь как протягивать нить, когда дошло до смерти, всё тянула и тянула свою руку в вечность.
Затем сёстры, смеясь, снова расселись по привычным местам и продолжали свою работу парок.
Но есть предание, что в этот день в мир пришёл гений»6.
Подразумевал это Кржижановский или нет, но в этом философском скетче он создал концептуальный портрет своего младшего современника. Да и по жизни он постоянно «аккомпанировал» ему, общался с теми же людьми, читал свои вещи в тех же компаниях и даже в пандан к Булгаковскому «Чёрному снегу» написал повесть «Красный снег»7. Будучи чистым и светлым рыцарем мысли8, он в конце концов создал для них двоих обобщающий орденский девиз: «Когда человек подмечает смешную сторону познания истины, он забрасывает свой философский участок и обращается к искусству, подаёт апелляцию на понятия суду образов»9. Именно такой путь проделал Булгаков от «Грядущих перспектив» к Ми М.
Не удивительно, что ироничный киевский мудрец и хохмач оплотняет своими чертами гротесковую фантомность «бывшего регента» (кстати, Кржижановский, как и Булгаков, имел великолепный голос, тоже баритональный бас, и так же готовился одно время к карьере певца).
Почему же всё-таки — Коровьев? — Прежде всего он дополнителен к Воланду, из его «родовой обоймы» (фамилии). А тем самым — и к «быконимным» Булгакову и Волошину. Последний, посылая издателю своё стихотворение, рекомендовал подписать его «просто буквой W или M»10. Этим Воландовское достоинство крымского мага закреплено в мистерии МиМ первыми же страницами. Притом вызывающая карнавальная семантика клетчатости возводит всё к той же ковбойскости, в которой увяз и захлебнулся Иван Бездомный. Коровьев в ней — как рыба в воде.
С другой стороны, «Коровьев» — это, безусловно, псевдоним и в этом смысле — карнавальная маска, харя, какие раньше на Руси чаще всего изготовлялись из коры. Философствуя в сцене с Маргаритой и Мессиром на тему крови, он обогащает дескриптивную семантику своей «фамилии» ещё одним важным обертоном — связью со словом кровь (коровь). Кровь же, тяготея к глаголу крыть, покрывать, снова возвращает к маске из коры. Древнеидийское cárvati, «разжёвывает», довольно точно передаёт суть коровьевской деятельности: переводить, растолковывать, разжёвывать для тугодумов слова иностранного мага и не всегда быстро схватываемый «повелительный падеж» его интонации. Может быть, именно поэтому Коровьев-Фагот — главный церемониймейстер Главы Ведомства Справедливости.
И конечно, в парадоксально-карнавальной стилистике он сразу предлагает: «Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний! А?»
А после шока, пережитого Босым в связи с найденным у себя в портфеле письмом Стёпы Лиходеева по поводу устройства иностранца со свитой у себя на квартире, глубокомысленно резюмирует: «Рассеянность, рассеянность и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович!»
Затем следует словесный фейерверк с камуфляжными «миллионер» и «вилла в Ницце» (на мгновение в этом «парфюмерном» слове высветилось суровое русское «ниц»), и начинённый динамитом купюр Никанор Иванович с мыслями набекрень отправляется восвояси.
Однако Мессиру этот тёртый калач и куркуль пришёлся не по душе.
Следует расковыривание Никанора до самой норы, где лежат спрятанные 400 долларов (400 — числовое значение 22-го аркана Мир), в результате чего он поминает сначала Бога, затем нечистую силу и в конце концов затихает, покорившись неизбежности.
«Через пять минут жильцы дома, находившегося во дворе, видели, как председатель в сопровождении ещё двух лиц проследовал прямо к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя, как пьяный, и что-то бормотал».
Это значит: когда харю сдёрнули, лица под ней не оказалось. В портфеле нашли лишь складное удостоверение мэтра русской литературы.
Какая уж тут комедия дель арте...
Отшельника «ушли», прихватив заодно и «Тимофея Квасцова из квартиры № 11», чтобы совсем не захлебнулся от удовольствия по поводу увиденного.
Примечания
1. Паллиатив [фр. palliatif < лат. palliare прикрывать < pallium плащ] полумера; нерешительность; половинчатое мероприятие.
2. Ильф, Петров Е. Двенадцать стульев М., 1997; 141—143 (курсив мой. — О.К.).
3. Кржижановский С. Воспоминания о будущем. М., 1989; 33 (курсив мой. — О.К.).
4. Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990; 522.
5. Там же, с. 497.
6. Там же, с. 5.
7. Там же; 13.
8. Там же; 516.
9. Там же; 515.
10. Купченко В. Я его знаю давно и близко (М.А. Волошин и П.Б. Струве) — Вестник РХД № 167; Париж, 1993.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |