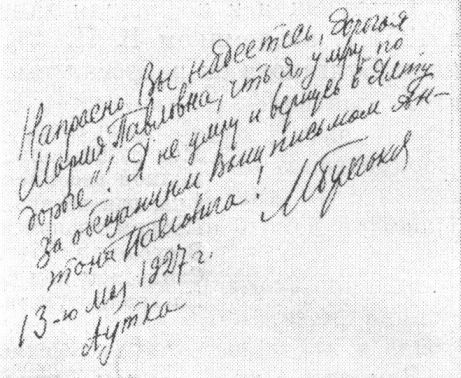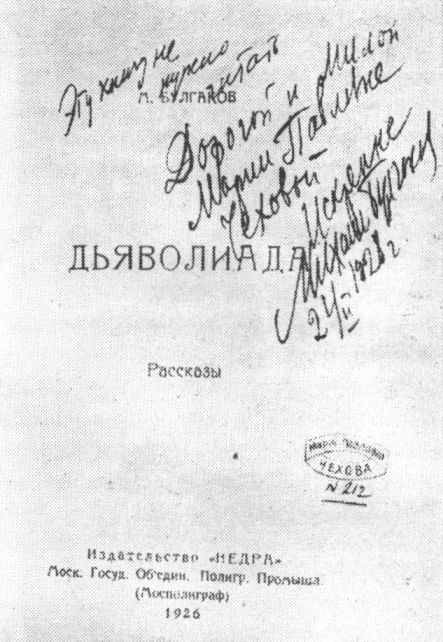«За обещанным Вами письмом». «Отдадите, когда разбогатеете». «Волевая жизнь» и «жизненные часы». Вечные уроки нравственности.
Шубинский переулок в Москве... Совсем рядом несутся потоки машин. Невдалеке Смоленская площадь. Если прислушаться, доносится шум Киевского вокзала, а здесь, за корпусами гостиницы «Белград», тишина, и обстановка как бы переносит нас в 20-е годы. Мемориальная доска на одном из зданий напоминает, что тут жил Викентий Викентьевич Вересаев.
Эту дверь так же, как и калитку чеховского сада в Ялте, в минуты радостные и грустные не единожды открывал Михаил Афанасьевич Булгаков. «Мы бывали у Вересаевых не раз, — вспоминала Любовь Евгеньевна Белозерская. — Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. Общность переживаний, связанная с первоначальной профессией врача, не могла не роднить их». Такое же сродство душ сближало В.В. Вересаева и А.П. Чехова, и, несомненно, эти же чувства владели М.А. Булгаковым, когда в 20-х годах он вновь и вновь переступал порог чеховского дома в Аутке. Символично, что в старом застекленном шкафу в чеховском кабинете в Ялте стоят рядом последнее прижизненное издание «Каштанки», предназначенное специально для детей и особенно нравившееся Антону Павловичу, «Записки врача» 1902 года выпуска с вересаевским автографом, и здесь же, в этом доме хранится «Дьяволиада» Михаила Булгакова с его дарственной надписью Марии Павловне Чеховой.
Как сложилась неразделимая нравственная связь, объединяющая судьбы трех выдающихся писателей-врачей? Начнем наш рассказ с начала века.
В.В. Вересаев вместе с А.М. Горьким впервые посетил Антона Павловича Чехова в середине апреля 1903 г., а затем через несколько дней вновь пришел к нему. Они обсуждали рассказ «Невеста».
Пыльная улица, очень покатый двор, по которому расхаживал ручной журавль, чахлые деревца у ограды — так описывает Викентий Викентьевич свои первые впечатления. Антон Павлович покашливал коротким кашлем. На стене было объявление «Просят не курить...» Чехов был уже очень болен, но Вересаев как-то особенно затронул его сердце, оправдав ожидания и заочные впечатления. В мае он отправил ему из Ялты «Остров Сахалин» с теплой надписью, вскоре писатели обменялись фотографиями. А.П. Чехов упомянул об этих встречах в письмах А.С. Суворину и А.И. Куприну, а Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, еще до личного знакомства с Викентием Викентьевичем, просил передать, что Вересаев ему очень нравится. Характерно, что «Записки врача» Антон Павлович сохранял среди наиболее дорогих ему книг в личной библиотеке в Ялте, а брошюру Вересаева «По поводу «Записок врача»» передал в городскую библиотеку в Таганроге.
Автора «Невесты» уже не стало, а Вересаев, мобилизованный в качестве врача, находился на русско-японской войне, когда в 1905 г. устои Российской Империи пошатнулись. «Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны» — так завершил Вересаев свои записки «На японской войне», созданные в трудный период безвременья, через шесть лет после «Записок врача». Эти кроваво-черные волны, конечно же, видел в те мрачные месяцы и юный киевлянин Булгаков...
И вот спустя почти двадцать лет, когда оживал после засухи чеховский сад, в мемориальный дом-музей, открытый в советской Ялте «ввиду исключительного внимания к трудам и литературным заслугам умершего писателя Антона Павловича Чехова», в числе первых десятков посетителей пришел автор «Белой гвардии».
Л.Е. Белозерская вспоминала, что Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, а какой-то ласковой, как любят умного, старшего брата. Он особенно восторгался записными книжками Антона Павловича. Письма его знал наизусть. Однажды он спросил Любовь. Евгеньевну, какое из литературных произведений ей нравится больше всего. И услышав, что, по ее мнению, это «Тамань» Лермонтова, заметил: — «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано (А.П. Чехов говорит о «Тамани» как доказательстве тесного родства сочного русского стиха с изящной прозой в письме Я.П. Полонскому от 18 января 1888 г. — Ю.В.).
В квартире Булгакова на Большой Пироговской, где впоследствии в гостях у Михаила Афанасьевича неоднократно бывала и Мария Павловна Чехова, на книжных полках, в ряду собрания русских классиков — Пушкина, Лермонтова, обожаемого Гоголя, Льва Толстого, Алексея Константиновича Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Лескова, Гончарова — стояли и тома Чехова, и, возможно, именно их он раскрывал в те годы особенно часто. По словам М. Булгакова, приводимым П.С. Поповым, чеховские мотивы в творчестве писателя особенно явственно отразились в образе Лариосика в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Характерно, что после одиннадцатидневного путешествия из Житомира в Киев Ларион Ларионович Суржанский приносит с собой к Турбиным единственную ценность — завернутое в рубашку собрание сочинений Чехова. В пьесе «Дни Турбиных» в устах Лариосика в обращении к Елене Васильевне звучит чеховское: «Мы отдохнем, мы отдохнем...»
И действительно, вихрь перемен в семье Турбиных, на которых обрушились бури гражданской войны, отражает острое нервическое ощущение — смятение и усталость людей в дни раскола страны. Необходимость передышки, надежды на мир и покой — булгаковские мысли; вспомним его строки из письма, адресованного в 1923 г. родным в Киев: «Право, миг доброй воли, и вы зажили бы прекрасно». Но в «Днях Турбиных» они звучат в классической фразе из «Дяди Вани».
«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе» <...> Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник». Это строки из «Записок на манжетах» о владикавказском периоде жизни Булгакова, ретроспектива вечера в областной народной драматической студии 14 октября 1920 г., где, как извещала местная газета «Коммунист», в 1-м отделении вступительное слово «Чеховский юмор» прочтет М.А. Булгаков и актеры Минин, Аксенов, Поль и Дивов прочтут рассказы «Скорая помощь», «Хамелеон», «Хирургия» и «Дипломат», а во 2-м отделении слово «Чехов в воспоминаниях современников» произнесет Юрий Слезкин и те же актеры прочтут рассказы «Маска», «Заблудшие», «Оратор», «Канитель», «Смерть чиновника» и «Лошадиная фамилия»1.
«<...> Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается восемнадцать человек. Смутно я лелеял такое распределение:
Инструктора по поэтической части:
Брюсов, Белый... и т. д.
Прозаики:
Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович и т. д.» [13, т. 1, с. 690].
Но когда Михаил Булгаков услышал имя человека, которое по праву должно стоять в этом ряду и на которого он, быть может, похож более всего «внутренней свободой и жизнью на средства своей души», — имя Чехова, когда в его жизнь вошли гусь Иван Иваныч и кот Федор Тимофеич, собака Каштанка и ее хозяин Федюшка, когда он ночами, со слезами, долго думал о горькой доле Ваньки Жукова? Несомненно, это произошло еще в догимназические годы, в доме в Кудрявском переулке, в далеком-далеком детстве, где светила отцовская лампа, мерцали корешки любимых книг и звучал мамин голос. Ведь в домашней библиотеке Афанасия Ивановича Булгакова были и чеховские «Пестрые рассказы», и «Детвора», и «Каштанка» и другие издания. Чехов сопутствовал гимназисту и студенту Булгакову и дальше, когда он, сам любитель розыгрышей и сочинитель смешных сценок, конечно же, увлекался его юмористическими рассказами. «Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно, — писала К.Г. Паустовскому сестра писателя, Н.А. Булгакова-Земская. — Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова» [26, с. 57].
В названиях домашних булгаковских водевилей, например, «С мира по нитке — голому шиш», где действовали Доброжелательница солидная, Доброжелательница ехидная, Просто доброжелательница и Хор молодых доброжелателей, словно чувствуется отголосок стиля Антоши Чехонте. Да и выбирая «Хирургию» в качестве спасительного средства в голодной владикавказской атмосфере, воссоздавая в памяти образы фельдшера Курятина «с выражением чувства долга и приятности на лице» и бедного дьячка Вонмигласова, терпящего муки в зубоврачебном кресле, Булгаков, возможно, также вспоминал Киев и, в частности, чеховские вечера, на которых выступал Павел Николаевич Скуратов — актер любимого семьей Булгаковых Соловцовского театра. Упоминание об этих вечерах автор обнаружил в газете «Киевское слово», в номерах за июль 1904 г., когда в связи с кончиной А.П. Чехова газета посвятила ему ряд публикаций. Одна из статей принадлежала перу П.Н. Скуратова. Он же, в летних театрах Пущи-Водицы и Святошина, организовал концерты, где выступил с программой «Новые и старые рассказы А.П. Чехова». Гимназист Булгаков, очевидно, не мог пропустить эти выступления, ставшие событием в культурной жизни города.
А первая театральная встреча юного ученика 1-й гимназии с драматургией Чехова могла состояться, как считает автор работы «Чехов и Украина» В.Я. Звиняцковский, 2 марта 1901 г., когда в театре Н.Н. Соловцова (ныне Академический театр украинской драмы им. И. Франко) были поставлены «Три сестры». Быть может, здесь Булгаков впервые услышал слова Вершинина, звучавшие как предгрозье и поражавшие тоской и верой: «<...> Чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье это удел наших далеких потомков» [42, т. 13, с. 146]. В правилах антрепренера и режиссера Николая Николаевича Соловцова было бесплатно приглашать на спектакли студентов и гимназистов, и Миша Булгаков, возможно, находился в тот день на галерке. А в 1904 г. Булгаков мог видеть в этом же театре «Вишневый сад», появившийся на киевской сцене. В тот же день он, быть может также впервые, услышал слова Гаева: «Дорогой многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. <...>» Этот шкаф он упоминает в очерке «Антон Павлович Чехов».
С 1898 г. на киевской сцене шел «Дядя Ваня». Думается, в огнях этой рампы М. Булгаков услышал сочувственные чеховские слова о земской медицине: «Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни. <...>» [42, т. 13, с. 64].
...И вот сбылась мечта Михаила Афанасьевича — вдохнуть воздух чеховских комнат.
«В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А.П. Чехов».
<...> Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише за письменным столом... над диваном картина Левитана: зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.
И сам Левитан рядом.
<...> Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. <...> С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел глаза к небу. Подпись:
«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...»
<...> Портреты Чехова. Их два. На одном — он девяностых годов — живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда». На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.
<...> В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal...», и слово оборвано.
Здесь свечи под зеленым колпаком и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье назвали насмешливо — «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду»» [14, с. 638—639].
«Когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет», — пишет Булгаков о своих впечатлениях от знакомства с чеховской обителью. Но определим контрапункт, выделим завязку этого дня. Лишь немногим более четырех лет назад в письме двоюродному брату Константину Булгакову он сожалел, что, быть может, безнадежно запоздал с приходом в литературу. За этот срок, вопреки труднейшим обстоятельствам, Михаил Афанасьевич свершил невозможное — его имя появилось в ряду наиболее читаемых авторов. И первыми крупными писателями, не просто заметившими его талант, но и в лучших традициях русской интеллигенции много сделавшими, чтобы дать реализоваться его дару, были В.В. Вересаев, а затем М.А. Волошин.
«Летом 1924 г., — вспоминает заведующий редакцией издательства «Недра» П.Н. Зайцев2, в редколлегию которого входил и В.В. Вересаев, — после выхода в свет «Дьяволиады» в сборнике издательства, возникла мысль «перекупить» у журнала «Россия» роман «Белая гвардия».
Я быстро прочитал роман и переправил рукопись В.В. Вересаев в Шубинский переулок. Роман произвел на нас большое впечатление. Я не задумываясь высказался за его печатание в «Недрах», но Вересаев был трезвее и опытнее меня. <...> Направленность романа, по его мнению, по идеологическим причинам нам не подходила. Может быть, Вересаев вспомнил, как был совсем недавно принят его собственный роман «В тупике». <...>
В один из сентябрьских дней М. Булгаков зашел в «Недра», и я сообщил ему ответ редколлегии. Наш отказ принять «Белую гвардию» резал его. За это время он похудел. По-прежнему перебивался случайными заработками от журнальчиков.
Вдруг меня осенило.
— Михаил Афанасьевич, — обратился я к нему, — нет ли у вас чего-нибудь другого готовенького, чтобы мы могли бы напечатать в «Недрах»? <...>
Через неделю он принес в редакцию рукопись своей новой повести — «Роковые яйца». <...> Прочитав повесть, я передал рукопись Вересаеву. Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного. В отступление от правил договоренности с Н.С. Ангарским (главным редактором «Недр». — Ю.В.), за которым оставалось последнее слово, Вересаев принял повесть для очередного альманаха, и мы с ним условились сразу сдать его в набор...»
В.В. Вересаев необычайно внимательно и трогательно относился к М.А. Булгакову. Известно, например, что Викентий Викентьевич дважды оказывал Михаилу Афанасьевичу денежную помощь, причем в поразительно тактичной, деликатной форме. Когда в 1925 г. в журнале «Россия» прекратилась публикация «Белой гвардии», а «Дьяволиада» и «Роковые яйца» оказались под несправедливым обстрелом критики, что побудило Булгакова принять в этих трудных условиях деньги, Вересаев написал ему: «Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем. Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит».
Примерно тогда же слова горячего одобрения по поводу первых литературных шагов Булгакова прозвучали в устах М.А. Волошина, писавшего в письме Н.С. Ангарскому в марте 1925 г. об опубликованных разделах «Белой гвардии», что «как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютом Достоевского и Толстого», причем оценка его дошла до Михаила Афанасьевича. «Очень мне было приятно прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове, — писал В.В. Вересаев М.А. Волошину 8 апреля 1925 г. — «Белая гвардия», по-моему, вещь довольно рядовая (неодинаковая оценка тех или иных взглядов или произведений при сохраняющихся близких дружеских отношениях, была в те годы в порядке вещей. — Ю.В.), но юмористические его вещи — перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его почти беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь «Собачье сердце», и он совсем пал духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны <...> и, как выражается, обворовывает сам себя. Ангарский мне передавал, что Ваше письмо к нему Булгаков взял к себе и списал его»3.
И вот лето 1925 г., Коктебель. Дом поэта. В июле по приглашению Максимилиана Александровича Волошина сюда приезжают М.А. Булгаков и Л.Е. Белозерская. Напомним, что талантливый поэт и художник М.А. Волошин был одним из тех, кто лично знал А.П. Чехова. Он побывал у него в Ялте еще в 1899 г., после исключения из университета за участие в студенческих беспорядках. Знаменательны его оценки творчества Чехова. Волошин, например, с проницательностью отмечал, что Чехов является первым в России писателем европейского типа, а его театр — театр интеллигенции. В Коктебеле, возможно, и укрепилось желание Михаила Афанасьевича — непременно побывать в доме А.П. Чехова.
Отсюда 7 августа 1925 г. М. Булгаков с женой через Феодосию отплыл в Ялту. После приезда сюда, днем они пришли в Аутку. Группа экскурсантов уже ушла, и Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной, приглашенные Марией Павловной Чеховой в дом, оказались единственными посетителями музея.
В светлых печальных этих комнатах Булгаков в тот день проведет несколько часов. «Как странно здесь» — найдет он свои, особые слова о чеховской обители. Слова, говорящие, по сути, о том, что этот мир был и останется тайной, что Чехов непостижим...
Характерный почерк Михаила Афанасьевича... Я все держу и держу в руках альбом с его записью и пытаюсь представить его в этом доме, в этих дверях. Плотные, несколько пожелтевшие листочки. Альбом не входит в экспозицию и хранится на маленьком столике, в комнате Марии Павловны. Здесь всего несколько заполненных страниц. Вслед за строками, написанными И. Буниным, К. Станиславским, Т. Щепкиной-Куперник, С. Балухатый, следуют такие слова: «Напрасно Вы надеетесь, дорогая Мария Павловна, что я «умру по дороге». Я не умру и вернусь в Ялту за обещанным Вами письмом. М. Булгаков
13-го мая 1927 г. Аутка».
Следующая и последняя запись в этом альбоме была сделана в 1951 г. академиком В.П. Филатовым. Быть может, под влиянием Булгакова он набросал такие строки:
«Сегодня солнечной истомою
Моя душа полна, больна,
Волной весеннею, знакомою
Она, как встарь, напоена.
Пойдем тропой неуловимою
В страну забытой красоты!
Скользнем над бездною незримою
По грани чувства и мечты».
Заметим, что записи разделяют двадцать четыре года. М.П. Чехова бережно хранила заветный альбом, никому не давала листать его, для официальных посещений существовала совсем другая книга отзывов. Владимир Петрович Филатов был, очевидно, первым вне круга самых близких ей людей, кому Мария Павловна доверила прочесть булгаковские строки. А ведь это было в 1951 г., когда имя писателя продолжала окружать глухая стена замалчивания и предубежденности, в «Энциклопедическом словаре», подписанном к печати в тот же период, вообще нет его имени. Тем важнее для нас осознавать, что М.П. Чехова продолжала относиться к памяти М.А. Булгакова с искренним уважением, что, вопреки всему, она сберегла его записи. В знак особого доверительного расположения к В.П. Филатову записи были показаны именно ему. Как жаль, что мы можем лишь догадываться о содержании их беседы.
«Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря». «Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет».
Позволим себе объединить строки из очерка «В Ливадии» М.А. Булгакова и рассказа «Дама с собачкой» А.П. Чехова не только потому, что они так художественно близки по своим краскам. В них есть и отсвет самой жизни, скрещение ощущений радостного и печального в жизни. Вдумаемся в строку, написанную Чеховым в 1899 г., когда Антон Павлович из-за нездоровья был вынужден оставить любимую среднюю полосу России, — «будет шуметь так же равнодушно, когда нас не будет». В них, возможно, начальные строки чеховского реквиема.
И его глубокую грусть, его никому не показываемую боль, быть может, пронзительнее всех ощутил Булгаков — не только как писатель, но и как врач: «При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаш и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать» [14, с. 639].
В этом лаконичном булгаковском абзаце, чем-то разительно отличающемся от многих нередко мажорных, трафаретных, хотя и рожденных искренним чувством описаний дома в Аутке, объята последняя весна Антона Павловича, в них строгая совестливость Чехова, не позволявшая ему даже в дни отчаяния не отвечать на письма начинающих литераторов, его слабый огонек надежды, его прощание с Ялтой.
Очерк Булгакова «У Антона Павловича Чехова», опубликованный в 1925 г., вскоре после посещения дома-музея, явился, по сути, одним из первых портретов великого писателя в советской Чеховиане. Перед нами как бы завязь такого трогательного дальнейшего тяготения Михаила Афанасьевича к этому дому, к близким Антона Павловича. Важной вехой в этом сближении, во время повторного его приезда в Крым, стало знакомство с Михаилом Павловичем Чеховым — младшим братом Антона Павловича.
Несмотря на разницу в возрасте, они быстро сошлись. Наметились совместные творческие планы. Г.А. Шалюгину, исследователю жизни и творчества А.П. Чехова, принадлежат интересные изыскания об этих встречах. «9 июля 1927 г., — указывает он, — Михаил Павлович писал в Москву: «Отсюда уезжает Булгаков. Он хотел бы познакомиться с моей пьесой, чтобы дать совет и продвинуть ее». Вероятнее всего, речь шла о пьесе антирасистского содержания «Цветная кожа», над которой М.П. Чехов работал в Ялте летом 1926 г.
Е.М. Чехова сообщила мне также, что Булгаков предложил ее отцу совместную работу над киносценарием» [45].
Как полагает Г.А. Шалюгин, М.П. Чехов и М.А. Булгаков намеревались посвятить свой совместный труд петрашевцам. В Ялте, куда он переселился в 1926 г., Михаил Павлович трудился над такими материалами, и в его архиве хранится первоначальный вариант сценария под названием «Дело Петрашевского». Замысел остался нереализованным, однако он еще раз свидетельствует о том, что Булгакова еще в 20-е годы влекла и историческая проблематика.
Итак, благоуханная ялтинская весна 1927 г. Булгаковы остановились вблизи Боткинской улицы в пансионате Тези. Первое упоминание имени Михаила Афанасьевича содержится в письме М.П. Чехова в Москву от 12 мая, где он сообщает жене, что «вчера за Женей и Колей (дочерью и зятем М.П. Чехова. — Г.Ш.) заехали Вася, Лизочка (содержатели пансиона В. Тихомиров и Е. Тези) и автор «Дней Турбиных» Булгаков, чтобы ехать на Учан-су. Стали тащить и меня. Влезли на крепость в Исарах и там же позавтракали... <...> Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась в его глазах...»
Через день Булгаков опять пришел к Чеховым. Вместе с Марией Павловной они поднялись в ее комнату на втором этаже во флигеле. За хрупким столиком, в плетеном кресле, где не раз сиживал и Антон Павлович, он перелистывал чеховские письма. Какой из подлинников так хотелось ему иметь? Мы не знаем предпочтения Михаила Афанасьевича в этом выборе. И все же можем предположить: в невесомом листочке, в следе руки Антона Павловича Булгакову виделся некий талисман. И такой отпечаток Аутки — подаренные Марией Павловной веточку из чеховского сада и перечень книг, составленный Чеховым, — он хранил.
В тот же вечер Чеховы и Булгаков были приглашены на именины к известному в Ялте зубному врачу Ванде Станиславовне Дыдзюль — другу семьи Чеховых, дочери литовского революционера Капсукаса. «Пели соло, пели под скрипку, пели хором, — писал М.П. Чехов. — <...> Вернулись домой в 3 ч. утра, чего я здесь не припомню. Даже Маша (М.П. Чехова. — Г.Ш.) досидела до такой поры и плясала...» [45].
А зимой 1928 г. Михаил Афанасьевич направил в Ялту, на Аутскую улицу, «Дьяволиаду» 1926 года издания. Г.А. Шалюгин полагает, что вручить этот его подарок Марии Павловне Булгаков попросил Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову. «Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой искренне Михаил Булгаков 21.II.1928 г.», — написал он на обложке. Отметим, что впоследствии М.П. Чехова вынуждена приписать, что просит не давать «Дьяволиаду» в пользование кому-либо постороннему, книгу нельзя читать. Она хорошо понимала, что наличие у кого-либо «Дьяволиады» и просто разговоры о ней могут вызвать «дьявольские неприятности». Но все же много лет, несмотря ни на что, Мария Павловна свято сохраняла и эту реликвию.
Изъятие рукописей, запрещение произведения, вызовы на допрос...
Через некоторое время, в 1929 г., пьесы Булгакова исчезли из репертуара, его положение становилось невыносимым. И вот в один из дней домой к Михаилу Афанасьевичу, на Пироговскую улицу, пришел Вересаев. Имеется сделанная А.Л. Лессом запись рассказа Елены Сергеевны Булгаковой об этом, достоверность которой она подтвердила в беседе с М.О. Чудаковой.
«Как-то открывается дверь — входит Вересаев.
— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, — сказал Вересаев глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету сверток. — Вот возьмите... Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете...
И ушел, даже не выслушав слов благодарности» [37].
Возможно, в этот вечер он спас Булгакова. Так в поступке замечательного русского писателя-врача как бы отозвались слова А.П. Чехова, сказанные о Н.М. Пржевальском: «Читая его биографию, никто не спросит: зачем? Почему? Какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».
«Сроков людских нам знать не дано, — писал М.А. Булгаков В.В. Вересаеву 6 декабря 1925 г., — но я верю и совершенно искренно, что я буду держать в руках Вашу новую книгу и она так же взволнует меня, как много лет назад меня на первом пороге трудной лестницы взволновали «Записки врача»» [37]. В этих строках чувствуется та же нежность и любовь, что и в словах Михаила Афанасьевича в заветном чеховском альбоме. Булгаков, бесспорно, еще с гимназических лет интересовался творчеством Вересаева. Его привлекал образ героя повести Вересаева «Без дороги» — земского врача Дмитрия Чеканова, в судьбе которого отразилось мужественное поведение самого Викентия Викентьевича во время холерной эпидемии, когда он едва не погиб в поединке с теми, чьих родных и близких спасал. Студенту-медику Булгакову как личности, испытавшей тяготение к литературе, импонировали первые строки «Записок врача»: «Единственное мое преимущество, — что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь». Книга эта, прочитанная «на пороге трудной лестницы», очевидно, всегда жила в памяти Булгакова. Не случайно через некоторое время после того, как Михаил Афанасьевич приехал в Москву, он воспользовался первой же возможностью, чтобы увидеть Вересаева, побывать на диспуте по поводу «Записок врача». Присутствуя на «суде» над «Записками» в здании бывших Женских курсов на Девичьем поле, Михаил Афанасьевич вглядывался в Вересаева, вслушивался в его «низкий голос». «Говорит он мало, но когда говорит, как-то умно и интеллигентно у него выходит», — отметил Булгаков [37]. В 1923 г. Булгаков, желая побеседовать с автором «Записок врача», пришел к нему домой. Со слов Е.С. Булгаковой, Викентий Викентьевич встретил его сдержанно. Они несколько минут стояли в прихожей. Из-за глухоты Вересаев довольно плохо слышал посетителя. Выразив восхищение «Записками врача», смущенный Михаил Афанасьевич, снова надевая калоши, начал прощаться. И лишь уже в дверях расслышав, что перед ним автор «Записок на манжетах», Вересаев переменился, проявив живейший интерес к Булгакову. «Заходите, милости прошу!» — радушно пригласил он Михаила Афанасьевича. Так состоялась первая их личная встреча.
«С огромными надеждами» написал Вересаев на «Гомеровых гимнах», подаренных Булгакову. Говоря словами гимна к Асклепию, Викентий Викентьевич стал для него «злых облегчителем страданий». Около пятнадцати лет они не только встречались, но и переписывались, и старый русский писатель бережно хранил письма Булгакова. Последнее из них было написано Михаилом Афанасьевичем 11 марта 1939 г., за год до его кончины. «Хотелось бы повидаться с Вами. Бываете ли Вы свободны вечерами?» — писал он. Многие часы два писателя-врача провели в беседах в тиши вересаевского кабинета.
Завершилась Великая Отечественная война, старейшине русской литературы посчастливилось встретить День Победы, осознать, что окончились страшные сражения. В конце мая 1945 г., незадолго до смерти, указывая, как распорядиться его архивом, В.В. Вересаев особо подчеркнул значение писем М.А. Булгакова. Как рассказали мне хранители творческого наследия писателя, авторы ряда работ о нем, Валерия Михайловна Нольде и Евгений Андреевич Зайончковский, Викентий Викентьевич хранил эти письма в отдельной папке и завещал опубликовать их, но лишь в том случае, если это можно будет сделать без купюр.
Вересаев сравнивал дарование Булгакова с талантом Гоголя и в беседах с В.М. Нольде и Е.А. Зайончковским (племянница писателя В.М. Нольде долгие годы была его неизменным литературным секретарем) всегда с исключительным теплом говорил о Михаиле Афанасьевиче. Его письма он рассматривал как ценные исторические свидетельства и весьма важный литературный памятник, веря, что время их публикации придет. Попытки наследников Викентия Викентьевича обнародовать письма в точном соответствии с его завещанием несколько раз оказывались неудачными, хотя часть их была известна в списках, а на некоторые строки ссылались в своих печатных работах исследователи творчества Булгакова. В 1987 г. к В.М. Нольде и Е.А. Зайончковскому обратилась редакция журнала «Знамя», уведомив их о том, что в ее распоряжение поступили письма М.А. Булгакова В.В. Вересаеву Очевидно, это была одна из копий многострадального собрания, снятая во время редакционного «хождения по мукам» части булгаковского эпистолярного наследия. После сверки писем с оригиналами из личного архива Вересаева они в начале 1988 г. были опубликованы в журнале «Знамя». Так спустя более четырех десятилетий сбылась заветная мечта автора «Записок врача».
«Дорогой Викентий Викентьевич, я был у Вас, чтобы без всякой торжественности поздравить Вас, — пишет Булгаков Вересаеву в декабре 1925 г. в связи с тем, что в эти дни отмечалось сорокалетие литературной деятельности старейшего русского писателя. — Вчера, собираясь послать Вам парадное письмо, я стал перечитывать Вас, письма так и не написал, а ночью убедился, насколько значительно то, что Вы сочинили за свой большой путь. <...>»
В этих строках чувствуется еще какая-то дистанция между Вересаевым и Булгаковым. Но вот следующее письмо Михаила Афанасьевича, написанное в августе 1926 г. Бытовые условия его жизни остаются трудными, и он обращается к Викентию Викентьевичу за помощью в решении жилищного вопроса. Мнение Вересаева как председателя Всероссийского Союза писателей могло бы, как полагал Булгаков, сыграть определенную роль в рассмотрении его ходатайства в Кубу — комиссию по улучшению быта ученых, оказывавшую содействие и литераторам.
«Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего о том, что такое излишек площади (я лично считаю излишком все лишь сверх 200 десятин, — пишет Булгаков, — толкнуло меня на подачу анкеты в Кубу. Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнете ли квалифицированной даме... <...> ...или мне (не упоминая об отрицательных сторонах моего характера) Ваше заключение обо мне.
Как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?
Советом крайне обяжете!
Когда собираетесь вернуться? Как Ваше здоровье? Работаете ли над Пушкиным? Как море? Если ответите на все эти вопросы — обрадуете. О Вас всегда вспоминаю с теплом».
18 ноября этого же года Булгаков пишет, что посылает Викентию Викентьевичу (для него и Марии Гермогеновны) два билета на «Дни Турбиных». «Кроме того посылаю 50 рублей в уплату моего долга Вам. <...>
Посылаю Вам великую благодарность, а сам направляюсь в ГПУ (опять вызвали)».
«За обещанным Вами письмом...». Запись М.А. Булгакова в памятном альбоме М.П. Чеховой. 1927 г. Из фондов дома-музея А.П. Чехова, Ялта
Вокруг Булгакова змейкой поползли темные слухи. «Нищета, улица и гибель» приближались. И одним из немногих, пришедших ему на помощь, был В.В. Вересаев. Благородный его порыв выходит за рамки каких-то личных отношений. Описанные минуты на пороге квартиры Михаила Афанасьевича, когда однажды вечером сюда со свертком, в котором были деньги, пришел Викентий Викентьевич, по сути, общественный подвиг старейшего писателя.
Следующее письмо Булгакова Вересаеву отражает значительные перемены в его судьбе, которыми он считает необходимым поделиться при встрече: «Дорогой Викентий Викентьевич, у меня сняли телефон и отрезали таким образом от мира. Зайду к Вам завтра (2-го) в 5 часов вечера. Удобно ли это Вам? <...>
Ваш М. Булгаков
(бывший драматург, а ныне режиссер МХТ)».
По мнению публикаторов В.М. Нольде и Е.А. Зайончковского, письмо написано 1 июня 1930 г... Проходит еще один очень трудный год. 29 июня 1931 г. Булгаков вновь пишет Вересаеву большое откровенное письмо. В нем и тревога в связи с ухудшившимся здоровьем.
«Дорогой Викентий Викентьевич!
К хорошим людям уж и звонить боюсь, и писать, и ходить: неприлично я исчез с горизонта, сам понимаю.
Но, надеюсь, поверите, если скажу, что театр меня съел начисто. Меня нет. Преимущественно «Мертвые души»... <...>
МХТ уехал в Ленинград, а я здесь вожусь с работой на стороне (маленькая постановка в маленьком театре). (Речь идет о режиссерской работе в Передвижном театре Института санитарной культуры над постановкой пьесы Н.А. Венкстерн «Одиночка». — Ю.В.)
Кончилось все это серьезно, болен я стал, Викентий Викентьевич. Симптомов перечислять не стану, скажу лишь, что на письма деловые перестал отвечать. И бывает часто ядовитая мысль — уж не свершил ли я, в самом деле, свой круг? По-ученому это называется нейростения, если не ошибаюсь.
А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал (в примечаниях указывается, что речь идет об «Адаме и Еве». — Ю.В.).
Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?
Видел позавчера сон: я сижу у Вас в комнате, а Вы меня ругаете (холодный пот выступил).
Да не будет так наяву!
Марии Гермогеновне передайте и жены моей и мой привет. И не говорите, что я плохой. Я — умученный... <...>»
Следует отметить в этой связи, что в письмах к другим адресатам М.А. Булгаков весьма скупо пишет о своем недомогании, разительно напоминая в этом отношении А.П. Чехова. «Если собрать все мемуарные свидетельства и многочисленные высказывания Чехова в письмах о своей болезни, то становится ясно, что о ней он знал, а все отговорки... <...> ...лишь для родственников и друзей, — замечает в книге «Антон Павлович Чехов» А.П. Чудаков. — Знал, но считать себя больным не хотел. И лечиться он начал только тогда, когда состояние стало катастрофическим». В определенной мере это и черты Булгакова. Лишь Викентию Викентьевичу он писал абсолютно обо всем, веря в его благожелательность и зная врачебную опытность и мудрость.
«В самом деле: почему мы так редко видимся, — пишет Булгаков через месяц. — В тот темный год, когда я был раздавлен и мне по картам выходило одно — поставить точку, выстрелив в себя, Вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность!»
Запомним эти слова, эту мысль — умнейшая писательская нежность. Булгаков полагал, что это важнейшая категория в человеческих взаимоотношениях. Показательно, что в сохранившихся отрывках из дневника писателя, приводимых М.О. Чудаковой в «Жизнеописании Михаила Булгакова», где он отмечает, что смерть В.Г. Короленко не нашла слишком широкого освещения в прессе, Михаил Афанасьевич с горечью добавляет: «Нежности...»
«Но не только это, — продолжает Булгаков, — Наши встречи, беседы, Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны!
За то, что бремя стеснения с меня снимаете — спасибо Вам.
Причина — в моей жизни. Занятость бывает разная. Так вот моя занятость неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен бы заниматься, полной безнадежности, нейростенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло... <...>
Вы думаете, что я не пытался Вам писать, когда, чтобы навестить Вас, не выкраивалось время из-за театра? Могу уверить, что начинал несколько раз. <...> Я боюсь писать! Я жгу начала писем в печке».
К этому прерванному письму Булгаков возвращается 25 и 26 июля. 27 июля он пишет: «Продолжаю: один человек с очень известной фамилией и большими литературными связями... <...> ...сказал мне тоном полууверенности:
— У вас есть враг.
Тогда еще эта фраза заставила меня насторожиться. Серьезный враг? Это нехорошо. Мне и так трудно, а тогда уж и вовсе не справиться с жизнью. Я не мальчик и понимаю слово — «враг». <...> Я стал напрягать память. Есть десятки людей в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мирке литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан... <...>
И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии. Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»). Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами».
Тогда выходит, что мой главный враг — я сам».
28 июля, продолжая эти раздумья и говоря о письме, отправленном Сталину, Булгаков пишет: «Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное. Один человек утешал: «Не дошло». Не может быть. Другой, ум практический... <...> ...подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен. «Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Кто поверит?»
И так далее.
Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?» Там, где это «кто поверит?», я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я — писатель?» <...>»
В этом письме, в страстных строках — «Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?»» — утверждается чрезвычайно глубокая мысль, важная не только как самохарактеристика натуры Михаила Афанасьевича, но звучащая и призывом ко всем нам, — верить друг другу свято, полагаться на человека, считая вообще, что лучшее в нем является основой. Без этой нравственной нормы трудно жить, вне ее невозможно развитие любой сферы деятельности и особенно медицины с ее узлом профессиональных взаимоотношений, с необходимостью для врача безбоязненно брать на себя высокую ответственность, немыслимую без такой же веры.
И вновь именно Вересаев обращается к Булгакову с мудрым призывом, показывающим, как глубоки и не формальны его раздумья о Михаиле Афанасьевиче. Строки из этого письма, написанного в августе 1931 г., приводит М.О. Чудакова в послесловии к «Воспоминаниям о Михаиле Булгакове». «Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжко больны и как у Вас все смято в душе, — писал Викентий Викентьевич. — Совет? <...> Продолжаю думать, что надежда на загр(аничный) паспорт — надежда совершенно безумная. Да, вот именно — «кто поверит?» <...>
Трудно человеку в Вашем положении давать советы, и все-таки мне настоятельно хочется Вам дать один. Скажем, объявили человеку: «у вас не может быть детей...»»
И далее, скорее как врач врачу, чем как писатель писателю, замечает М.О. Чудакова, Вересаев пояснял, что, с его точки зрения, «писательская потребность для художника» не слабее физиологических: «И разве может он, на изломе всего своего существа, сказать себе: «меня не печатают — бросаю писать». Это глубокая ошибка». Он уверял Булгакова: «для меня совершенно несомненно, что одна из причин вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».
Можно полагать, что эти вересаевские строки помогли Булгакову преодолеть душевный кризис. Ведь только Викентий Викентьевич, как врач и психолог, был способен найти эту единственно приемлемую для Михаила Афанасьевича линию духовного противостояния обстоятельствам. Какой бесценный дар дружбы, образец настоящего отклика на чужую боль перед нами...
15 марта 1932 г. М. Булгаков пишет Вересаеву:
«Дорогой Викентий Викентьевич!
Все порываюсь зайти к Вам в сумерки, поговорить о литературе, да вот все репетиции. <...>
А между тем иногда появляется мучительное желание поделиться.
Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу.
Мои ощущения?
Первым желанием было ухватить кого-то за горло, вступить в какой-то бой. Потом наступило просветление. <...>
И мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеется и скажет: «Ну, ну, побарахтайся, побарахтайся...» Нет, нет, немыслимо!
Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя... <...>»
Ко времени написания этого письма «Дни Турбиных» вновь появились в репертуаре Художественного театра. Известна оценка этого события М.А. Булгаковым: «Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце...» Речь, думается, не идет лишь о тяжком состоянии неврастении. Можно полагать, что фон нездоровья писателя — ревматический процесс, о котором он упоминает с 20-х годов. И все же произошли изменения, возвратившие автору пьесы «часть его жизни».
«Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату, — пишет Ф.С. Михальский об этом дне. — На диване полулежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте, рассказывайте!» Я несколько раз повторяю рассказ о звонке А.С. Енукидзе и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. <...> «Едем, едем!» <...>»
Однако кольцо тягот пока не разомкнуто. Перечеркнуты надежды на постановку пьесы «Мольер» в Ленинграде и, следовательно, на соответствующее вознаграждение и ускорение квартирных перемен, а в Художественном театре репетиции «Мольера» движутся почти безнадежными темпами...
«<...> И наступила знакомая мне жизнь в мертвом театральном сезоне, — пишет Булгаков Вересаеву из Москвы 2 августа 1983 г. — Елена Сергеевна через Всероскомдрам шлет телеграммы и выцыганивает малые авансы, а я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьется своего и я, вернув Вам мой остающийся долг, еще раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич. <...>
Я... <...> ...просидел две ночи над Вашим Гоголем. Боже, какая фигура! Какая личность!
В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман... <...>»
Так началось воссоздание «Мастера и Маргариты». О возобновлении грандиозной работы Михаил Афанасьевич сообщает именно Вересаеву.
Весной 1934 г. Булгаковы, наконец, покидают полуподвальные комнаты на Большой Пироговской и переезжают в новую квартиру. Вересаев один из первых, кому Михаил Афанасьевич пишет об этом: «6 марта 1934 года. Дорогой Викентий Викентьевич!
Адрес-то я Вам не совсем точный дал. Надо так: Москва, 19, Нащокинский пер., д. 3, кв. 44. <...> Я искренно опечален тем, что Вы сообщили о Вашем доме. Подтверждается ли это? Я от души желаю Вам, чтобы Ваше новое пристанище, в случае, если придется уезжать, было бы хорошо.
А об этом кабинете сохраню самые лучшие воспоминания. Я становился спокойнее в нем, наши беседы облегчали меня. <...>»
26 апреля 1934 г.: «Дорогой Викентий Викентьевич! На машинке потому, что не совсем здоров, лежу и диктую. Телефон, как видите, поставили, но пока прибегаю не к нему, а к почте, так как разговор длиннее телефонного. <...> Все дни, за редкими исключениями, репетирую, по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу (речь идет о пьесе «Иван Васильевич». — Ю.В.), которую задумал давным-давно. <...>
Прочитал в Сатире... <...> ...говорят, что начало и конец хорошие, но середина пьесы совершенно куда-то не туда. Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! <...> Бросить это дело нельзя: очень душевно отнеслись ко мне в Сатире. А поправлять все равно, что новую пьесу писать. Таким образом, не видится ни конца, ни края... <...>»
Мы видим, что и в театральных делах, так же как и в медицине, Михаил Афанасьевич остается человеком долга, человеком неизменных моральных обязательств. Он очень ценит доброе, искреннее отношение к себе и платит тем же. К сожалению, по отношению к нему самому далеко не все поступают честно и порядочно. Конечно, существовали непреодолимые обстоятельства, тайные и явные действия высших инстанций, препятствовавшие успеху новых и новых творческих его начинаний. Но нельзя не сказать и о другом — о равнодушии, трусости, конъюнктурных соображениях, вследствие чего режиссеры, театры, киностудии, даже известные композиторы слишком легко отказывались от произведений Михаила Афанасьевича.
«Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой...». Надпись М.А. Булгакова на книге «Дьяволиада». 1928 г. Из фондов дома-музея А.П. Чехова, Ялта
Вернемся, однако, к содержанию того же апрельского письма. Несколько летних недель Булгаков вместе с Еленой Сергеевной и Сережей Шиловским проведет на даче близ Звенигорода, принадлежавшей дочери и зятю профессора Г.И. Россолимо. Мы уже упоминали об этих днях, однако уместны и дополнительные сведения. Как рассказывал нам внук Григория Ивановича Россолимо, Алексей Владимирович Савич, он был свидетелем этого пребывания семьи Булгаковых в Подмосковье — с Сережей Шиловским они были сверстниками и подружились. Обратим внимание на тот факт, что на даче, по воспоминаниям А.В. Савича, сохранялась библиотека Г.И. Россолимо, где имелась фотография Антона Павловича с надписью Григорию Ивановичу и подаренные им книги. (Напомним, что Россолимо как невропатолог упоминается в повести «Роковые яйца». — Ю.В.). В семье были живы воспоминания о встречах А.П. Чехова и Г.И. Россолимо.
Дача, где Булгаков как бы вновь прикоснулся к Чехову, была снята при деятельном участии Вересаева. Поводом к соответствующим хлопотам с его стороны явилась просьба Михаила Афанасьевича — просьба, быть может, и не очень обременительная, но с которой можно было обратиться лишь к человеку, в чьем дружеском расположении не сомневаешься.
«Вот что я хотел Вас спросить, Викентий Викентьевич, — пишет Булгаков. — В Звенигороде, там, где вы живете, есть ли возможность нанять дачу? Если Вам это не трудно, позвоните или напишите мне об этом: у кого, где, есть ли там купанье? Вопрос идет главным образом о Сереже. Но Елена Сергеевна, конечно, и меня туда приладит <...>»
В дальнейших строках, а затем в следующем письме Булгаков касается одного из самых драматичных моментов его жизни в этот период — отказе в просьбе о заграничной поездке.
«Вот уже около месяца я в Ленинграде, где, между прочим, лечусь электричеством и водой от нервного расстройства. Теперь чувствую себя получше, так что, как видите, потянуло писать письма.
Во время своего недуга я особенно часто вспоминал Вас, но не писал, потому что не о погоде же писать. <...>
Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях.
К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества. <...>
<...> Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают. <...>
Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим. <...>
— И вам, конечно, отказали, — скажете Вы, — в этом нет ничего необыкновенного.
Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали. <...> 17 мая... <...> Звонок по телефону... <...> «Вы подавали? Поезжайте в ИНО Исполкома, заполняйте анкету вашу и вашей жены». <...>
Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики. <...> Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. <...> Дали список курьеру — катись за паспортами.
Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта раскрыть, как я уже взялся за сердце.
Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А. Булгакову отказано.
Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. <...>
Впечатление? <...> Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос!» [37].
«Как чудесно в Пушкине соединяется гений и просвещение! Но, увы, у него много завистников и врагов». Это слова из совместной пьесы М.А. Булгакова и В.В. Вересаева «Александр Пушкин» («Последние дни»), где впервые слились их творческие замыслы. Они приступили к этой работе в 1934 г., решив приурочить драму к 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина.
18 октября 1934 г. Е.С. Булгакова записывает в дневнике: «Днем были у В.В. Вересаева. М.А. пошел туда с предложением писать вместе с В.В. пьесу о Пушкине, т. е. чтобы В.В. подбирал материал, а М.А. писал. Мария Гермогеновна встретила это сразу восторженно. Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М.А. В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о том, что Нат(алья) Ник(олаевна) была вовсе не пустышка, а несчастная женщина. Сначала В.В. был ошеломлен — что М.А. решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарно), но, подумав, согласился...» [15, с. 401—402].
В.В. Вересаев, автор фундаментальных исследований о поэте, взял на себя разработку исторического фона, а М.А. Булгаков — драматургическую сторону. Однако через некоторое время между ними возникли серьезные разногласия. В конечном итоге Вересаев отказался подписать завершенную работу, потребовавшую от него много сил и времени. По согласованию между авторами, на титуле значилось лишь имя М. Булгакова, хотя Михаил Афанасьевич позаботился о разделении гонорара поровну.
И тем не менее творческий конфликт не повлиял на дружеские взаимоотношения Булгакова и Вересаева. Собственно, так вообще поступают порядочные люди. Но быть может, в переписке этого периода между Михаилом Афанасьевичем и Викентием Викентьевичем как-то особенно сказалось и понимание обоими необходимости душевного щажения друг друга, как, впрочем, и кого бы то ни было, что так характерно для этики врачей земской школы. Отстаивая нерушимость своих позиций, и Булгаков и Вересаев оставляют эти разночтения за рамками личного взаиморасположения — такая позиция в серьезном принципиальном споре заслуживает всяческого уважения.
«<...> Что еще нужно для Вашего успокоения? — пишет Вересаев 4 сентября 1935 г. — Отказ мой от «борьбы»? Но не поняли же Вы ее в том смысле, что я, например, собираюсь поднять в печати кампанию против Вашей пьесы или сделать в репертком донесение о ее неблагонадежности. Желательно Вам, чтобы я на репетициях молчал? Или чтобы пьесу я впервые увидел на премьере? Сообщите, что нужно, чтобы прекратились Ваши огорчения...» (курсив мой. — Ю.В.).
«Милый Викентий Викентьевич! Могу Вас уверить, что мое изумление равносильно Вашей подавленности (курсив мой. — Ю.В.) пишет М.А. Булгаков в одном из писем этого периода. — <...> Перо не поднимается после Вашего письма, но я <...> все-таки питаю надежду, что мы договоримся. От души желаю, чтобы эти письма канули в лету, а осталась бы пьеса, которую мы с Вами создавали с такой страстностью».
Однако их видение одного и того же диаметрально противоположно. И вот Вересаев принимает, на первый взгляд, поразительно странное, а на самом деле мудрое решение, проникнутое заботой о Булгакове, продиктованное высоким уважением к его литературному своеобразию. «Дорогой Михаил Афанасьевич! Не пугайтесь, — письмо мое самое миролюбивое. Я все больше убеждаюсь, что в художественном произведении не может быть двух равновластных хозяев. <...> Вы назвали «угрозой» мое предложение снять с афиши мое имя. Это не угроза, а желание предоставить Вам законную свободу в совершенно полном выявлении себя. <...> Я считаю Вашу пьесу произведением замечательным, и Вы должны выявиться в ней целиком, — именно Вы, как Булгаков, без всяких самоограничений. <...> Все это вовсе не значит, что я отказываюсь от дальнейшей посильной помощи, поскольку она будет приниматься Вами как простой совет, ни к чему не обоязывающий... Вообще — весь останусь к Вашим услугам. Ваш Вересаев» [24].
Так, понимая как никто другой душу и талант Булгакова, Вересаев совершил поступок, по сути, беспрецедентный в писательском мире — он пожертвовал громадой своего труда ради чужого успеха. Собственно, благодаря его человеческой прозорливости и нравственному бескорыстию спустя почти восемь лет после этого благородного выбора Викентия Викентьевича, «Последние дни» как пьеса Булгакова еще при жизни Вересаева увидела свет. Перед нами пример истинного интеллигента, для которого так органичен отказ от своих интересов ради высшей пользы.
Между тем начался новый виток неудач Булгакова — весной 1936 г., после появления статьи «Внешний блеск и фальшивое содержание», МХАТ прекратил постановки пьесы «Мольер». Сам нестерпимо долгий процесс выпуска спектакля, расхождения между К.С. Станиславским и М.А. Булгаковым в ходе репетиций, попытки заставить автора «улучшить» роль Мольера, сделать его «политически более значительным» вызывали у Булгакова волнение и горечь. И все же, как следует из книги Н.М. Горчакова «Режиссерские уроки К.С. Станиславского» (1950 г.), где решение изъять пьесу из репертуара преподносится как некий ее провал и «суровый урок драматургу», Михаил Афанасьевич, вопреки давлению на него, заявил, что, по совести, его авторская работа закончена и дальнейшая судьба произведения находится в руках актеров...
Вокруг молчание... Лишь Вересаев, один среди немногих нетрусливых (хотя он понимает, что переписка может перлюстрироваться), направляет Булгакову сочувственное письмо, и 12 марта 1936 г. Михаил Афанасьевич отвечает ему: «Сейчас, дорогой Викентий Викентьевич, получил Ваше письмо и был душевно тронут! Удар очень серьезен. По вчерашним моим сведениям, кроме «Мольера», у меня снимут совсем готовую к выпуску в театре Сатиры комедию «Иван Васильевич».
Дальнейшее мне неясно <...>»
«<...> Из Художественного театра я ушел, — пишет Михаил Афанасьевич Вересаеву 2 октября этого же года, — Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». <...>
Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто!»
В эти месяцы Викентий Викентьевич и Михаил Афанасьевич продолжают встречаться, преимущественно в доме в Шубинском переулке. Иногда Вересаев провожает Булгакова, они вместе пересекают Смоленскую площадь. Ведь Булгаков все еще не преодолел неврастенической болезни пространства, и нужно помочь ему — тактично и ненавязчиво...
«Недавно подсчитал, — пишет Булгаков Вересаеву 5 октября 1937 г., получив в этот день письмо от Викентия Викентьевича. — За 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, и та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдет 17-я или 18-я.
Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии».
Весна 1939 года. Еще одно письмо, после значительного перерыва.
«Дорогой Викентий Викентьевич!
Давно уж собирался написать Вам, да все работа мешает. К тому же хотел составить наше соглашение по «Пушкину». Посылаю его в этом письме в двух экземплярах. Если у Вас нет возражений, прошу Вас подписать оба и вернуть мне один.
У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль все время устремляется к одной мрачной теме о моем положении, а это утомительно для окружающих. <...>
Одним из последних моих опытов явился «Доп Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них, и будет лежать. <...>. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной стороны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит, и если не предвидится крупных, и за то уже благодарен от души.
Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.
Все-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог. <...>»
На следующий день В.В. Вересаев направил М.А. Булгакову подписанное соглашение, приложив к нему письмо: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Посылаю Вам один из экземпляров нашего соглашения. Недоумеваю, для чего оно теперь понадобилось. Или явилась надежда на постановку?
15.III я, вероятно, на месяц уеду в санаторий. Но вообще мне, конечно, было бы приятно встретиться с Вами, и мне не нужно в этом заверять Вас, Вы должны это чувствовать сами. Крепко жму Вашу руку. Ваш В. Вересаев» [24].
О чем говорили Булгаков и Вересаев в тихом кабинете у стола со скромным письменным прибором из уральского камня? Можно высказать предположение, что в их беседах вставал и Киев. В последние годы Вересаев нередко приезжал сюда, здесь им в 1939 г., в частности, написаны очерки «Книгоиздательство писателей в Москве» и «Коктебель». Как рассказывал нам врач и писатель Павел Ефимович Бейлин (1910—1988), он присутствовал на обсуждении «Записок врача», проходившем в те дни в здании нынешней филармонии. По многолюдью этот вечер напоминал «суд» над знаменитыми «Записками» на Девичьем поле в Москве. П.Е. Бейлину, в то время сотруднику хирургической клиники А.П. Крымова, запомнилась глубокая эрудированность Викентия Викентьевича и в области современной медицины. Во время этой встречи Вересаев говорил, с позиций этики, и о проблемах возможной пересадки органов, и о возможностях фармакологического управления психикой, и о границах вивисекции, быть может, вспоминая коллизии недоступного тогда читателям «Собачьего сердца».
Приезды В.В. Вересаева в Киев хорошо помнит Мария Ивановна Вязьмитина, в прошлом археолог и искусствовед. В 1988 г. она поделилась со мной воспоминаниями об этих встречах. Обычно Вересаев останавливался в гостинице «Континенталь», а свободные вечера проводил у своего друга, историка искусств, автора исследований о художественном наследии Т.Г. Шевченко академика АН УССР Алексея Петровича Новицкого, с семьей которого была дружна и Мария Ивановна. В 1944 г., после освобождения Киева, М.И. Вязьмитина посетила В.В. Вересаева в Шубинском переулке — наверное, это был последний привет из города, который так ему полюбился.
...А пока был май 1939 г., цвели киевские каштаны, и вечерами Вересаев и его спутники шли то на Владимирскую горку, то углублялись в аллеи парков над Днепром — бывших Царского и Купеческого садов, столь хорошо знакомых Булгакову. Это были места, куда Михаил Афанасьевич вновь и вновь возвращался воображением. И знаменательно, что связующим духовным звеном между Москвой и нежно любимым родным Киевом для Булгакова в этот трудный год, возможно, стал Вересаев.
«Я прочитал ваш роман... <...>» Остановимся, в рамках данного исследования, на духовных и творческих сближениях в творчестве М.А. Булгакова, А. Г1. Чехова и В.В. Вересаева. Разумеется, я не ставил своею целью литературоведческий анализ их произведений. Это лишь заметки читателя-врача.
«Чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах <...>», — пишет М.А. Булгаков в октябре 1924 г. в автобиографии. Примерно так же обозначает свой исходный литературный рубеж А.П. Чехов: «Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах...» Открою сравнительный обзор с их своеобразных репортерских путешествий по Москве, с совпадений, несмотря на разрыв во времени почти в полвека, во взглядах двух писателей-врачей на картины ее жизни.
«<...> Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно и родился тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом (автор, как мы полагаем, указывает на наличие сифилиса у многих нищих. — Ю.В.) и сел на всех перекрестках, заныл у подъездов, заковылял по переулкам, — пишет Булгаков в одной из зарисовок, вошедших в серию корреспонденций «Столица в блокноте» (1922—1923 гг.), — ... бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами, а в будке на Страстной площади торгует журналами <...> неграмотная баба! <...>
Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба действительно неграмотная.
Москва — котел: в нем варят новую жизнь. <...>»
Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка, и он застыл, подняв ее верх. <...> ...милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже не свойственное констеблям и шуцманам, ласковое:
— Давай! — извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных» [14, с. 490—491].
Мы уже упоминали о фельетоне «Гнилая интеллигенция» из этого цикла. Хотя речь идет о судьбе врача, здесь, по сути, звучит особое мнение Булгакова об истинной социальной роли этой части общества, названной через некоторое время «прослойкой». Но это лишь одна из тем. Булгаковский «Московский калейдоскоп», запечатленный в периодических изданиях того времени, включает разнообразные блики бытия. Тут рассказ «о сверхъестественном мальчике», который «уже не торгует папиросами и не просит милостыню в трамваях, а идет в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я, и на спине у него р-а-н-е-ц», и сатира о сценической биомеханике в театре ГИТИС. О вреде вульгаризаторства любого рода, и в том числе в медицине, предупреждает юмореска «Неделя просвещения». Но, пожалуй, особенно характерна для позиции Булгакова зарисовка «Золотой век». Это срез времени, сделанный с точки зрения социального гигиениста. Писатель развенчивает заполнившее в 20-е годы города и железные дороги воинствующее «семечковое» бескультурье. «Золотой век, — пишет Булгаков, — ... <...> ...наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногсшибательных фильмов, но <...> просто-напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе. <...>
Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и все к черту» [5, с. 489—490].
И еще булгаковские строки: «О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет... <...> ...наполнять знанием стриженые головенки советских ребят» [10, с. 408—409].
Утомительная работа, сплошь и рядом впроголодь, в нетопленой комнате, после того как пешком, в прохудившейся обуви исхожена вся Москва. «Волосы встанут дыбом от тех фельетончиков, которые я там насочинял...» Тем не менее и здесь булгаковский неповторимый стиль, юмор, темп. Но в чем корни своеобычности и живой силы его пера и в. этом жанре, в чем секрет почти стереоскопического охвата противоречивой действительности? Бесспорно, этому способствовала и близость Булгакова к медицине, которая, как никакая другая профессия, учит пристальному вниманию к деталям, вводит в подробности быта, заставляет быть физиономистом. Кстати, некоторые сравнения и выражения, в частности, «эпидемически быстро растут трактиры» в рассказе «Сорок сороков» или «словно везли не здоровых москвичей, а тяжко раненных» в «Красной палочке», «...съест туберкулез...» в «Школе имени 3-го Интернационала», «тропический триппер», «спасибо за карболку», «семьсот лихорадок и сибирская язва» в «Багровом острове», «санитарный наблюдающий» в «№ 13. — Доме Эльпит-Рабкоммуне», «круглая язва» в «Паршивом типе», «лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат» в «Воспалении мозгов», «Status praesens» (лат. настоящее положение) в «Киеве-городе» — отражение профессионального врачебного лексикона, органичного для Булгакова.
Тяготея к классическим образцам, Булгаков не мог не всматриваться в опыт молодого Чехова в газетном и журнальном потоке и вряд ли прошел мимо чеховской публицистики. Во всяком случае, совпадения в выборе тем двумя писателями-врачами в этой сфере, на мой взгляд, совершенно доказательны.
Возьмем, например, фельетоны А.П. Чехова «Осколки московской жизни», публиковавшиеся в 1883—1885 гг. Это также широкая медико-социальная панорама. Канитель московских похорон, заставляющая перестать «удивляться тем госпитальным солдафонам и «скубентам», которые мертвецов режут и в то же время колбасу едят...» [42, т. 16, с. 34], погибающий из-за пренебрежения толстосумов зоологический сад, грязь в банях и на съестных предприятиях, тараканы в пекарнях, нищие на улицах города («Москвич не может жить без нищих. <...> Он наймет людей в нищие, если только наука и время похерят пролетариат», — замечает Чехов), тюремный корпус на территории 2-й Градской больницы, опасность возникновения холеры, антисанитарное состояние ночлежных домов, нехватка чистой питьевой воды... Ракурсы и эпохи, разумеется, разные, но так же, как и Булгаков, Чехов подходит к увиденному и анализируемому как медик. «Умираем мы не от «труса, огня, меча» <...> а просто так, от нечего делать, словно подряд взяли на доставку Эрисману эффектных цифр», — пишет он в одном из фельетонов.
«Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель» — эти слова А.П. Чехова из рассказа «Жена» отражают картину голода, охватившего Россию в начале 90-х годов прошлого столетия. Зимой 1892 г. Чехов разворачивает активнейшую деятельность по спасению крестьян Нижегородской и Воронежской губерний от голодной смерти. Несмотря на лютые морозы, он ездит по глухим деревням, собирает пожертвования для голодающих. 22 января Антон Павлович сообщает А.С. Суворину о своем намерении написать о голоде, который «газетами не преувеличен». Вскоре писатель подготавливает письмо о голоде для газеты «Русские ведомости».
А вот слова М.А. Булгакова из очерка «Москва краснокаменная», опубликованного в 1922 г., когда страна вновь жестоко голодала: «И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься. Пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо, не оглядываются...» [14, с. 447].
Знаменательно, что, сотрудничая в это время в Лито (литературном отделе) Главполитпросвета, М. Булгаков непосредственно включается в «голодную работу». Он участвует в подготовке лозунгов для агитационного поезда, рецензирует художественные материалы, призывы, обращенные к населению. Одно из таких четверостиший на листе, подписанном Булгаковым, как пишет Р.М. Янгиров в исследовании «М.А. Булгаков — секретарь Лито Главполитпросвета», звучит так:
«Волга все долги запомнит,
Все вернет с лихвой,
Так скорей спеши на помощь
Щедрою рукой».
Не исключено, что эти строки принадлежат Булгакову. Кроме того, указывает Р.М. Янгиров, сотрудники Лито участвовали в подготовке к изданию двух литературно-художественных сборников. Первый, под названием «Голод», составлялся из произведений Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, А.М. Горького. Сборник «На голод» должен был состоять из произведений современных писателей. Быть может, думая над этими сборниками, М.А. Булгаков вспоминал строки письма А.П. Чехова к Л.А. Авиловой, где Антон Павлович высказывал мнение по поводу идеи создания подобного сборника в пользу раненных на японской войне: «Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25—40 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и проч.), насчет раненых, сострадания к ним, помощи и проч., что только найдется у авторов подходящего. Это и интересно, и через 2—3 месяца можно уже иметь книгу и продастся очень скоро».
Думается, что врачебные побуждения А.П. Чехова и М.А. Булгакова в описываемых обстоятельствах были весьма сходны.
«Не считая судебных отчетов, рецензий, фельетонов, заметок, всего, что писалось изо дня в день для газет <...>, — отмечает Чехов в автобиографии, — мною <...> было написано более 300 печатных листов повестей и рассказов. Писал я и театральные пьесы». Перед нами и булгаковский литературный круг! Остановимся на одном из таких отчетов — «Дело Рыкова и комп.», посвященном суду над управляющим банком Г.И. Рыковым и несколькими его помощниками, растратившими одиннадцать миллионов рублей. Он был опубликован в 1884 г. в «Петербургской газете».
Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной, пишет о Рыкове Чехов в манере, напоминающей точность Скорбного листа. «Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних лет 5—10: на вид он старше. Большое упитанное тело облечено в просторную арестантскую куртку и широкие безобразные панталоны. Он бледен и смущен, до того смущен, что прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдыханий. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают по зеленому сукну судебного стола.
Этот «Иван Гаврилов», одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства» [42, т. 16, с. 180].
Судебный очерк, посвященный делу маньяка-убийцы Комарова, сохранился и в творческом наследии Булгакова. Кстати, о нашумевшем процессе поет в булгаковском рассказе «Воспаление мозгов» даже беспризорный мальчишка: «У Калуцкой заставы жил разбойник и вор — Комаров!» Приведем портрет Комарова, отличающийся, пожалуй, таким же острым видением, как у Чехова: «Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей. <...> Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. <...> И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. <...> ...отправленные большими городами» [14, с. 524].
Сопоставление этих страниц, думается, очень важно: оно позволяет более отчетливо представить, чем помогли Булгакову врачебные знания уже на первых этапах литературного пути, как вольно или невольно они входили в его писательскую плоть и кровь. «Подобно Чехову, — отмечает В.Я. Лакшин, — Булгаков пишет об отвращении к литературной поденщине, но, как и Чехов, он не вполне справедлив к себе и своим ранним трудам. И дело не только в том, что Булгаков, что называется, набил руку на этой «скорописи», растормозил свой творческий аппарат, что всегда важно начинающему. <...> Существеннее, пожалуй, что, досадуя на спешную ремесленную работу <...> ...Булгаков в то же время черпает в приемах фельетона нечто значительное для формирования своего зрелого стиля.
И второе — тяготение к точности предмета, репортерской конкретности в описании времени и места. <...> Это тоже идет от практики газетчика, репортера и поддержано, с другой стороны, навыками медицинского образования и врачебного опыта. Булгаков смело вводил в литературу то, что считалось «грязной», низкой или запретной для описания стороной жизни, но находил для этого изящные формы <...>» [31, с. 16—17].
Заслуживают внимания и слова А.П. Чудакова: «Что бы ни писали авторы статей и книг «Чехов-врач», «Чехов и медицина», главные его интересы с ранней молодости лежали в другой сфере. И его медицина оказалась важной прежде всего для мировой медицины. Но для того, чтобы так случилось, это должна была быть не любительская, а настоящая медицина» [43, с. 134].
В воспоминаниях В.П. Катаева о Булгакове, встающих в беседах с ним М.О. Чудаковой, есть фраза: «...С виду был похож на Чехова...» Наверное, это отраженное и в облике, и в поведении удивительное внутреннее, нравственное сопряжение между ними — в несуетной скромности натуры, профессиональной сосредоточенности, в вере в принцип, что «правду говорить легко и приятно». Собственно, такие черты, привносимые медициной, отмечал и сам Чехов, писавший, что «знакомство с естественными пауками кладет на словесников какой-то особый отпечаток, который чувствуется и в их методе, и в манере делать определения, и даже в физиономии». Медицина и литература: питающие ручьи... Значимость таких взаимосвязей, видимо, столь велика, что она не случайно подчеркивается в автобиографиях Чехова и Булгакова, и о них же пишет и Вересаев.
«<...> Выбрал медицинский факультет — не помню по каким причинам, но в выборе потом не раскаялся», — указывает Чехов. Эта выдержка из его письма Г.И. Россолимо, являющегося единственной автобиографией Антона Павловича, была опубликована в 1900 г., но Чехов и раньше подчеркивал роль медицинского образования для себя как для литератора. «Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи», — пишет он А.Н. Плещееву 9 октября 1888 г.
«Учился в Киеве и в 1916 г. окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием» — вот слова Булгакова. Знаменательно, что врачебное прошлое подчеркивается Михаилом Афанасьевичем в его обеих автобиографиях (1924 и 1937 гг.).
«Меня давно не удовлетворяли исключительно гуманитарные науки, хотелось наук точных и точных методов, знаний реальных, — указывает в «Воспоминаниях» Вересаев. — Потом: хотел в какой-нибудь области иметь знания прочные и всегда нужные, чтобы с ними во всех обстоятельствах жизни чувствовать себя независимым. <...>
И, наконец, была еще одна причина, самая главная. <...> Я мечтал стать писателем и именно беллетристом. А писатель, изучая человека, должен быть совершенно ориентирован в строении и отправлениях его тела, во всех здоровых и болезненных состояниях как тела его, так и духа. И потом, я туго и трудно сходился с людьми и надеялся, что профессия врача облегчит мне такое сближение, даст возможность наблюдать людей в таких интимных проявлениях, в каких сторонний человек никогда их не сможет увидеть» [16, с. 335—336].
Хотелось наук точных и точных методов... Думается, интерес и симпатии Чехова к Вересаеву основываются и на этих созвучных ему как естественнику особенностях творчества Викентия Викентьевича. Но, конечно же, поистине ярчайшим образцом слияния гуманистической врачебной и общечеловеческой психологии, точных медицинских знаний о теле и духе человека и великого литературного мастерства предстает весь путь Чехова. В 1912 г., после кончины писателя, благодаря трудам Марии Павловны Чеховой, начали публиковаться его письма и, таким образом, раздвинулась завеса и над его подлинной врачебной биографией. Возможно, студент, а затем молодой врач Булгаков в той же комнате, где он запечатлен на фотоснимке «Доктор», снова и снова вдумывался в чеховские строки. Можно полагать, что, открывая чеховский врачебный мир, они имели для него особое значение.
«У соседа родит баба. При каждом собачьем взлае вздрагиваю и жду, что пришли за мной. Ходил уже три раза...»
«Бывают дни, когда мне приходится выезжать из дому раза четыре или пять. Вернешься из Крюкова, а во дворе уже дожидается посланный из Васькина...»
«<...> В 30 верстах от нас холера, и я не могу оставить своего пункта...»
«Способ лечения холеры требует от врача прежде всего медлительности, т. е. каждому больному нужно отдаваться по 5 — 10 часов, а то и больше. <...> На 25 деревень только один я, если не считать фельдшера. <...> При единичных заболеваниях я буду силен, а если эпидемия разовьется хотя бы до пяти заболеваний в день, то я буду только раздражаться, утомляться и чувствовать себя виноватым.
Конечно, о литературе и подумать некогда...»
«Если буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент...»
Как вспоминает Н.А. Булгакова-Земская, «читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания» <...> Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.
Читали декадентов и символистов, спорили о них... <...> Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистах, об украинском вопросе, о Балканах, о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке, читали Ницше.
Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще всех нас» [26, с. 57—58].
Эти воспоминания относятся к студенческой поре Булгакова. Отметим, что в ряду литературных пристрастий семьи, определяемых во многом старшим братом, Чехов стоит рядом с Гоголем и Салтыковым-Щедриным, что именно Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался. Испытывая равновеликое притяжение литературы и медицины, Михаил Афанасьевич, быть может, благодаря этим письмам, воочию увидел, чем являлась для Чехова медицина. В годы первых проб пера Булгаков, несомненно, сопоставлял подробности доселе неведомых врачебных будней любимого писателя со строками «Жены», «Ионыча», «Врагов», «Попрыгуньи», «Дамы на охоте», «Палаты № 6», «Дяди Вани». Ощущение непосредственной связи между мировосприятием, даваемым врачебной профессией, и чеховскими художественными образами, возможно наряду с другими причинами, побуждало юного Булгакова, как бы вглядываясь в себя из литературной дали, чрезвычайно серьезно относиться к курсу клинических дисциплин.
Так, Булгаков не мог не обратить внимания, что в ранней юмористике Чехов широко использует медицинскую терминологию, вводя в сюжет названия лекарств, диагнозов, симптомов, применяя при описании внешности анатомические и другие специальные термины. Это рассказы «В аптеке», «Сапоги», «Утопленник», «Мои жены», «Индейский петух», «Средство от запоя». Казалось бы, для писателя-врача тут почти готовый набор метафор, коллизий, композиционных клише. Чехов одним из первых в юмористике использовал это поле фактов, терминов, наблюдений. Собственно, и булгаковские «Человек с градусником» и «Летучий голландец» написаны примерно так же. Но будущий создатель «Мастера и Маргариты» не мог не задумываться и над другим: чем явственнее росло искусство Чехова, тем более преобладающими становились социальные мотивы в его творчестве, в том числе и в видении соприкосновений жизни и медицины. Можно полагать, что именно эти идейные уроки Чехова во многом предопределили тональность и гуманистический смысл «Записок юного врача».
Воссоздавая хронику тревог и усилий, утрат и озарений своего героя, Булгаков подчеркивает, что нужда и невежество, царящие в деревенском быту, часто просто перечеркивают старания Юного врача. И пусть он рисует подобные жизненные столкновения лишь штрихом, за небольшим эпизодом встает повседневная тяжкая картина.
«Но вот однажды, это было в светлом апреле... <...> ...ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. <...> И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. <...>
Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:
— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?
Она ответила:
— Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять...» [13, т. 1, с. 610—611].
...Уже через несколько минут опять человеческий крик, и более двух часов доктор возится с переломленной ногой у мальчишки, накладывая гипсовую повязку. Обычные моменты жизни сельского врача... Но вдумаемся в мелькнувшее воспоминание. Как близка сущность причин и следствий («лошади не дал...») к чеховским строкам о доле крестьянки, к социальному портрету старой деревни в рассказе «Дом с мезонином».
«<...> Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку. <...>» [42, т. 9, с. 184].
«Чувства, переживания, отношение к работе — это подлинные чувства и переживания самого автора», — пишет в подготовленном ею предисловии к «Запискам юного врача» Н.А. Булгакова-Земская. Именно такой и должна быть наша оценка юного по возрасту, но уже умудренного медициной и жизнью доктора из Мурьева, оценка земских его будней, бесконечных мучительных дорог в свистящих вьюгах, в сатанинской вертящейся мгле. Да, Булгаков возвращается к нам. Вглядимся же и во врачебный облик — его самого и его героя, вслушаемся в мысли о медицине.
«Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание» [13, т. 1, с. 574].
«<...> Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. — Останьтесь, переночуйте...
— Нет, не могу. <...> У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть» [13, т. 1, с. 581—582].
«...Какие неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его» [13, т. 1, с. 613].
Перед нами вызывающий благодарные светлые чувства портрет сельского врача, его труды и дни в маяте одиноких борений. Но все же он восклицает: «Учи меня, глушь, учи меня, тишина деревенского дома!» И разве не являются чеховские земские врачи Вознесенский и Соболь (рассказы «Драма на охоте» и «Жена») как бы прямыми прототипами несчастного и счастливого булгаковского доктора?
«Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.
Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками <...>, его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах — этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета» [42, т. 3, с. 291—292].
«По помятому мешковатому платью и по манерам я принял его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мне его доктором Соболем. <...>
— Две ночи не спал! — говорил он, наивно глядя на меня и причесываясь. — Одну ночь с роженицей, а другую, всю напролет, клопы кусали, у мужика ночевал. <...>
— Целый день то в больнице, то в разъездах, — рассказывал он <...> Десять лет ничего не читал! <...> Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить Ивана Иваныча: табаку купить иной раз не на что» [42, т. 7, с. 491—492].
Целый день то в больнице, то в разъездах... Наряду с чеховскими строками, Булгаков, пожалуй, мог бы предпослать в качестве эпиграфа к своему смоленскому циклу рассказов и строки из воспоминаний В.В. Вересаева, связанные с такой же трудной работой на земском поприще.
«Увожу отсюда много драгоценных наблюдений... <...> ...сознание, что прожил эти два месяца не напрасно и, кроме того, сознание, что я ... хороший человек и могу делать дело...» [16, с. 377], — писал Викентий Викентьевич, покидая холерный барак на донецкой шахте. Представляется глубоко закономерным, что «Записки юного врача» как бы перекликаются и с творчеством В.В. Вересаева, причем не только с «Записками врача».
Мы уже упоминали о повести Вересаева «Без дороги», вышедшей в 1894 г. Повесть основана на биографических впечатлениях Викентия Викентьевича и так же, как и «Морфий», написана в форме дневника. Судьба ее героя врача Чеканова драматична. Совсем недавно он переболел тифом, заразившись во время голодной эпидемии. И вот снова предстоит сделать выбор — встать на борьбу с холерой. Казалось бы, любой честный человек не может поступить иначе. Однако в критический момент многие медики предпочитают отойти в сторону — и не только потому, что врачебное пребывание на эпидемии вообще требует от каждого чрезвычайного напряжения сил. Пожалуй, никогда еще миссия земского врача не была такой неблагодарной и опасной. Массы крайне враждебно и неприязненно относятся к действиям медицины. Ходят слухи, что дезинфекция якобы делается для того, чтобы морить людей. Совсем недавно толпа до полусмерти избила доктора Чубарова, приписав ему отравительство...
И все же Чеканов принимает на себя заведование холерным бараком. Начинаются врачебные будни. «Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизсматик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо. <...> Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз» [18, с. 69].
Работы больше и больше. Вот первый больной с подозрением на холеру — слесарь Черкасов, потом медник-литух Иван Рыков, слесарь-замочник Жигалев, ломовой извозчик Игнат Ракицкий... Случаи подтверждаются бактериоскопически. Благодаря бессонной героической работе, многих удается спасти. «Я уже давно не писал здесь ничего, — отмечает Чеканов. — Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день».
Но чемеровцы не оценивают этого бескорыстного подвига. Пьяные мастеровые избивают фельдшера и вот-вот ворвутся в дом доктора. Чеканов шагнул навстречу толпе, начал объяснять — сколько народу в больнице выздоровело. «Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. <...> Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, я без сознания упал на землю».
Очевидно, Михаил Афанасьевич и Викентий Викентьевич не раз говорили о земской службе, особенно в пору публикаций медицинских рассказов Булгакова. «Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. <...> Так жить всегда — невозможно, — писал Вересаев в «Записках врача». — И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность. <...> Я держусь... <...> мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь делать все, что могу, но — с глаз долой, и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь; нужно съездить к больному; я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном; но, возвратившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. «Больной», с которым я имею дело как врач, — это нечто совершенно другое, чем просто больной человек, — даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый; за этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания; по отношению же к первым способность эта все более исчезает, и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, с совершенно искренним изумлением спрашивает его:
— Чудак, чего же ты кричишь?» [17, с. 190—191].
Булгаковский Юный врач — любым своим поступком, любым действием, повседневным строем жизни — доказывает: душевная ржавчина, которую так безбоязненно описывает Вересаев, не коснулась его. И мы вправе сказать, что, как и А.П. Чехов, В.В. Вересаев стал одним из идейных наставников и литературных вдохновителей Михаила Булгакова не только «на пороге трудной лестницы», но и в дни врачебной сельской работы, а затем в часы писательских раздумий о медицине. Характерно, что в удостоверении, выданном Булгакову 18 сентября 1917 г. Сычевской земской управой и свидетельствующем о его безукоризненных профессиональных качествах, слово Врач пишется с прописной буквы. Такими же настоящими Врачами были А.П. Чехов и В.В. Вересаев. И это, говоря словами Ю. Трифонова, сказалось «в той силе воплощения», с которой отображен в их произведениях героизм врачевания.
Однако в художественном отображении кульминационных моментов в медицине, в своеобразной ее «интроскопии» Булгаков достигает высот, равных которым, пожалуй, нет. Безусловно, на этом новом взгляде, на талантливой литературной интерпретации чисто клинических подробностей работы и психологических переживаний врача и пациента сказалось и движение времени, дыхание XX века. Но кто-то первым открывает дверь. И именно Булгаков наиболее отчетливо выразил эти веяния, придав отныне, казалось бы, частному медицинскому описанию новые и вместе с тем классические черты. Читая некоторые его строки, убеждаешься, что писать о медицине иначе в художественных произведениях сегодня просто нельзя, а лучшие современные страницы о ней так или иначе несут след уроков Булгакова.
Сравним эпизоды борьбы с дифтерией, которых касаются и Чехов, и Вересаев, и Булгаков.
«— Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым <...>» — так завершается в рассказе Чехова «Попрыгунья» жизнь и судьба доктора Дымова.
«<...> — у него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.
— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. <...>» [42, т. 8, с. 26—27].
Мы ясно представляем доктора Дымова в эти минуты. Однако каких-либо медицинских подробностей, хирургических деталей Чехов избегает — и здесь, и в ряде других произведений. Хотя мы знаем: в земских больницах ему, видимо, не раз при оказании неотложной помощи доводилось и отсасывать дифтеритную слизь, и производить трахеотомию — так же, как, например, на Сахалине, когда потребовалось хирургическое вмешательство и Антону Павловичу пришлось вскрыть абсцесс у мальчика.
Обращаясь в «Записках врача» к той же теме, Вересаев останавливается на «технологии» лечения и притом в беспощадном для себя свете.
«С первым же разрезом, который я провел по белому, пухлому горлу девочки, я почувствовал, что не в силах подавить охватившего меня волнения; руки мои слегка дрожали.
<...> Я наконец добрался зондом до трахеи, торопливо разрывая им рыхлую клетчатку и отстраняя черные, набухшие вены. <...> Гладкие, хрящеватые кольца трахеи ровно двигались под моим пальцем вместе с дыханием девочки; я фиксировал трахею крючком и сделал в ней разрез; из разреза слабо засвистел воздух.
— Расширитель!
Я ввел в разрез расширитель. Слава богу, сейчас конец! Но из-под расширителя не было слышно того характерного шипящего шума, который говорит о свободном выходе воздуха из трахеи.
— Вы мимо ввели расширитель, в средостение! — вдруг нервно крикнул Стратонов. <...> Я все больше терялся. Глубокая воронка раны то и дело заливалась кровью, которую сестра милосердия быстро вытирала ватным шариком; на дне воронки кровь пенилась от воздуха, выходившего из разрезанной трахеи. <...> Сестра милосердия стояла с страдающим лицом, прикусив губу; сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтоб не видеть...» [17, с. 80—81].
И вот почти такая же сцена в «Стальном горле» Булгакова: «<...> Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. <...>
Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом... <...> «Конец, — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.
— Крючки! — сипло бросил я.
<...> Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. <...> Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь» [13, т. 1, с. 562—564].
Волнующие эти описания очень близки. Но все же булгаковский поединок, запечатленный как бы более свободной кистью, неотразимее врезается в память...
Сопоставляя страницы творчества трех писателей-врачей, видишь немало поразительных соприкосновений и в деталях действа, и в способах художественного мышления. «Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона, потом молодой, очень полный с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища», — пишет Чехов в «Попрыгунье». «Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый — молодой и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель» — так описывает Булгаков коллег у постели доктора Турбина.
А вот чеховский рассказ «По делам службы». «Потом ему (Лыжину. — Ю.В.) представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:
— Мы идем, мы идем, мы идем... <...>
Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе?» [42, т. 10, с. 98—99].
Мы невольно вспоминаем и сон Алексея Турбина: «<...> Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы... <...>
— Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?
Жилин приветно махнул рукой... <...> Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна» [13, т. 1, с. 82, 86].
Стоит отметить, что и эти эпизоды, пожалуй, значимы для медицины. Чехов и Булгаков обрисовывают занимающее большое место в психологии сна парадоксальное просоночное состояние, туманный промежуток между сном и бодрствованием, когда образы, проносящиеся перед нами во сне, соприкасаются с реальностью, а слабое воздействие вызывает значительный резонанс. В науке о сне такие минуты заслуживают особого изучения. Знаменательно, что оба писателя коснулись именно их.
Вместе с тем, указывает в исследовании «Сон как элемент внутренней логики в произведениях Булгакова» славист, заведующий кафедрой русской филологии Туринского университета Д. Спендель де Варда, в строках Булгакова мы находим образцы снов и ситуаций сна, которые отражают целый диапазон разнообразных возможностей сна: сон — кошмар, сон — предупреждение, сон — желание, сон — гротеск, сон — как видение еще незнаемого будущего. Этому проникновению в мир сна, неотъемлемому от сферы булгаковской научной фантастики, способствовало, по мнению итальянского слависта, научное образование М.А. Булгакова.
Удивительный захватывающий миг — в шуме и сутолоке циркового представления Каштанка узнает голос своего бывшего хозяина Федюшки и бросается к нему... Почти каждый из нас еще с дошкольных лет помнит этот рассказ Чехова. Описывая в «Собачьем сердце» Шарика, Булгаков, черпая из вечного колодца детских впечатлений, вспоминал, наверное, и историю жизни чеховской собаки. Шарик «...остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали. <...> До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. <...>» [13, т. 1, с. 456].
Но разве Шарик не напоминает Каштанку? «Молодая рыжая собака <...> бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась? <...> Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. <...> За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то наверное, подумала бы:
«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться»» [42, т. 6, с. 430—432].
Возникает ощущение, что Чехов и Булгаков как бы слышат душу животных. Знаменательно, что оба писателя развивают на этих страницах предвосхищения Л.Н. Толстого. Кстати, именно на таких проникновениях, размышляя о Льве Толстом, останавливается в своей критико-публицистической книге «Живая жизнь» В.В. Вересаев.
«Вокруг человека — огромное море жизни: животные, растения <...> — пишет Вересаев. — Они не умеют говорить, но в них есть самое важное, что и в человеке. <...>
Толстой говорит про лошадь Вронского Фру-Фру: «Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого».
И повсюду у Толстого только как будто эта механическая причина отделяет животных от людей. <...>
Собаки упустили волка. Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и рассерженными лицами. Булька рычал и толкал меня головой — он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел. <...>
Однако, в конце концов, слова не так уже необходимы. Тесное, непрерывное общение происходит между душами и помимо слов, — путем взглядов, интонаций, какой-то своеобразной интуиции...» [18, с. 332—333].
Мы знаем, как высоко ценил Булгаков творчество Л.Н. Толстого. Очевидно, в постижении его миропонимания свою роль для него сыграла книга В.В. Вересаева «Живая жизнь», являющаяся собственно книгой и о самом Викентии Викентьевиче.
По воспоминаниям Е.А. Земской, к Михаилу Афанасьевичу всегда тянулись мальчишки, как-то безошибочно чувствуя его натуру. И характерно — образы детей, хотя это в общем мимолетные страницы, выписаны Булгаковым с удивительной любовью.
«Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.
Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. <...> Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню <...>» [13, т. 1, с. 283]. Мы привели отрывок из «Белой гвардии». С сердечной симпатией к мальчику Славке написан и рассказ Булгакова «Псалом»: «И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...» [14, с. 551].
Земская больница, одновременный прием детей и взрослых, заботы, заботы, заботы доктора... «Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! <...> Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх!» — в этих словах из рассказа А. 11. Чехова «Беглец», с которыми к семилетнему Пашке Галактионову, уговаривая его остаться в больнице, обращается доктор Иван Николаевич, также отчетливо встает доброе видение детской души. На наш взгляд, этот рассказ вообще весьма важен для педиатрии. Даже если доктор чрезвычайно занят, он не вправе забыть слова, оброненные в разговоре маленьким пациентом, не должен допускать, чтобы к малышу пришло сомнение — его обманывают, чтобы тот оказался в одиночестве. Это непреходящие истины. Иван Николаевич, хороший врач, опытный хирург, спасает Пашку, в ужасе решившего бежать в пургу из больницы домой, он исправляет свой недосмотр, но ведь все могло случиться и иначе...
Известно, что «Беглец» был навеян впечатлениями Чехова в период работы в Чикинской больнице. Нельзя не заметить — строки этого рассказа, несомненно, перекликаются с рожденными врачебным опытом булгаковскими «Стальным горлом» и «Звездной сыпью», также преисполненными нежностью и сочувствием к больному ребенку.
Вот дети с больной матерью в рассказе «Звездная сыпь». Мать не понимает, чем грозят малышам грозные розеолы. Больших усилий стоит доктору уговорить молодую женщину остаться на лечение. И все же он организует во флигеле специальное отделение, применяет новейшие методы лечения сифилиса — ради будущего этих крестьянских ребят.
Вместе с Юным врачом мы радуемся выздоровлению девочки Лидки. Только шрамик на шее напоминает о минутах на операционном столе — благодаря его мужеству и мастерству ей возвращена жизнь... Если бы составлялась литературная галерея исцеленных детей, эти булгаковские образы обязательно вошли бы в нее.
Горькие раздумья о доле подмастерья Васьки, так перекликающейся с жизнью чеховского Ваньки Жукова, звучат в «Записках врача» Вересаева. Мальчик страдает головокружениями и обмороками и периодически приходит к доктору...
«<...> Мне часто случается проходить мимо мастерской, где он работает, — окна ее выходят на улицу. И в шесть часов утра и в одиннадцать часов ночи я вижу в окошке склоненную над сапогом стриженую голову Васьки, а кругом него — таких же зеленых и худых мальчиков и подмастерьев. <...> И вот мне нужно лечить Ваську. Как его лечить! Нужно прийти, вырвать его из этого <...> угла, пустить бегать в поле, под горячее солнце, на вольный ветер, и легкие его развернутся, сердце окрепнет, кровь станет алою и горячею. Между тем даже пыльную петербургскую улицу он видит лишь тогда, когда хозяин посылает его с товаром к заказчику. <...> И единственное, что мне остается, — это прописывать Ваське железо и мышьяк и утешаться мыслью, что все-таки я «хоть что-нибудь» делаю для него» [17, с. 151].
Сердечность по отношению к детям, проявившаяся и в профессиональной деятельности, и в буднях медицинского труда, и на литературных страницах, — эта высокая нравственная проба роднит трех писателей, врачей.
«Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность», — писал Чехов. Необычайный интерес, на мой взгляд, представляет и обратный, почти не изученный эффект — значимость творческого наследия писателей, о которых мы ведем рассказ, для медицины как таковой. В ряде их произведений заключены настоящие научные открытия!
Собственно, в этом нет ничего неожиданного. Талантливый писатель-врач пристальнее, чем кто-либо другой, всматривается в лик человека, в природу всего, что происходит с ним. По мнению А.П. Чудакова, на страницах таких книг сливаются в единый образ вдумчивое видение черт организма и личности, анализируются причины и аномалии, проявляющиеся в тех или иных состояниях, вырастая порой в талантливый медицинский либо психологический диагноз.
Так, в рассказе Чехова «Именины» мы встречаем выражение «болевая жизнь». «<...> От боли, частых криков и стонов она отупела (речь идет об осложненных родах у Ольги Михайловны. — Ю.В.). Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь (курсив мой. — Ю.В.) продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца...» [42, т. 7, с. 196].
О «болевой жизни» пишет в «Белой гвардии» и Булгаков. «Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, — сухо и беззвучно повторил Турбин и внушал себе: — Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь разрушал мозг, и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все равно. <...> Осталось одно — чтобы прекратилась боль» [13, т. 1, с. 208].
Нам думается, что формулировка Чеховым и Булгаковым сущности «болевой жизни» (хотя их слова весьма необычны для медицинской терминологии) имеет самую прямую связь со многими аспектами клиники. Болевая доминанта действует разрушительным образом, извращая физиологические циклы. Она требует от врача неотложных мер.
Конечно, обо всем этом упоминается в учебниках и руководствах, но так, как сказали о боли Чехов и Булгаков, не сказал никто.
«Historia morbi» — этот подзаголовок не случайно предпослан рассказу Чехова «Черный монах» и рассказу Булгакова «Красная корона», где авторы касаются аспектов психики, показывая истоки и развитие навязчивых состояний. Мы знаем, что оба писателя были прекрасно ориентированы в психиатрии, их знания отразились в «Палате № 6», «Припадке», «Беге», «Мастере и Маргарите». Но, видимо, нелишне обратить внимание на то, что медицинская трактовка непосредственно в названии дана Чеховым и Булгаковым лишь в описании галлюцинаторных аффектов. Быть может, в этот выбор стоит вдуматься и современным врачам — «черный монах» отнюдь не исчез с горизонта жизни, где и сейчас есть немало тяжких стрессовых ситуаций. Кстати, о подобном видении в своих сновидениях, в пору глубоких душевных переживаний 30-х годов, Булгаков упоминает в одном из писем, а образ смерти в виде старушки с вилами в «Морфии» схож с этим навязчивым странным миражом, обрисованным Чеховым.
Для врача, конечно же, не утратили значения чеховское и булгаковское описания клиники сыпного тифа. Галлюцинаторные наплывы, срыв ритма времени, извращенное ощущение температуры и шумов — как точно подмечены эти нюансы, на которых у постели больного, и не только при тифе, врач иногда должным образом не сосредоточивается.
Вот эти строки: «Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца», — пишет Чехов в рассказе «Тиф». «Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. <...> Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло. <...> Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать» [42, т. 7, с. 132—133].
Мечется в тифозном бреду Турбин. «Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что! Совершенно немыслимо будет жить. <...> Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной... <...> Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегченья. <...> Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина».
В эпизодах болезни Турбина М. Булгаков вводит и понятие, которое можно определить «психологические часы». «На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу — ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча». Но вот Турбину становится хуже, у него поднимается температура. «Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик». <...> Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, — ровно половина шестого... <...> ...стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке» [13, т. 1, с. 188, 189, 192, 194].
Такие «психологические часы» часто встречаются в жизни, мы просто не замечаем их. А между тем к ним должны присматриваться и врач, и учитель, и психолог, да и вообще каждый человек в общении с людьми. Но не забудем в беге времени — одним из первых увидел и осветил их таинственный ход Михаил Булгаков.
Чехов, Вересаев, Булгаков и вечные моральные постулаты медицины... Вчитываясь в их строки, отмечаешь и непреходящие гуманистические истины и, в частности, настойчивый призыв к состраданию. Для постижения основ деонтологии, для осознания смысла и важности борьбы с «микробами страха» их произведения — настоящий курс нравственности.
И знаменательно, что именно эта линия милосердия получает особенно яркое и, пожалуй, более высокое развитие в «Белой гвардии» Булгакова — в образе седого профессора, учителя Алексея Турбина. В тяжелые для раненого Турбина дни, когда само посещение его квартиры как человека, стрелявшего в сечевиков, опасно, профессор вместе с коллегами приходит к нему. Состояние Турбина почти безнадежно, он без сознания. Мы уже обращались к этому эпизоду в доме на Алексеевском спуске. Но еще раз вслушаемся в голос профессора, в слова, напоминающие об исключительной важности предохранения психического мира больного от травмы словом.
«<...> Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, — такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу тумана и бреда не воспринял их, — в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции».
Выскажу версию предыстории этого литературного эпизода, где, как было отмечено, в образе профессора угадывается наставник М. Булгакова хирург Н.М. Волкович. Во время подавления восстания киевских саперов в декабре 1905 г. на Галицкой площади (нынешняя площадь Победы) был тяжело ранен в область печени один из руководителей революционного выступления, член РСДРП врач Федор Николаевич Петров. Его оперировал на конспиративной квартире Николай Маркианович Волкович. Разумеется, он вряд ли разделял политические взгляды Ф. Петрова и, быть может, не одобрял его позицию. Но ведь был ранен его ученик, и к нему обратились за помощью. Струсить в нелегкой житейской ситуации, презреть профессиональный долг, поскольку раненого разыскивает полиция... Наверное, кто-либо другой поступил бы именно так. И все же Волкович как настоящий врач не мог не пойти на риск. Возможно, позже Булгаков узнал об этом тайном визите, потребовавшем, помимо всего прочего, подлинного мужества. Вот почему апостолом деонтологии в «Белой гвардии» предстает седой профессор.
Характерно, что и в «Звездной сыпи», по отношению к больному сифилисом, доктор проповедует те же святые правила. Он говорит ему о диагнозе, понимая, что это может явиться для пациента психологическим ударом, и стараясь сделать это как можно мягче — врач предполагает, что человек этот очень испугается, придет в волнение. А ведь обычно с подобными больными обходятся без особых церемоний...
Мы входим во флигелек в Мурьевской больнице, где Юный врач организовал специальное отделение для лечения сифилиса, где он применяет новейшие средства. Как отличаются эти комнаты по всей их медицинской и моральной атмосфере от такого же флигеля на территории больницы в палате № 6, где, лишь переступив порог, чувствуешь безысходность. Подчеркну, что писатель, по-видимому, повествует об истинных событиях — в воспоминаниях Н.А. Булгаковой-Земской о брате приводится письмо друга Михаила Афанасьевича — А.П. Гдешинского: «Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет его большая работа, которую он зачитывал в Киеве...»
«Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.
— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку. <...>
— Ты... Ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь... ты дура!..
— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться? <...>
— Разве тебя «дурой» следует ругать? Не дурой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!
И она осталась еще на десять дней» [13, т. 1, с. 599].
Выделено, акцентировано самое главное для врача понятие — совесть. Действительно, именно совесть предопределяет в медицине все.
Старый опытный профессор, борющийся за жизнь до конца и осознающий, каков вес его слов, осторожный там, где многие уже не осторожничают... Юный доктор, заброшенный в деревенскую глушь, где лишь совесть является судьей, и предстающий перед нами как подвижник и рыцарь... О них можно сказать строкой поэта «Мои боги, мои педагоги». И какой фальшивой величиной кажется по сравнению с ними столичное светило, описанное Вересаевым в «Записках врача». Вглядимся и в его образ, чтобы не допустить в себе роста бацилл притворства и бездушия.
К доктору — герою записок приезжает в Петербург из провинции его сестра, учительница. От переутомления у нее развилось нервное истощение. Они едут к знаменитому невропатологу, приема у которого домогаются толпы.
«<...> Наконец, мы вошли в кабинет. Профессор, с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру; на каждый ее ответ он кивал головой и говорил: «прекрасно!» Потом сел писать рецепт.
— Могу я надеяться на выздоровление? — спросила сестра дрогнувшим голосом.
— Конечно, конечно! — благодушно ответил профессор. — Тысячи тем же больны. <...>
Мне становилось все противнее смотреть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия. <...>
— Hy, во-от!..Ну, это, барышня, уж совсем нехорошо! — воскликнул профессор, увидев ее слезы. — Ай-ай-ай, какой срам! <...>
И опять все в его тоне говорило, что профессор каждый день видит таких плачущих и что для него эти слезы — просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок расшатанными нервами» [17, с. 192—193].
В.В. Вересаев. 30-е годы
И еще одна черта, органично объединяющая мировосприятие трех писателей, — пристрастный взгляд на личную честь врача. При любых обстоятельствах — и это они подчеркивают с большой силой — врач не должен становиться прислужником палача, садиста, убийцы (а если он выполняет такие функции, значит, он позорит свое звание), во имя любых научных целей и побуждений он не имеет права на антигуманные действия.
В «Острове Сахалине» Чехов со жгучей болью (сострадая и негодуя) описывает наказание осужденного. Эта нестерпимая картина долго снилась ему. Но он обязан был увидеть и увидел, по его словам, все. Характерно описание Чеховым врача, санкционирующего, словно бездушный чиновник, надругательство над человеком.
«<...> Ввели Прохорова. Доктор <...> приказал ему раздеться и выслушал сердце для того, чтоб определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра.
— Ах, бедный! — говорит он жалобным тоном с сильным немецким акцентом, макая перо в чернильницу. — Тебе, небось, тяжело в кандалах! А ты попроси вот господина смотрителя, он велит сиять.
Прохоров молчит; губы у него бледны и дрожат.
— Тебя ведь понапрасну, — не унимается доктор. — Все вы понапрасну. <...> Ах, бедный, бедный!
Акт готов; его приобщают к следственному делу о побеге. Затем наступает молчание. Писарь пишет, доктор и смотритель пишут... <...>
Наконец Прохоров привязан. <...>
— Ра-аз! — говорит надзиратель дьячковским голосом.
В первое мгновение Прохоров молчит и даже выражение лица у него не меняется, но вот по телу пробегает судорога от боли и раздается не крик, а визг.
— Два! — кричит надзиратель.
<...> Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты...
<...> Кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: «Сорок два! Сорок три!» До девяноста далеко. Я выхожу наружу. Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, проносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его и даже в походке выразился ужас» [42, т. 14—15, с. 335—337].
Чехов привез с Сахалина документ об этом варварстве, о постыдной роли врача — копию «акта об освидетельствовании ссыльно-каторжного», он записал, быть может, для потомства, подлинные фамилии подобных врачей — А. Зигер и В. Струминский. Когда он писал строки о Прохорове и его истязателях, его сердце, наверное, обливалось кровью, и, даже читая их, содрогаешься. Но писатель вынес свой приговор. «Чехов в своей книге не стремился к описанию наиболее страшных картин, которые он наблюдал на Сахалине, — отмечает Е.Б. Меве в книге «Медицина в творчестве и жизни А.П. Чехова» (1989). — Тем не менее, желая оттенить ханжеские заверения начальника острова генерала Кононовича в том, что «он питает отвращение к телесным наказаниям», рассказал российскому обществу о такой экзекуции, в которой, к сожалению, участвовали и врачи».
Пришел другой век. «Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал:
— Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видели. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля...» Уже в наше время к теме поведения врача примерно в такой же обстановке в рассказе «Я убил» обратился и Булгаков.
Впрочем, обстоятельства не совсем такие же. Доктору Яшвину достаточно лишь смолчать, его не понуждают составлять гнусный акт, полковникам из петлюровского стана не нужны даже такие фиговые листки. О его малодушии из-за инстинкта самосохранения никто не узнает. Как не узнает и о неминуемой расправе, если он выразит неодобрение палачам... Но Яшвин, хорошо знающий, с кем он имеет дело, оказывается человеком!
«<...> Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась. <...>
Женщина остановила взор на <...> полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:
— За что мужа расстреляли?
— За що треба, за то и расстреляли. <...>
Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:
— А вы доктор!..
Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.
— Ай-ай, — продолжала она, и глаза ее пылали, — ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..
Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.
— Вы мне говорите? — спросил я и почувствовал, что дрожу. — Мне?.. Да вы знаете...
Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:
— Хлопцы!
Когда ворвались, он сказал гневно:
— Дайте ей двадцать пять шомполов.
Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки... <...>
— Женщину? — спросил я совершенно чужим голосом.
Гнев загорелся в его глазах.
— Эге-ге... — сказал он и глянул зловеще на меня. — Теперь я вижу, якую птицу дали мне вместо ликаря...
Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, как он качался на табуретке и кровь у него бежала изо рта... <...> Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами» [13, т. 1, с. 306—307].
Яшвин — во многом двойник Булгакова, совпадают даже биографические детали. Мы не знаем, были ли эти выстрелы на самом деле. Но Михаил Афанасьевич пережил нечто подобное и также сказал свое слово о чести и бесчестии врача.
«С тяжелым чувством приступаю я к этой главе, но что делать? Из песни слова не выкинешь, — подчеркивает Вересаев в «Записках врача». — Я имею в виду врачебные опыты на живых людях. <...> Я ограничусь при этом лишь областью венерических болезней; несмотря на щекотливость предмета, мне приходится остановиться именно на этой области, потому что она особенно богата такого рода фактами» [17, с. 98].
Вересаев, например, упоминает о восемнадцати попытках профессора В.М. Тарновского привить в Калинкинской больнице сифилис женщине, никогда не страдавшей этим заболеванием, но все же «облагодетельствованной» знаменитым венерологом. Причем строки эти были опубликованы при жизни профессора, посвятившего свою прощальную лекцию... врачебной этике. Приводятся описания постановки примерно таких же «экспериментов» доцентом А.Г. Ге, доктором Р. Фоссом, профессором X. Фон-Гюббенетом... «Параллельно можно привести ничуть не меньшее количество фактов, когда врачи производили опыты над самими собою, — пишет Вересаев далее. <...> Но что безусловно вытекает из приведенных опытов (на других. — Ю.В.) и чему не может быть оправдания — это то позорное равнодушие, которое встречают описанные зверства во врачебной среде».
В «Большой медицинской энциклопедии» (1963 г.) о В. Тарновском сказано — создал училище «повивальных бабок», основал Русское сифилидологическое общество, провел съезд врачей-сифилидологов, учредил кафедру... Да, все это так, заслуги ученого неоспоримы. Но Вересаев, всего лишь писатель-врач, не смог пройти мимо иного, он увидел и эту женщину. Человечность не допускает компромиссов, врачебная профессия не терпит даже тени непорядочности, отступление от этих вечных категорий не имеет оправдания и не должно прощаться никому — вот завет Чехова, Вересаева, Булгакова.
В 1948 г. Генеральная Ассамблея Всемирной медицинской ассоциации, осуждая эксперименты фашистских врачей над военнопленными, приняла «Женевскую декларацию», где звучат фактически эти же слова и понятия: «<...> Я всеми силами буду поддерживать честь и благородные традиции медицинских профессий. Я не позволю, чтобы религия, национализм, расизм, политика или социальное положение оказывали влияние на выполнение моего долга. Я буду поддерживать высшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия; даже под угрозой я не использую мои знания в противовес законам человечности. Я даю эти обещания торжественно, от души, с чистой совестью». К «Женевской декларации», к этому международному кодексу врачебного поведения, следовало бы присовокупить и страницы произведений Антона Чехова, Викентия Вересаева и Михаила Булгакова, которые, пожалуй, первыми в литературе ударили в колокол врачебной совести.
«Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. <...> Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный» [14, с. 476].
Пройдите по киевскому млечному пути — гористому Андреевскому спуску — и остановитесь у этого дома с бронзовым ликом Булгакова. «Переведен на французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и чешский языки», — писал он в марте 1937-го, за три года до последних дней. В 1962 г. началось его обретение и русским читателем, вышла в свет «Жизнь господина де Мольера». «В литературе есть имена, как бы «находящиеся в обмороке» и медленно — к сожалению, слишком медленно — возвращающиеся к жизни», — писал В. Каверин в послесловии к этой книге. Сегодня, спустя полвека после кончины Михаила Афанасьевича и в канун столетия со дня его рождения, нельзя не задуматься над загадкой — что же дала Булгакову медицина и чем он обогатил ее. Да, он был врачом недолго. Но вместе с Чеховым и Вересаевым он озарил ее негасимым светом любви к человеку. Его истинные уроки, истинные боли так долго были в забвении, его сердце и разум, его нежность и «великолепное презренье» необычайно нужны нам. Вот он пробегает по полутемному коридору из амбулатории в аптеку, в мятом халате, за папироской, сквозь шепот и кашель больных — молодой доктор Булгаков. Вот, движимый долгом, продрогший после долгой зимней дороги, он входит в крестьянскую избу, где витает опаснейшая инфекция... Вот, с бестрепетной смелостью и величайшей осмотрительностью, в стеклянном молчании операционной, он приводит к благополучному исходу тяжелые роды, и крик новорожденного ребенка, словно голос победы над безнадежностью, колокольчиком отдается в его сердце. В галерее его духовных портретов и этот образ из далекого прошлого так ярок и органичен, без него потускнеют все остальные. Ведь в годы своей врачебной одиссеи Булгаков не просто нашел писательскую волшебную палочку. Весь свой короткий и вечный век он, думая о медицине, всматриваясь сквозь ее увеличительное стекло в своих героев, предугадывал ее тревоги — мучаясь ее несовершенством, веря в ее могущество, в ее преобразующее влияние. О булгаковском понимании сущности этой профессии и о его дагерротипе в ней можно сказать классическими словами: «Все, что есть в мудрости, все это есть в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, отвращение к пороку, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни».
«Я жадно вглядываюсь в этого человека... <...> Глаза его примечательны. Я читаю в них странную всегдашнюю язвительную усмешку и в то же время какое-то вечное изумление перед окружающим. <...> Временами он неосторожно впадает в откровенность. В другие же минуты пытается быть скрытным и хитрить. В иные мгновения он безрассудно храбр. <...> О, поверьте мне, при этих условиях у него будет трудная жизнь». Эти слова Булгакова о Мольере — одновременно и его собственный портрет. Мой Булгаков идет к вам.
Наверное, сам Михаил Афанасьевич обрисовал бы свою врачебную биографию совсем иначе. Быть может, он даже мечтал о подобных страницах. Не случайно в записной книжке, начатой в дни лечения в Барвихе, Елена Сергеевна Булгакова записала под его диктовку: «Медицина, история ее? Заблуждения ее? История ее ошибок». Но ему не было это суждено. 31 декабря 1939 года, вступая в последние свои сроки и понимая это, Булгаков писал младшей сестре Елене Афанасьевне Светлаевой: «Милая Леля, получил твое письмо. Желаю и тебе и твоей семье скорее поправиться. А так как наступает Новый год, шлю тебе и другие радостные и лучшие пожелания.
Себе я ничего не желаю <...>»
Думаю о безмерно тяжких неделях зимы сорокового года, о тающей жизни и скорой кончине Михаила Афанасьевича. Пятого февраля он диктует последние свои размышления врачебного характера в отношении самого себя. Булгаков просит отменить обременительный для него в данное время распорядок завтраков, обедов и ужинов. Желательно иметь в достаточном запасе боржоми, клюквенный морс и квашеную капусту. Видимо, все это облегчает его состояние.
Страдания все сильнее, но 3 марта, очнувшись после недолгого сна, Михаил Афанасьевич говорит, что ему представилась сцена из написанного им «Дон Кихота»... И еще несколько слов из этой трагической хроники, составленной для нас Е.С. Булгаковой. Обращаясь мыслью к Н.А. Захарову, Ф.Д. Забугину, М.М. Покровскому и другим врачам, пользующим его, Михаил Афанасьевич произносит: «Они понимают, что вылечить меня нельзя, и оттого смущены». Быть может, в эти минуты перед ним встает и его врачебный путь.
«Бывало, настанет час нашей «прогулки», — вспоминает Анна Елизаровна Пономаренко, одна из медицинских сестер, оказывавших помощь писателю, — он сначала спустит ноги с дивана (лежал он в своем кабинете), посидит немного, отдохнет. Потом подымется, опираясь правой рукой на костыль, а левой на мою руку. Высокий — я ему до плеча — и очень-очень худой в своем темно-зеленом халате. Сделаем мы. круг по большой комнате. Вижу, трудно ему. Посмотрю на него — мол, хватит уже, а он: «Нет, нет, еще раз...»
...Выходной, воскресенье. Михаил Афанасьевич задремал на диване, повернувшись лицом к стене. Мне сказал: «Вы тоже отдохните». Очень внимательным был...» Так уходил он в бессмертие.
Любить значит помнить и размышлять. Пришла пора осознать, что и булгаковская медицина является наставницей жизни, настало время возвратиться на его врачебные дороги, вслушаться в его врачебные заповеди. Ибо и они — «дыхание какого-то нравоучения», учения о добре и мужестве. Именно эти истины Михаила Булгакова освещают раздумья о нем.
Примечания
1. Сопоставление текста повести «Записки на манжетах» с публикацией во владикавказских газетах 20-х годов принадлежит Г.С. Файману.
2. Воспоминания П.Н. Зайцева приводятся М.О. Чудаковой в послесловии к книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове» (1988 г.).
3. Автор выражает признательность З.Д. Давыдову за возможность ознакомиться с копией этого письма из архива М.А. Волошина.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |