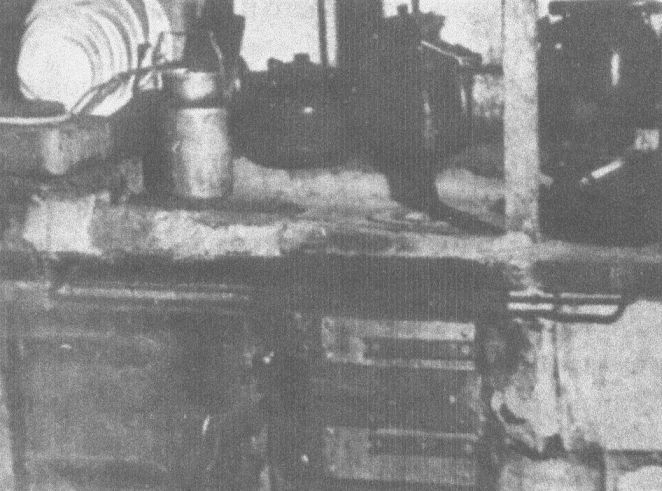«Квартирный вопрос» — надпись на одной из дверей помещения МАССОЛИТа — одна из важнейших тем романа. Это не только социальный, но и морально-этический вопрос.
«Самый ужасный вопрос в Москве — квартирный», — писал Булгаков своей сестре Вере Афанасьевне весной 1922 г.
О раннем периоде жизни писателя в Москве вспоминает И. Раабен, помогавшая Булгакову в перепечатке рукописей. «Первое, что мы стали с ним печатать, были "Записки на манжетах". Он приходил каждый вечер, часов в 7—8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку. Он упомянул как-то, что ему негде писать. О своей жизни он почти не рассказывал — лишь однажды сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около двухсот верст от Воронежа пешком: не было денег. <...>
Было видно, что жилось ему плохо, я не представляла, чтобы у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Он обогревался в нашем доме, хотя мы сами жили тогда бедно. <...> Он был голоден, я поила его чаем с сахарином, с черным хлебом. <...> Однажды он пришел веселый: "Кажется, я почувствовал почву под ногами". Он поступил тогда секретарем ЛИТО Наркомпроса. <...> Он жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: "Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки". И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой» (Раабен. В начале двадцатых. С. 128—129; рассказ приведен в записи М. Чудаковой).
«Квартирный вопрос» для Булгакова не сводился ни к его личным проблемам (хотя Булгаков и страдал от жилищных неудобств почти всю свою московскую жизнь), ни даже к быту большинства москвичей (за исключением крохотной элиты). Это кардинальный вопрос бытия, не быта. «Условимся раз и навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может», — писал Булгаков в очерке «Москва 20-х годов» (1924). В этом утверждении не одна только тоска человека, годами обреченного на бездомные скитания. Дом противостоит «вьюге» и «Смуте», дом — опора личности (недаром мятущийся Иван носит фамилию Бездомный, которая — добавим для расширения ассоциативного ряда — сближает его также с Мастером и, опосредованно, с Иешуа). Даже две комнатенки в подвале с отдельным входом (не коммуналка, как на Мясницкой!) кажутся Мастеру земным раем: «Ах, это был золотой век! Совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. <...> И в печке у меня вечно пылал огонь!» В лирическом описании Мастером его крохотной и убогой квартирки выражено то же отношение к дому как необходимой опоре частной жизни лица, что и в описании огромной богатой квартиры Турбиных в «Белой гвардии».
Дом у Булгакова защищает человека от противостоящего ему страшного внешнего мира: «И наконец настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь.
— Ия вышел в жизнь, держа его (роман. — К.А.) в руках, и тогда моя жизнь кончилась».
«Пока у меня нет квартиры, я не человек, а лишь полчеловека», — пишет Булгаков в дневнике 18 сентября 1923 г. Дом, очаг, свет лампы под абажуром в творчестве Булгакова представлены как основа бытия, без которой не может существовать личность. Новый строй нес «коммуналку».
«...Сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах — квартир в Москве нету.
Как же там живут?
А вот так-с и живут.
Без квартир.
Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова "квартира" и словом этим наивно называют что попало», — пишет Булгаков в уже упомянутом очерке «Москва 20-х годов».
С отвращением описывает он коммунальный быт одного из своих приятелей в дневниковой записи от 5 января 1925 г.:
«"Чем все это кончится?" — спросил у меня сегодня один приятель.
Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире как раз в этот момент в комнате через коридор пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью. И один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный, как свинья.
Печка в «подвале» в Мансуровском переулке. Снимок 70-х годов, когда там была просто жилая квартира
Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне, и потом их ругает. Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую». (Знаменательно в этой записи последнее слово: не «верю», а «верую». Вырвавшееся в сугубо личной записи, безо всякой аффектации, оно красноречиво свидетельствует об отношении писателя к религии.)
В «Мастере и Маргарите» героиня мельком видит перепалку двух соседок на коммунальной кухне. «Обе вы хороши», — говорит Маргарита.
Засилье коммуналки происходит не по причине нищеты, а потому, что строй этот был рассчитан на уничтожение личности. (Вспомним восторженное отношение к коммунальному общежитию древних ацтеков в стихотворении Маяковского «Мексика»:
«Здесь из зыби вод вставал Пуэбло, / Дом-коммуна в десять тысяч комнат».)
Общежитие позволяло установить тотальный контроль над поведением каждого лица, оно развивало в людях зависть и злобу, делало доносительство гражданской доблестью.
Воланд, посетивший Москву, чтобы посмотреть, изменились ли люди, приходит к неутешительному выводу: «...люди как люди <...>. В общем напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...» Действительно, после смерти Берлиоза жильцы дома написали тридцать два заявления на получение его жилплощади. «В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы» вплоть до двух обещаний покончить жизнь самоубийством и одного признания в тайной беременности.
Алоизий Могарыч доносит на Мастера, чтобы завладеть его комнатами в подвале. Поплавский, дядя Берлиоза, спешит в Москву, чтобы прописаться в квартире погибшего племянника: ведь «квартира в Москве — это серьезно!»...
Даже писатели, те, которые рангом пониже, не получившие квартир в вожделенном «Доме Драмлита», страдают из-за плохого жилья. В ранней редакции романа была сцена собрания писательского жилищного кооператива, где бурно обсуждался «квартирный вопрос»:
«В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом. Изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых исступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая...
Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.
— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот, — я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать трех детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тринадцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет, не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной в квартире... И я! Я! Не попала в список. Товарищи!
Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.
— Я! И кто же? Кто? Дант, учившаяся на зубоврачебных курсах, Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых. Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!» (цит. по: «Мой бедный, бедный мастер...». С. 957—958).
В этой обстановке фальшью звучат стихи Маяковского «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» (1928):
Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!..
. . . . . . . . . . . .
Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —
влазь.
Влажу и думаю:
— Очень правильная
эта,
наша,
Советская власть.
Находятся и предприимчивые москвичи, умеющие расширить свою жилплощадь безо всякой черной магии. Один такой случай рассказывает Маргарите Коровьев: «Я впрочем, знавал людей, не имеющих никакого представления не только о пятом измерении, но вообще ни о чем не имеющих никакого представления и тем не менее проделывавших совершеннейшие чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.
Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы — одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась».
А. Зеркалов в монографии «Этика Михаила Булгакова» справедливо сопоставляет тему «квартирного вопроса» в «Мастере и Маргарите» с произведениями Достоевского. Макар Девушкин из «Бедных людей» живет в комнатенке, выгороженной из кухни, каморка Раскольникова похожа на гроб, в ужасающих условиях живут семьи Мармеладовых и Снегиревых... Раскольников признается: «А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру!» Мастер, вспоминая свою комнату на Мясницкой, по сути, повторяет слова Раскольникова: «Уу, проклятая дыра!» Вспомним схожий образ у Маяковского в поэме «Про это»:
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр...
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |