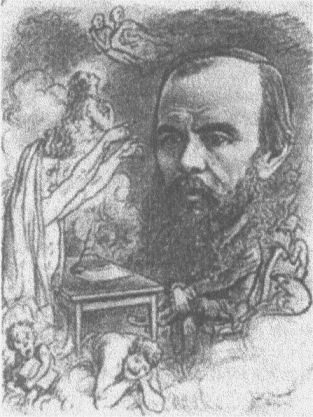Имя Достоевского упоминается лишь в одном эпизоде «Мастера и Маргариты». Однако представляется, что Федор Михайлович присутствует в «закатном» романе в глобальном смысле, возможно, не менее, чем Гёте, несмотря на эксплицитность фаустианской темы. С Достоевским связь менее очевидная, но более глубинная и всеобъемлющая.
То, что составляет главный нерв основной проблематики центральных романов Достоевского — справедливость/несправедливость мироустройства, трагический взгляд на историческую перспективу, оправданность/ неоправданность существования зла как антипода добра, преступление и возмездие, вера и неверие, Бог и дьявол, попытка понять, что есть истина и возможно ли достижение общечеловеческой гармонии, — все эти «больные» вопросы весомо присутствуют в романе Булгакова, и в ершалаимских, и в московских главах, несмотря на буффонную тональность последних.
Могут возразить, что перечисленные темы можно найти в любом значительном произведении, однако у Достоевского они присутствуют, как редко у кого, открыто, почти публицистично, в полемических спорах персонажей. Ту же полемическую тональность и огромную роль диалогов находим и у Булгакова. (Вспомним важность «правильного» разговора, о котором «двенадцать тысяч лун» мечтает Пилат и который все же состоялся между ним и Иешуа в финале романа.)
Даже создается впечатление, что беседы Ивана Карамазова и Алеши, Ивана и черта могут быть органично вплетены в диалоги булгаковских персонажей, и тогда возникнет какая-то общая дискуссия с характерной для обоих писателей амбивалентностью позиций.
В некоторых ранних редакциях романа Булгакова перекличка с Достоевским более очевидна. Так, тема справедливости мироустройства и оправданности страдания возникает в одной из редакций в сцене пожара, которым охвачена вся Москва. Мастер (кстати, здесь он впервые назван Мастером — в речи Азазелло), видит ужас мальчишки, оказавшегося на балконе горящего дома: «Мальчишка с белым лицом устремился прямо к решетке балкона, глянул вниз, и ужас выразился на его лице. Он побежал к другой стороне балкона, примерился там, убедился, что высота такая же. Тогда лицо его исказилось судорогой, он устремился назад к балконной двери, открыл ее, но ему в лицо ударил дым. Мальчишка проворно закрыл ее, вернулся на балкон, тоскливо посмотрел на небо, тоскливо оглядел двор, потом уселся на маленькой скамеечке посредине балкона и стал глядеть на решетку...» Поэт, «разводя руками», вопрошает Азазелло совершенно в духе Ивана Карамазова:
«— Но дети? Позвольте! Дети!» (Великий канцлер. С. 184—185).
Этот крик повторяет слова Ивана даже в звуковом отношении:
«Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к "боженьке". Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял, но эти, эти!» (курсив в обоих случаях мой. — К.А.)
У Булгакова, совсем по Ивану, черт карает тех, «кто яблоко съел», однако в сцене с глобусом убит и ребенок, который «еще не успел нагрешить» И вновь можно увидеть перекличку с Достоевским: «Я хотел заговорить о страданиях человечества вообще, — говорит Иван, — но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. <...> Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих <...> съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь, на земле непонятное».
Тема преступления и наказания, а также милосердия в значительной мере связана не только с деятельностью Воланда и его подручных, а в ершалаимских главах — с убийством Иуды и поведением Левия Матвея во время казни, но и с образом Маргариты. Она, в соответствии с общеизвестной фразой Достоевского «Красота спасет мир», выступает в романе гармонизирующим началом, даже воплощением милосердия. Ведь именно она спасает Мастера, Фриду, утешает (а в ранних редакциях спасает) испуганного мальчика в доме Драмлита. Она пытается вступиться за Пилата.
Федор Михайлович Достоевский. Литография с оригинала Ф. Валлотона
С первой же сцены романа, со встречи на Патриарших прудах, возникает тема веры/неверия, Бога и дьявола. Иностранный профессор говорит Берлиозу: «Но, умоляю вас, на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует». И карамазовский черт ерничает: «Это в Бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». Неверие Берлиоза в «жизнь будущую», за что он на бале у сатаны, на пороге «жизни будущей» получил «по вере своей» небытие, перекликается, естественно контрастируя, с рассказанной карамазовским чертом «Легендой об рае» о мыслителе и философе, который отвергал «законы, совесть, веру» и «будущую жизнь». «Помер, думал что прямо во мрак и смерть, — ан перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: "Это, говорит, противоречит моим убеждениям"...»
Вера и у Достоевского, и у Булгакова включает и веру в добрую натуру человека, и мечту о всеобщей гармонии. «Ты <...> окончательно потерял веру в людей», — говорит Иешуа Пилату. «Безумный мечтатель» убежден, что «злых людей нет на земле».
Великий инквизитор говорит Иисусу: «Ты судил о людях слишком высоко <...> человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал <...> Он слаб и подл». Не может заставить себя полюбить людей и Иван Карамазов («Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда»; «Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо»).
Пилата иногда сравнивают с Великим инквизитором в основном из-за его спора с Иешуа о доброй природе человека и из-за неверия в возможность наступления «царства истины и справедливости». Однако духовно ближе Великому инквизитору идеологический противник Пилата первосвященник Каифа (заметьте: он тоже носит духовный сан), который бесстрашно идет на конфликт с прокуратором, отстаивая не личную выгоду, а идею. Как и инквизитор, он готов убить «обольстителя народа», и убить, как он полагает, из благих побуждений, из любви к тому самому народу («...я, первосвященник иудейский, не дам на поругание веру и защищу народ!»).
И Воланда и Коровьева можно соотнести с чертом, явившимся в кошмаре Ивану Карамазову. Причем Коровьева даже в большей степени благодаря глумливому гаерскому тону разговора и одежде (карамазовский черт — в узких клетчатых панталонах; Коровьева по его костюму даже называют «клетчатый»; заметим, что и кошмар Алексея Турбина в «Белой гвардии» тоже назван «клетчатым»). Отсюда можно сделать смелый вывод, что и Иван (так как черт, собственно, порождение его сознания, его двойник) тоже соотнесен с Коровьевым.
Это проливает свет на истинную ипостась Коровьева — «темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим, никогда не улыбающимся лицом».
Безусловно, здесь нет прямого отождествления, но ассоциативная цепочка «Коровьев — черт (он же клетчатый джентльмен) в "Братьях Карамазовых" — Иван Карамазов» все же существует. (См. подробнее статью «Фиолетовый рыцарь».)
Карикатура на Ф.М. Достоевского, автора «Бесов»
Связь Коровьева с Достоевским, пусть опосредованно, через его персонажа (у Булгакова такие детали всегда значимы), появилась и в сцене посещения Коровьевым и Бегемотом ресторана «Грибоедов». Когда при входе «гражданка в белых носочках» не пропускает посетителей, не имеющих массолитовских удостоверений, Коровьев пытается урезонить ее:
«— ...чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. <...>
— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.
— Ну, почем знать, почем знать, — ответил тот.
— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
— Протестую, — горячо воскликнул Бегемот, — Достоевский бессмертен!»
(См. также статью «Коровьев».)
Выше было сказано, что Достоевский присутствует в «Мастере и Маргарите», быть может, даже более, чем Гёте. Однако это принципиально разные связи. Переклички с Гёте актуализованы, сознательно введены автором в текст романа. Переклички с Достоевским, за исключением, пожалуй, ситуации с темно-фиолетовым рыцарем, возникают подспудно. Достоевский, быть может, и неосознанно постоянно присутствует в романе, так как автора мучит тот же круг проблем, что и Достоевского.
В этом смысле характерны слова из письма Елене Сергеевне друга Булгакова Павла Попова уже после смерти Булгакова: «Идеология романа грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все еще ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над i. В этом отношении я бы сравнил с "Бесами" Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность — безусловная антиреволюционность. Меня "Бесы" тоже пленяют своими художественными красотами — но из песни слова не выкинешь — и идеология крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству — если бы изъять идеологию "Бесов", не было бы так выразительно».
Вот эта-то общая «идеология» и сближает Булгакова с Достоевским.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |