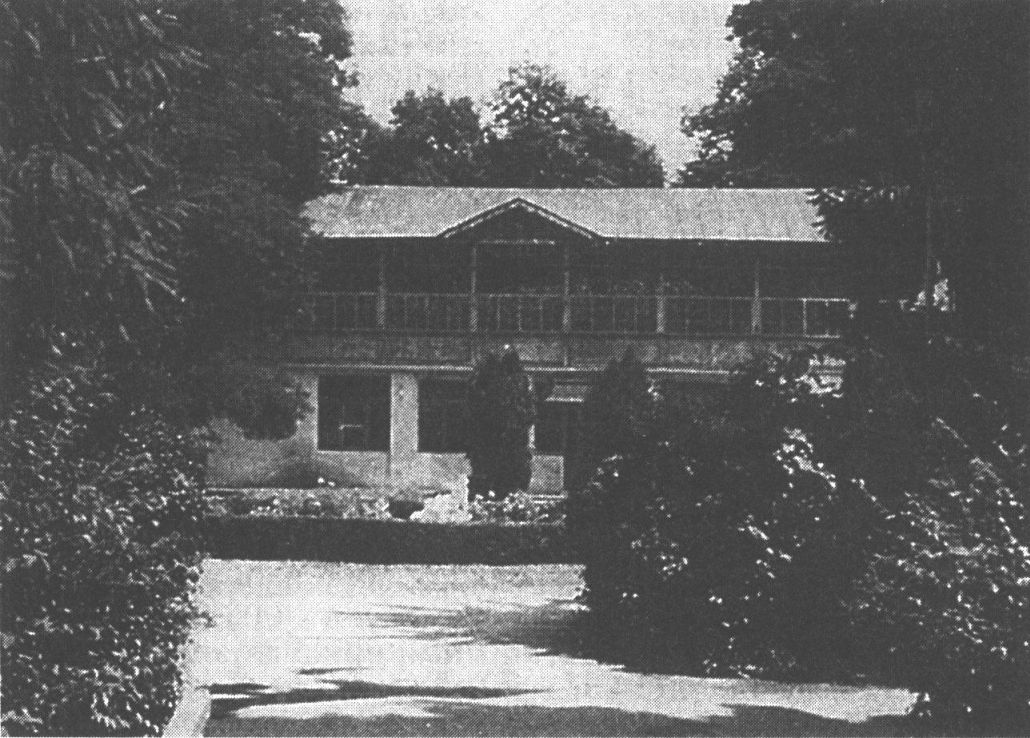«ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ», повесть, при жизни Булгакова целиком под одной обложкой не публиковавшаяся. Первая часть З. на м. опубликована: Накануне, Берлин; М., 1922, 18 июня. Литературное приложение. Републикована с разночтениями, изъятиями и добавлениями: Возрождение. М., 1923, № 2. Отрывки из первой части перепечатаны (с некоторыми добавлениями): Бакинский рабочий, 1924, 1 янв. Вторая часть З. на м. опубликована: Россия. М., 1923, № 5. Обе части впервые опубликованы вместе (по текстам «Возрождения» и «России» с добавлением пропущенных фрагментов из «Накануне» и «Бакинского рабочего»): Театр. М., 1987, № 6. Во всех прижизненных публикациях повести имеется ряд купюр. Есть основания полагать, что существовал более полный текст З. на м., который Булгаков читал на собрании литературного общества «Никитинские субботники» в Москве 30 декабря 1922 г. и 4 января 1923 г.
В протоколе заседания 30 декабря 1922 г. было зафиксировано: «Михаил Афанасьевич в своем предварительном слове указывает, что в этих записках, состоящих из 3-х частей, изображена голодная жизнь поэта где-то на юге (возможно, называя главного героя З. на м. поэтом, Булгаков стремился создать впечатление, что он не столь автобиографичен, как это казалось слушателям. — Б.С.).
Писатель приехал в Москву с определенным намерением составить себе литературную карьеру. Главы из 3-й части Михаил Афанасьевич и читает». 4 января 1923 г. Булгаков прочел отрывки из первых двух частей. 19 апреля 1923 г. он получил проект договора АО «Накануне» об отдельном издании З. на м., где указанны объем будущей книги: «приблизительно 4 и ¼ (четыре и одна четверть) печатного листа» и размер гонорара: 8 долларов за лист. Возражения Булгакова вызвал 10-й пункт проекта договора: «Если по требованию цензуры потребуются сокращения книги, то Булгаков не будет возражать против них, и АО «Накануне» вправе их произвести». 20 апреля 1923 г. Булгаков писал директору-распорядителю АО «Накануне» П.А. Садыкеру:
«На безоговорочное сокращение согласиться не могу. Этот параграф 10 необходимо исключить или переработать совместно. Во всем остальном договор вполне приемлем мною». Разногласия были урегулированы, писатель сдал рукопись в издательство и получил полный гонорар в размере 34 долларов США.
31 августа 1923 г. Булгаков сообщал своему другу, писателю Юрию Львовичу Слезкину (1885—1947), что волнуется о судьбе книг, которые «Накануне» должно издать в Берлине: «По слухам, они уже готовы (первыми выйдут твоя и моя). Интересно, выпустят ли их. За свою я весьма и весьма беспокоюсь. Корректуры они мне, конечно, и не подумали прислать».
З. на м. в Берлине так и не вышли, и рукописей или корректур, относящихся к этому изданию, до сих пор не обнаружено. В незаконченной повести «Тайному другу» (1929) Булгаков описал финал этой истории: «Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна: над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине».
Автор З. на м. пытался опубликовать повесть также в издательстве «Недра». 26 мая 1924 г. он писал секретарю «Недр» Петру Никаноровичу Зайцеву (1889—1970): «Оставляю Вам «Записки на манжетах» и убедительную просьбу поскорее выяснить их судьбу. В III части есть отрывок, уже печатавшийся. Надеюсь, что это не смутит Николая Семеновича (Ангарского (Клестова) (1873—1941), возглавлявшего «Недра». — Б.С.). При чтении III части придется переходить от напечатанных отрывков к писанным на машине, следя за нумерацией глав, я был бы очень рад, если бы «Манжеты» подошли. Мне они лично нравятся». Однако публикация в «Недрах» по цензурным или иным причинам не состоялась.
Известный сегодня текст З. на м. составляет около 1,5 печатных листов, т. е. чуть более трети от общего объема булгаковской рукописи, сданной в «Накануне». Опубликованные фрагменты повести делятся на две, а не на три части. Судя по цитированному письму Булгакова П.Н. Зайцеву от 26 мая 1924 г., в рукописи третьей частью были московские сцены З. на м., опубликованные в журнале «Россия» как вторая часть. Можно предположить, что при подготовке отдельного издания З. на м. Булгаков разбил кавказские сцены, опубликованные в альманахе «Возрождение» как первая часть, на две части: первую — где действие происходит во Владикавказе, и вторую, в которой автобиографический герой посещает Тифлис и Батум. Характерно, что последние 6 глав первой части З. на м., связанные с этими двумя городами, были опубликованы в газете «Бакинский рабочий». Вероятно, они относились в авторской рукописи ко второй части З. на м. Такое разделение повести на части подтверждается и протоколом «Никитинских субботников», где третья часть связывается с Москвой, а первые две — с Кавказом.
К сожалению, неизвестно содержание неопубликованной большей части текста З. на м., очевидно, вызвавшей основные цензурные претензии. Однако и опубликованные фрагменты повести вряд ли понравились цензорам. Особенно это касается запечатленного здесь диспута об Александре Пушкине (1799—1837). Он состоялся во Владикавказе летом 1920 г. В З. на м. автор на диспуте кладет на обе лопатки докладчика — местного поэта «с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе». Докладчик Пушкина «обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами», предложив в заключение «Пушкина выкинуть в печку». Отчет, помещенный во владикавказской газете «Коммунист», показывает, что Булгаков в З. на м. довольно точно передал суть доклада ее главного редактора Г.И. Астахова: «Пушкин — типичный представитель либерального дворянства, пытавшегося «примирить» рабов с царем...
Владикавказ. Летняя читальня в парке Трек. Здесь летом 1921 г. проходил диспут о Пушкине, в котором участвовал М.А. Булгаков
И мы с спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся».
Возражения же Булгакова, в З. на м. переданные пушкинским «ложная мудрость мерцает и тлеет перед солнцем бессмертным ума...», в газетном изложении с подзаголовком «Волк в овечьей шкуре» звучали куда менее поэтично:
«...С большим «фонтаном» красноречия и с большим пафосом говорил второй оппонент — литератор Булгаков. Отметим... его тезисы... дословно: бунт декабристов был под знаком Пушкина и Пушкин ненавидел тиранию (смотри письма к Жуковскому: «Я презираю свое отечество, но не люблю, когда говорят об этом иностранцы»); Пушкин теоретик революции, но не практик — он не мог быть на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина закрыта завеса: в этом глубокая тайна его творчества. В развитии Пушкина наблюдается «феерическая кривая». Пушкин был «и ночь, и Лысая гора» приводит Булгаков слова поэта Полонского, и затем — творчество Пушкина божественно, лучезарно; Пушкин — полубог, евангелист, интернационалист (sic!). Он перевоплощался во всех богов Олимпа: был и Вакх, и Бахус, и в заключение: на всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, гуманности, отвращение к убийству, к насилию и лишению жизни человека — человеком (на эту минуту Булгаков забывает о Пушкинской дуэли). И в последних словах сравнивает Пушкина с тем существом, которое заповедало людям: «Не убий».
Все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска и в тезисах, и во всех ухищрениях вознести Пушкина. Все нелепое, грязное, темное было покрыто «флером тайны», мистикой. И немудрящий, не одурманенный слушатель вправе спросить: Да, это прекрасно, «коли нет обмана», но что же сделало Божество, солнечный гений — Пушкин, — для освобождения задушенного в тисках самовластия Народа? Где был Пушкин, когда вешали хорошо ему знакомых декабристов и ссылали остальных, пачками, в Сибирскую каторгу. Где был гуманный «подстрекатель бунта»?»
В З. на м. Булгаков дословно привел отзывы своих противников: «Я — «волк в овечьей шкуре». Я — «господин». Я — «буржуазный подголосок»».
Астахов же, взяв слово после выступления Булгакова, охарактеризовал великого поэта почти так же, как и безымянный докладчик у Булгакова: «Камер-юнкерство, холопская стихия овладела Пушкиным, и написать подлинно революционных сочинений он не мог». Редактор «Коммуниста» апеллировал «не к буржуазному пониманию, а к простому, пролетарскому смыслу». А «буржуазная» аудитория булгаковское выступление встретила восторженно. В З. на м. об этом говорится довольно скупо: «В глазах публики читал я безмолвное, веселое: — Дожми его! Дожми!» В газетном отчете, написанном недружественно по отношению к Булгакову, реакция зрителей изображена подробнее: «Что стало с молчаливыми шляпками и гладко выбритыми лицами, когда заговорил литератор Булгаков.
Все пришли в движение. Завозились, заерзали от наслаждения.
«Наш-то, наш-то выступил! Герой!»
Благоговейно раскрыли рты, слушают.
Кажется, ушами захлопали от неистового восторга.
А бывший литератор (интересно, что «бывший» здесь — не в значении, что прежде был литератором, а теперь сменил профессию, а в смысле принадлежности к «бывшим» — людям, чье общественное положение было поколеблено революцией. — Б.С.) разошелся.
Свой почуял своих, яблочко от яблони должно было упасть, что называется, в самую точку.
И упало.
Захлебывались от экстаза девицы.
Хихикали в кулачок «пенсистые» солидные физиономии.
— Спасибо, товарищ Булгаков! — прокричал один.
Кажется, даже рукопожатия были.
В общем, искусство вечное, искусство прежних людей полагало свой триумф».
Подобное единение зрителей с происходящим на сцене Булгакову довелось позднее видеть в Москве, когда во МХАТе шла его пьеса «Дни Турбиных». Но в З. на м. есть и пример другого рода «единения» во время премьеры «революционной» пьесы «Сыновья муллы», которого сам драматург скорее опасался:
«В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:
— Ва! Подлец! Так ему и надо! — И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»
За кулисами пожимали руки:
— Пирикрасная пыеса!
И приглашали в аул (в аул Булгаков благоразумно не поехал. — Б.С.)».
В З. на м. автор стоит на позициях христианского гуманизма, в чем справедливо обвиняли его оппоненты на пушкинском диспуте, хотя по цензурным и художественным соображениям об этом автор не заявляет прямо: «Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!»
Позднее Булгаков продолжил пушкинскую тему пьесой «Александр Пушкин», где гениальный поэт показан жертвой враждебного светского окружения, приближенных царя. Возможно, создавая эту пьесу, Булгаков помнил и о пушкинском диспуте, о той травле, которой подвергли поэта и вставшего на его защиту автора З. на м. владикавказские ревнители пролетарской культуры.
Неожиданно в повести возникает тень русского философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900). Герой З. на м. цитирует пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный» (1829) в таком невеселом контексте: «Голодный, поздним вечером, иду в темноту по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаяньем я пьян. И бормочу:
— Александр Пушкин. Lumen coeli, Sancta Rosa (Свет небес, святая Роза (лат.). — Б.С.). И как гром его угроза.
Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали (предмет театра-кабаре, значимый символ модернизма Серебряного века превращается в сосуд для испражнений, олицетворяя крайнее опошление «чистого искусства» революцией. — Б.С.). Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну» (тут вспоминается тоже пушкинское: «Не продается вдохновенье...»).
Вариант «Lumen coeli», грамматически более правильный, вместо пушкинского «Lumen coelum», печатался во всех изданиях сочинений Пушкина, начиная с 1841 г., пока в 1910 г., в собрании под редакцией С.А. Венгерова (1855—1910) не была внесена поправка по автографу поэта. Однако прежний вариант употребил не только Булгаков, но и племянник философа Сергей Михайлович Соловьев (1885—1942) — поэт-символист и богослов, свидетельствовавший, что пушкинское стихотворение о бедном рыцаре было одним из любимых в их семье. В статье «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева» (1913) С.М. Соловьев утверждал: «В русском народе почитание Богоматери не слабее, чем в католичестве, но носит иной характер: оно является преимущественно как почитание многострадальной матери, утоляющей печали. Православное чувство ужаснулось бы от наименования Богородицы «богиня». Между тем это наименование, постоянное в стихах Соловьева, не оскорбит слух католика. Богородица Ватиканского собора действительно богиня. Вот то тайное, что связывало Соловьева с католичеством:
Lumen coeli, Sancta Rosa.
Этой Sancta Rosa не находил он в Московском периоде нашей истории и потому отрицал его. В Киеве, осененном куполом Софии, рядом с католической Польшей, он почувствовал родной воздух».
Пушкинские строки для В.С. Соловьева олицетворяли католический культ Мадонны и соответствовали духу его учения о св. Софии, Премудрости Божией. У Булгакова те же строки через скрытую отсылку к статье С.М. Соловьева напоминали читателям, что герой-рассказчик вынужден был из-за гражданской войны покинуть родной Киев с храмом св. Софии. Он также пытается достичь и другой Софии, константинопольской — мечети Айя-София, но ему так и не удается отплыть из Батума в Стамбул.
В З. на м. Булгаков признается, что в 1921 г. имел намерение эмигрировать и именно с этой целью добирался от Владикавказа до Батума: «...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!» Однако эмиграция сорвалась из-за отсутствия денег, которых не оказалось у Булгакова, чтобы заплатить капитану судна, идущего в Константинополь: «На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем...
Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..
Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь».
Т.Н. Лаппа, первая жена Булгакова, подтверждает намерение автора З. на м. эмигрировать из Батума: «В Батуме мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже все пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся: где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что это мы уже навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся».
Таким образом, только отсутствие денег у Булгакова летом 1921 г. помешало его эмиграции и заставило отправиться искать приложения своих литературных способностей в Москве, как это и запечатлено в З. на м. Вероятно, и в случае эмиграции Булгаков состоялся бы литературно, но это был бы совсем другой писатель. Как знать, не занял ли бы тогда в его творчестве Париж место Киева и Москвы?
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |