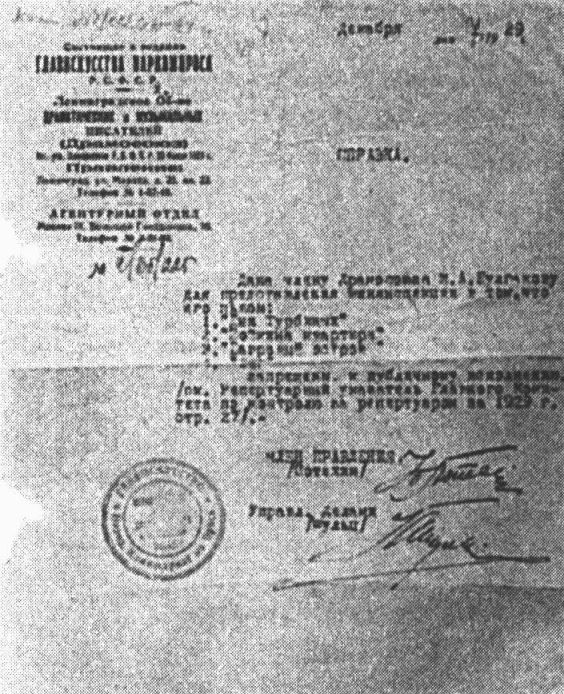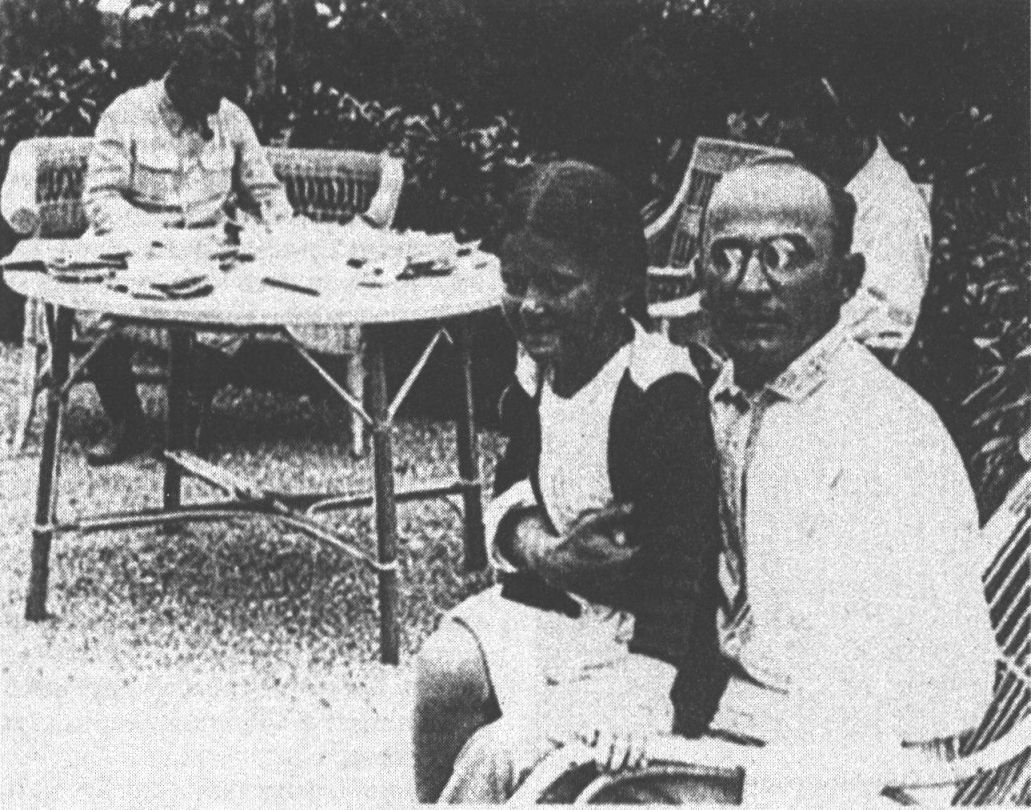СТАЛИН (настоящая фамилия Джугашвили), Иосиф Виссарионович (1878—1953), советский государственный и партийный деятель, диктатор в 1924—1953 гг. Он стал главным героем пьесы «Батум» и адресатом нескольких булгаковских писем.
С. родился 6/18 декабря 1878 г. (традиционная дата рождения, укоренившаяся в мифологизированной сталинской биографии и в сознании людей, — 9/21 декабря 1879 г.) в г. Гори Тифлисской губернии (ныне — Грузия) в семье грузинского сапожника (мать — осетинка). В 1894 г. окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию. В 1896 г. начал принимать активное участие в работе марксистских кружков в семинарии, в 1898 г. стал членом группы «Месамедаси» — первой грузинской социал-демократической организации. В 1899 г. исключен из семинарии в связи с пропагандой марксизма. В апреле 1902 г. за организацию рабочей демонстрации в г. Батуме С. был арестован и осенью 1903 г. выслан на 3 года в Восточную Сибирь, но в начале 1904 г. из ссылки бежал.
С. принадлежал к фракции большевиков Российской Социал-демократической Рабочей Партии (в дальнейшем — Российская Коммунистическая Партия (большевиков), Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) и Коммунистическая Партия Советского Союза). Неоднократно арестовывался и ссылался. Последний раз был сослан в феврале 1913 г. на 4 года в Туруханский край. В декабре 1916 г. С. мобилизовали в армию и направили в г. Ачинск, где его застала весть о Февральской революции. В марте 1917 г. С. вернулся в Петроград, где вошел в состав редакции центрального органа большевиков — газеты «Правда». С января 1912 г. он являлся членом ЦК РСДРП (б), а в мае 1917 г. вошел в состав Политбюро.
Считался в партии теоретиком национального вопроса. После победы Октябрьской революции С. стал наркомом по делам национальностей и членом ВЦИК, а с марта 1919 г. — наркомом государственного контроля, реорганизованного позднее в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции. В 1918—1920 гг. был членом Реввоенсовета Республики и реввоенсоветов ряда фронтов. Как член Политбюро и один из руководителей правительства С. был активным проводником политики красного террора, провозглашенной после покушения на В.И. Ленина 30 августа 1918 г. 3 апреля 1921 избран генеральным секретарем ЦК партии. Находился на этом посту до октября 1952 г., а затем, в связи с упразднением этой должности, остался просто секретарем ЦК. После смерти В.И. Ленина 21 января 1924 г. С. сделался фактически единоличным руководителем партии и государства. 6 мая 1941 г. стал председателем Совнаркома СССР, с июля 1941 г. — наркомом обороны, а с августа того же года — Верховным Главнокомандующим. 27 июня 1945 г. С. было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза.
В период своего правления С. неоднократно организовывал кампании массового террора против своих оппонентов в партии и различных социальных и национальных групп населения страны. Скончался 5 марта 1953 г. от последствий инсульта. Похоронен в Москве, первоначально в Мавзолее В.И. Ленина, а после 1961 г. — у Кремлевской стены. Автор книг «Вопросы ленинизма», «О Великой Отечественной войне Советского Союза», «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) и др.
Первым браком С. был женат с 1903 г. на Екатерине Семеновне Сванидзе, умершей в 1907 г. От этого брака родился сын Яков (1907—1944). Второй раз С. женился на Надежде Сергеевне Аллилуевой (1901—1932) весной 1918 г., но зарегистрирован их брак был в марте 1919 г. В ноябре 1932 г. Н.С. Аллилуева покончила с собой. От этого брака остались сын Василий (1921—1962) и дочь Светлана (1926 г. рождения).
Знакомство Булгакова со С. состоялось после булгаковского письма от 28 марта 1930 г., адресованного Правительству СССР. Писатель просил, обращаясь «к гуманности Советской власти», «великодушно отпустить на свободу», поскольку он «не может быть полезен у себя в отечестве». Автор письма особо выделил следующее: «Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ, ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ».
К тому времени все булгаковские пьесы были запрещены, а проза в советских изданиях более не печаталась. Булгаков подчеркивал, что получает — «несмотря на свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ — аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР». Писатель предлагал и другой вариант своей судьбы: «Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера... Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко».
Об обстоятельствах создания этого письма и его последствиях вспоминала третья жена писателя, Е.С. Булгакова. 4 января 1956 г. она сделала в своем дневнике следующую мемуарную запись: «Когда я с ним познакомилась (28 февраля 1929 года) — у них было трудное материальное положение. Не говорю уж об ужасном душевном состоянии М.А. — все было запрещено (то есть «Багровый» и «Зойкина» уже были сняты, а «Турбиных» сняли в мае 1929 г.). Ни одной строчки его не печатали, на работу не брали не только репортером, но даже типографским рабочим. Во МХАТе отказали, когда он об этом поставил вопрос.
Словом, выход один — кончать жизнь. Тогда он написал письмо Правительству. Сколько помню, разносили мы их (и печатала ему эти письма я, несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется, адресатами были:
И.В. Сталин
Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (тогда нарком просвещения) и Ф. Кон. Письмо в окончательной форме было написано 25 марта, а разносили мы его 31-го и 1-го апреля (1930 года).
3 апреля, когда я как раз была у М.А. на Пироговской, туда пришли Ф. Кнорре и П. Соколов (первый, кажется, завлит ТРАМа (Театра Рабочей Молодежи, ныне — Московского Театра Ленинского Комсомола. — Б.С.), а второй — директор) с уговорами, чтобы М.А. поступил режиссером в ТРАМ (первый очевидный результат письма от 28 марта 1930 г. — Б.С.). Я сидела в спаленке, а М.А. их принимал у себя в кабинете. Но ежеминутно прибегал за советом. В конце концов, я вышла, и мы составили договор, который я и записала, о поступлении М.А. в ТРАМ («консультантом по драматической части». — Б.С.). И он начал там работать. А 18-го апреля часов в 6—7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Большом Ржевском и рассказал следующее.
Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба (вторая жена писателя, Л.Е. Белозерская, упомянутая в письме от 28 марта 1930 г. — Б.С.) его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают.
М.А. не поверил, решил, что розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Да, да.
— Сейчас с Вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:
— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич — не помню точно).
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — вас пустить за границу? Что — мы вам очень надоели?
И.В. Сталин. Автолитография В.И. Шухаева
М.А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал), что растерялся и не сразу ответил:
— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами...
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
— Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Но встречи не было. И всю жизнь М.А. задавал мне один и тот же вопрос: почему Сталин раздумал? И всегда я отвечала одно и то же: а о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал, после того твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах, — разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художника писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это?
На следующий день после разговора М.А. пошел во МХАТ, и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление...
— Да боже ты мой! Да пожалуйста!.. Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М.А. написал заявление).
И его зачислили ассистентом-режиссером во МХАТ (заявление Булгакова во МХАТ датировано 10 мая 1930 г. — Б.С.). Первое время он совмещал с трамовской службой, но потом отказался там.
И.В. Сталин. 1920-е гг.
Вспоминала и рассказывала рассказ Александра Николаевича Тихонова (редактора серии «ЖЗЛ» А.Н. Тихонова (Сереброва) (1880—1956). — Б.С.). Он раз поехал с Горьким (он при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского «Самоубийцу». Сталин сказал Горькому:
— Да что! Я ничего против не имею. Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!
Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году, и в Москве после эвакуации — я встретила его около МХАТа». (Этот разговор С. с Максимом Горьким (А.М. Пешковым) (1868—1936) и Тихоновым насчет Николая Робертовича Эрдмана (1900—1970) и Булгакова происходил осенью 1931 г., когда шла безуспешная борьба за постановку «Самоубийцы».)
Л.Е. Белозерская в своих мемуарах «О, мед воспоминаний» (1969) несколько иначе излагает знаменитый разговор С. с Булгаковым: «Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).
На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел...» Он предложил Булгакову:
— Может быть, вы хотите уехать за границу?..
Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».
Отметим, что вариант разговора, цитируемый Л.Е. Белозерской, близок ко второй версии рассказа Е.С. Булгаковой, приведенной в ее интервью радиостанции «Родина» в 1967 г.: «...Сталин сказал: «Мы получили с товарищами ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат. — Потом, помолчав секунду, добавил: — Что, может быть, Вас правда отпустить за границу, мы Вам очень надоели?»
Это был неожиданный вопрос. Но Михаил Афанасьевич быстро ответил: «Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может». Сталин сказал: «Я тоже так думаю. Ну что же тогда, поступите в театр?» — «Да, я хотел бы». — «В какой же?» — «В Художественный. Но меня не принимают там». Сталин сказал: «Вы подайте еще раз заявление. Я думаю, что Вас примут». Через полчаса, наверное, раздался звонок из Художественного театра. Михаила Афанасьевича пригласили на работу».
И.В. Станин на Беломоро-Балтийском канале
Есть еще одно примечательное свидетельство, относящееся к телефонному диалогу Сталин — Булгаков. Оно принадлежит американскому дипломату Чарльзу Боолену, в 30-е годы работавшему секретарем в посольстве США в Москве и подружившемуся с опальным писателем. В своих мемуарах «Свидетельство перед историей, 1929—1969» (1973) Боолен писал о Булгакове: «В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок, и голос в трубке сказал: «Товарищ Сталин хочет говорить с Вами».
Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответствующим образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал: «Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он профессиональный драматург, но не может работать в этом качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: «Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим».
Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, «Дни Турбиных», отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра». Отметим, что друг и соавтор Н.Р. Эрдмана по сценариям, Михаил Давыдович Вольпин (1902—1988), которому Булгаков тоже рассказал о памятном разговоре, как и Боолен, свидетельствует, что «сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова и ему сказали: «Не вешайте трубку» и повторили: «С вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента, и почти сразу последовал вопрос: «Что — мы вам очень надоели?»». Подчеркнем, что ни Ч. Боолен, ни Л.Е. Белозерская ничего не говорят о прямо высказанном пожелании С. встретиться с писателем для беседы. Не исключено, что слова диктатора о возможной встрече родились в рассказе Е.С. Булгаковой под влиянием последующих булгаковских писем С. Так, в черновике письма от 30 мая 1931 г., сохранившемся в архиве писателя, Булгаков признавался: «...Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: «Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу...» Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Следует отметить, что до звонка Сталина Булгаков неоднократно был жертвой розыгрышей, в которых так или иначе фигурировал генсек. Иной раз он очень удачно превращал эти розыгрыши в веселые устные рассказы с теми же действующими лицами. Журналист «Гудка» Иван Семенович Овчинников (1880—1967) вспоминал: «Михаил Афанасьевич рассказывает: — А на днях какие-то лоботрясы разыграли меня по телефону. Беру трубку — слышу мужской голос: «Товарищ Булгаков?» — «Булгаков, — говорю, — что угодно?» — «Спешим вас обрадовать и поздравить. На вашей улице начинается большой праздник. Знаем из самых надежных источников. Товарищ Сталин пишет большую статью о советском либерализме. Статья директивная. Ею открывается полоса советского либерализма!» — «Как это, — говорю, — понимать, и как это все может коснуться моей-то персоны?» — «Ну, как понимать? Издадут полное собрание ваших сочинений! Разрешат вам выпускать большую либеральную газету! Нравится?» Я было уже и уши развесил. «Конечно, — отвечаю, — нравится. А кто, — спрашиваю, — со мной разговаривает?» И тут из трубки как грохнет вдруг хохот — сразу в четыре глотки: «Михаил Афанасьевич, сегодня же первое апреля! Забыли?» И опять хохот: «Го-го-го! Ха-ха-ха!» Бросил я трубку, обозвал хулиганов негодяями, а сам и до сих пор все не могу никак успокоиться. Так все и стучит в ушах: «Советский либерализм... Советский либерализм». А перед глазами большая беспартийная газета вроде «Русских ведомостей». В уме уже и штаты начал подбирать... Вам, конечно, церковный отдел. Вон вы какие статьи закатываете!..
В связи с православной Пасхой «Гудок» как раз только что напечатал несколько моих антирелигиозных опусов: «Христос и колядка», «Кулич и пасха», «Религия против женщины» и другие...»
Однако некоторое время спустя на прямо поставленный вопрос, правду ли он говорил, Булгаков признался: «То, что меня с первым апреля разыграли по телефону, это верно. А вот тема разговора была совсем-совсем другая».
Для того чтобы так шутить, надо было обладать большой смелостью. За публичное объявление себя либералом и критику антирелигиозных статей можно было попасть в концлагерь.
Американский журналист Юджин Лайонс, в 1928—1934 годах находившийся в Москве в качестве корреспондента агентства «Юнайтед Пресс», зафиксировал любопытный случай полемики с булгаковским письмом Сталину от 28 марта 1930 г. В мемуарной книге «Наши секретные союзники. Народы России» (1953) Лайонс писал: «Весной 1931 г. Борис Пильняк, над которым всего несколько лет назад сгущались грозные политические тучи, получил визу для заграничного путешествия. Это стало литературной сенсацией сезона. Вставал молчаливый вопрос, готов ли писатель вернуться в Советский Союз. Однажды вечером в Нью-Йорке я задал ему этот вопрос. «Нет, — ответил Пильняк задумчиво. — Я должен ехать домой. Вне России я чувствую себя словно рыба, вынутая из воды. Я просто не могу писать и даже ясно думать нигде, кроме как на русской почве»». Пильняк, как кажется, полемизировал с булгаковским тезисом о свободе печати, необходимой писателю так же, как рыбе необходима вода, о свободе слова как естественной среде обитания для литературы. Булгаков в определенный момент готов был предпочесть тяготы эмиграции молчанию и нищете на родине. Пильняк же пошел на компромисс с властью, чтобы иметь возможность печататься в СССР, но это не спасло его от гибели в эпоху «большого террора».
5 мая 1930 г. Булгаков написал С.: «Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность. Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется».
Справка, выданная Булгакову в декабре 1929 г., о том, что его пьесы запрещены к публичному представлению
Последовавшее 10 мая зачисление во МХАТ драматург наверняка связывал с этим обращением и потому был особо благодарен С. Булгаков не знал, что вопрос о нем был решен гораздо раньше. Еще 12 апреля 1930 г. на копии булгаковского письма, направленного в ОГПУ, фактический глава этого ведомства Г.Г. Ягода (1891—1938) оставил резолюцию: «Надо дать возможность работать, где он хочет». А 25 апреля вопрос с Булгаковым был положительно решен на Политбюро, после чего дорога для поступления на службу во МХАТ была открыта.
Булгаков оказался в поле зрения С. по меньшей мере за год до письма Правительству от 28 марта 1930 г. и связанных с ним событий. 2 февраля 1929 г. в ответном письме драматургу Владимиру Билль-Белоцерковскому (1884/85—1970) по поводу пьесы «Бег» С. утверждал: ««Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление».
Однако о пьесе «Дни Турбиных» вождь отозвался гораздо мягче: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «Не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»
С. явно нравились «Дни Турбиных», он неоднократно посещал мхатовский спектакль. Вождю импонировал образ полковника Турбина в блестящем исполнении Николая Павловича Хмелева (1901—1945), образ сильного, не карикатурного врага, признающего перед смертью неизбежность торжества коммунистов и закономерность их победы в гражданской войне.
Интересно, что сталинское обращение в первой его речи в годы Великой Отечественной войны 3 июля 1941 г.: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» очень напоминает обращение Алексея Турбина к юнкерам в гимназии: «Слушайте меня, друзья мои!» Возможно, эта фраза подсознательно пришла на ум С. в трагический момент первых, самых тяжелых недель германского вторжения.
18 февраля 1932 г., явно по инициативе С., «Дни Турбиных» во МХАТе были возобновлены. Решение об этом правительство приняло в середине января. Писатель Юрий Слезкин (1885—1947) в записи от 21 февраля 1932 г. так прокомментировал обстоятельства, связанные с восстановлением пьесы во мхатовском репертуаре: «От нападок критики театры страхуют себя, ставя «Страх» (пьесу Александра Афиногенова (1904—1941). — Б.С.). МХАТ тоже «застраховал» себя... На просмотре «Страха» присутствовал хозяин (С. — Б.С.). «Страх» ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: «Вот у вас хорошая пьеса «Дни Турбиных» — почему она не идет?» Ему смущенно ответили, что она запрещена. «Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить, ставьте». И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить постановку...»
В письме своему другу, философу и литературоведу П.С. Попову, писавшемся целый месяц, с 25 января по 24 февраля 1932 г., Булгаков сообщал: «15-го января днем мне позвонили из Театра и сообщили, что «Дни Турбиных» срочно возобновляются. Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!
Предшествовал телефону в то утро воистину колдовской знак. У нас новая домработница, девица лет 20-ти, похожая на глобус... 15-го около полудня девица вошла в мою комнату и, без какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твердо и пророчески:
— Трубная пьеса ваша пойдеть. Заработаете тыщу.
И скрылась из дому.
А через несколько минут — телефон.
С уверенностью можно сказать, что из Театра не звонили девице, да и телефонов в кухнях нет. Что же это такое? Полагаю — волшебное происшествие... Ну, а все-таки, Павел Сергеевич, что же это значит? Я-то знаю?
Я знаю:
В половине января 1932 года, в силу причин, которые мне неизвестны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение: пьесу «Дни Турбиных» возобновить. Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и все».
Л. Берия с дочерью Сталина С. Аллилуевой. На заднем плане — И. Сталин
Очевидно, любовь С. к «Дням Турбиных» спасла драматурга от репрессий, несмотря на его более чем сомнительную «идеологическую благонадежность». В случае ареста и осуждения невозможно было бы сохранить булгаковскую пьесу в репертуаре главного театра страны, и С. это прекрасно понимал. Вероятно, здесь же была и причина того, что Булгакова так и не выпустили за границу. Если бы он стал невозвращенцем, «Дни Турбиных» пришлось бы убрать со сцены уже окончательно.
Булгаков неоднократно обращался в соответствующие инстанции и лично к С. с просьбой разрешить ему краткосрочную поездку за границу вместе с женой, но неизменно получал отказ. Например, в письме С. от 30 мая 1931 г. перечислялось все, сделанное за год, прошедший с момента памятного разговора, и могущее оправдать стремление побывать за границей (заграничная поездка тогда и властью, и обыкновенными гражданами воспринималась как некая привилегия и награда): «За последний год я сделал следующее:
несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н. Гоголя «Мертвые души» в пьесу,
работал в качестве режиссера МХТ на репетициях этой пьесы,
работал в качестве актера, играя за заболевших актеров в этих же репетициях,
был назначен в МХТ режиссером во все кампании и революционные празднества этого года,
служил в ТРАМе — Московском, переключаясь с дневной работы МХТовской на вечернюю ТРАМовскую,
ушел из ТРАМа 15.11.31 года, когда почувствовал, что мозг отказывается служить и что пользы ТРАМу не приношу, взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончу ее к июлю).
А по ночам стал писать.
Но надорвался».
Булгаков сетовал: «Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным, я отравлен тоской и привычной иронией. В годы моей писательской работы все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что, с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни, я никогда не увижу других стран. Если это так — мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного. Как воспою мою страну — СССР?»
Н.П. Хмелев в роли Турбина
Напрасны оказались булгаковские уверения в советском патриотизме: «По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что 11 лет черпал из нее. К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от моей побывавшей за границей жены (Л.Е. Белозерской. — Б.С.), заявившей мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год». С. остался глух к булгаковским просьбам.
10 июня 1934 г. писатель жаловался ему на издевательский отказ в заграничной поездке со стороны Иностранного отдела Мособлисполкома (см.: «Был май»), отмечая, что «попал в тягостное, смешное, не по возрасту положение» и что «обида, нанесенная мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я и прошу Вас о заступничестве». Заступничества не последовало. Летом 1935 г. Булгаков подал еще одно заявление на загранпоездку, написав об этом брату Николаю в Париж 9 июля. Однако сорвалась и новая попытка, о чем Н.А. Булгакову было сообщено 26 июля. Более драматург не прилагал усилий выехать за границу. Последний раз он обратился с письмом к С. 4 февраля 1938 г., прося облегчить участь своего друга Н.Р. Эрдмана, сосланного за написание сатирических басен в 1933 г. и потерявшего право жительства в Москве. Однако в тот раз участь опального драматурга смягчена не была и поселиться в столице ему не разрешили. Хлопоча за Эрдмана, Булгаков как бы писал и о себе:
«...Я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».
В одном из сохранившихся набросков письма С., относящегося к началу 1931 г., Булгаков просил его «стать моим первым читателем...», явно ориентируясь на опыт взаимоотношений поэта Александра Пушкина (1799—1837) и императора Николая I (1796—1855) и, вероятно, рассчитывая, что сталинская цензура будет мягче главлитовской и главреперткомовской. Однако единственным «художественным посланием» С. стала пьеса «Батум», где главным героем выступал сам Генеральный секретарь в молодые годы. После того как «Батум» был запрещен 14 августа 1939 г., драматург, узнавший об этом в поезде по дороге к месту действия пьесы, воспринял данное известие как смертельную трагедию.
12 сентября 1939 г. Е.С. Булгакова записала слова мужа во время их пребывания в Ленинграде: «Плохо мне, Люсенька. Он мне подписал смертный приговор». Эта фраза в равной мере могла относиться и к ленинградскому врачу, по-видимому, уже констатировавшему развившийся нефросклероз, и к С., без санкции которого не мог произойти запрет «Батума» (Булгаков связывал свою болезнь со злосчастной пьесой). 16 августа 1939 г. жена драматурга занесла в дневник рассказ режиссера МХАТа В.Г. Сахновского (1886—1945) о причинах запрета «Батума»: «...Пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как Сталин, делать литературным образом (при позднейшем редактировании «литературный образ» был заменен на «романтического героя». — Б.С.), нельзя ставить его в выдуманное положение и вкладывать в его уста выдуманные положения и слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать», хотя, вместе с тем, «наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе»».
Правда, 22 августа 1939 г. директор МХАТа Г.М. Калишьян убеждал драматурга, что «фраза о «мосте» не была сказана». А 18 октября 1939 г. Е.С. Булгакова записала, что 10 октября «было в МХАТе Правительство, причем Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем (главным режиссером МХАТа В.И. Немировичем-Данченко (1858—1943). — Б.С.), сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». Это только слегка подсластило пилюлю умирающему. В первые дни после запрета пьесы Булгаков думал о письме С., но потом отказался от этого намерения. Насчет личности С. он не заблуждался. В романе «Мастер и Маргарита» в последней редакции, создававшейся одновременно с «Батумом», Воланд, покидая Москву, хвалит С.: «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам пора!»
И.В. Сталин
Не сомневался Булгаков и в том, что инспирированные С. политические процессы 30-х годов являются фальсификацией. Сохранилось интересное мемуарное свидетельство писателя Валентина Петровича Катаева (1897—1986), дружившего с Булгаковым в 20-е годы, когда они вместе работали в газете «Гудок». В конце 20-х друзья рассорились и встретились вновь после долгого перерыва летом 1937 г. сразу после процесса над маршалом М.Н. Тухачевским (1893—1937) и его товарищами. Катаев так описал эту встречу: «...Мы заговорили про это (казнь Тухачевского. — Б.С.), и я сказал ему, возражая:
— Но они же выдавали наши военные планы!
Он ответил очень серьезно, твердо:
— Да, планы выдавать нельзя».
Собеседник Булгакова не почувствовал его иронии. А может быть, и сам в глубине души сомневался в виновности Тухачевского и придерживался официальной версии лишь из чувства самосохранения.
Булгаковы внимательно следили за делом о «военно-фашистском заговоре». 11 июня 1937 г. Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике сообщение «Правды» о начале суда над Тухачевским. В связи с этим Михаил Афанасьевич вынужден был участвовать после репетиции в митинге во МХАТе, где «требовали высшей меры наказания для изменников». На следующий день Е.С. Булгакова отметила, что «Тухачевский и все остальные приговорены к расстрелу».
8 февраля 1940 г. ведущие артисты МХАТа Василий Иванович Качалов (Шверубович) (1875—1948), Алла Константиновна Тарасова (1898—1973) и Н.П. Хмелев обратились к С. через секретаря А.Н. Поскребышева (1891—1965). Они писали о тяжелой болезни Булгакова и резком ухудшении его состояния:
«Трагической развязки можно ожидать буквально со дня на день. Медицина оказывается явно бессильной, и лечащие врачи не скрывают этого от семьи. Единственное, что, по их мнению, могло бы дать надежду на спасение Булгакова, — это сильнейшее радостное потрясение, которое дало бы ему новые силы для борьбы с болезнью, вернее — заставило бы его захотеть жить, — чтобы работать, творить, увидеть свои будущие произведения на сцене.
Плакат «Да здравствует ленинизм!» В. Дени. 1931 г.
Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычайной чуткости к нему, его поддержке. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону десять лет тому назад, о разговоре, вдохнувшем тогда в него новые силы. Видя его умирающим, мы — друзья Булгакова — не можем не рассказать Вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдете возможность сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу». Явным следствием письма стал визит к Булгакову первого секретаря Союза советских писателей Александра Александровича Фадеева (1901—1956). 15 февраля 1940 г. Е.С. Булгакова записала:
«Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы: о романе («Мастер и Маргарита». — Б.С.) и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления». Похоже, мечта писателя о заграничной поездке могла наконец стать реальностью, но больному Булгакову было уже все равно. Накануне, 13 февраля 1940 г., он прекратил и уже более не возобновлял правку своего последнего романа — на словах Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Писатель умер 10 марта 1940 г. Его друг, драматург Сергей Александрович Ермолинский (1900—1984), вспоминал: «На следующее утро, — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но, кажется, на следующее утро — зазвонил телефон. Подошел я. Говорили из Секретариата Сталина. Голос спросил:
— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?
— Да, он умер.
Тот, кто говорил со мной, положил трубку».
С. так и не нашел времени хотя бы на еще один телефонный разговор с умирающим писателем. Возможно, помешала занятость советско-финской войной, последние сражения которой развертывались как раз в эти дни. Диалог Сталин — Булгаков, завязавшийся 18 апреля 1930 г., в дальнейшем не имел продолжения, превратился в булгаковский монолог. Все письма Булгакова, адресованные С. после их телефонного разговора, шли в пустоту.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |