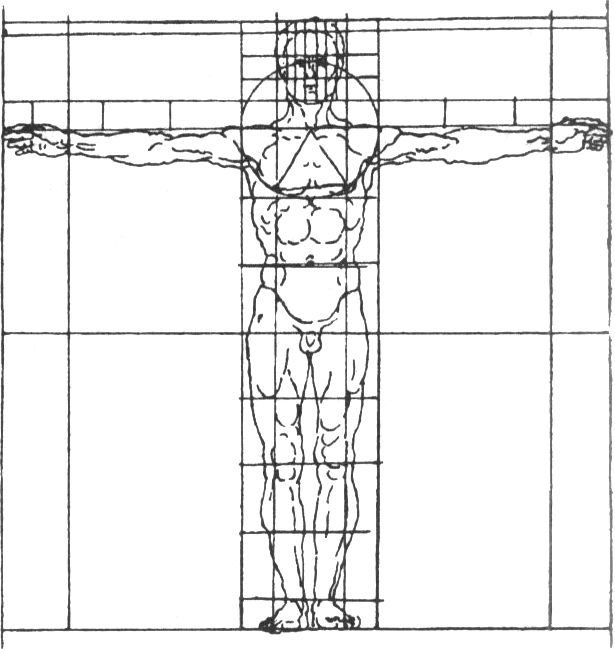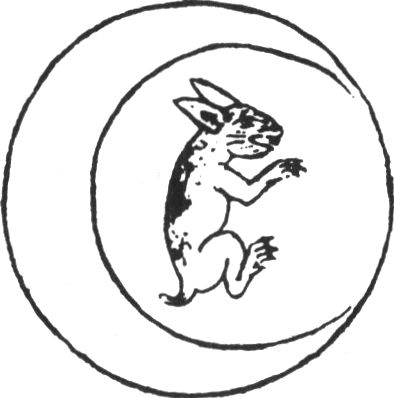Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела.
Достоевский Ф.М.
Как известно, всё начинается в среду. (Для Берлиоза на этом, правда, всё и кончается.)
Гудковская компания, в которой оказался Булгаков в 1923 году, состояла из группы одесских хохмачей, переместившихся в Москву вместе с Дерибасовским юмором, биндюжьей расхристанностью и авангардом Привоза. Христоцентричность и собранность тридцатилетнего мэтра не вписывалась в их стайный рисунок поведения. Валентин Катаев вспоминал: «Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нём, он был... в чём-то немного провинциален. Может быть и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый (поэтическая маркировка, какой наделил Булгакова автор в книге воспоминаний «Алмазный мой венец». — ОК) прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчёт его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развёлся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской»» (12; 102).
Но что такое тридцать с небольшим лет?! Булгаков состязался с кумиром одесситов Маяковским, с его жёлтой кофтой, бритостью наголо, шикарными наимоднейшими американскими ботинками, тростью с дорогим набалдашником... Талантливейший оппозиционер и критик режима стал лоб в лоб со способнейшим его подпевалой. Когда они сходились за бильярдным столом, сбегались все присутствующие понаблюдать за зрелищем. «Маяковский спросил у Булгакова: «Что вы сейчас пишете?» Булгаков оживился: «Я пишу сатирический роман, и вы знаете, там у меня есть профессор, а я не знаю, какую ему дать фамилию. Должно быть видно, что это советский профессор, но фамилия должна быть смешная. Может быть, вы мне посоветуете?» И Маяковский сразу же ответил: «Тимирзяев»1.
Булгаков страшно хохотал. Юмор сблизил Маяковского и Булгакова. Они мило беседовали» (8; 126).
Эта знаменитая сцена почему-то никогда не возбуждала вопроса, отчего же Булгаков не воспользовался таким щедрым подарком? — И ответить не так просто. Авторские амбиции здесь ни при чём. Всё дело в том, что задачей Булгакова никогда не было грубо надавить на «смеховую железу» слушателя. Так же как у Достоевского, ирония у него служит «взрыхлению мяса» с целью лучшего прирастания «пришитого» органа. Действие сугубо хирургическое и с профессией ярмарочного гаера ничего общего не имеет. Монокль и был вставлен как опознавательный знак, что его владелец не имеет в виду «надрывать животики» кому бы то ни было. Среда в «Мастере» начинается не с «лечения смехом», а с лечения трамваем: Quod medicamenta non sanat, mors sanat. Профанное хихиканье над «Священным Байкалом» или «пустым костюмом» только мешает войти в гностические глубины произведения. Для посвящённых это роздых после огромного душевного и мозгового труда, потраченного на предыдущих главах; для балующих себя по кайфу — желанный полигон для ржачки. И Маяковский с пулей в конце2 — как это наоборот к Булгакову: он выбрасывает пистолет в воду в жизни — и выкрадывает, а потом незаметно подкладывает хозяину в «Театральном романе». Правда, Максудов (достаточно отстранённый автобиографизм его самоочевиден) кончает с собой, бросаясь с моста, но речь идёт о волнах Леты, и «ангельские руки» вынесли его из пучины речной.
Итак, «человек с моноклем», раздражавший одесситов своим менторским тоном, нарочитой церемонностью, желанием поучать и абсолютной апатией к советскому малограмотно-местечковому авангарду типа «Красным клином белых бей!» вроде бы состязался с другими — в успехе, почести, славе. «А как Булгаков относился к славе? Рвался к ней или писал себе и писал? — Очень даже рвался. — Очень рвался? — Очень рвался, очень рвался» (12; 102). Это воспоминания первой жены писателя Т. Лаппа о ранних годах его творческой биографии. Когда же Булгаков увидел воочию своих «конкурентов», бежать с ними «по одной гаревой дорожке» ему показалось недостойно. И новые знакомые, с обидой упоминаемые Катаевым, — это люди знания, «пречистенское братство», радостно принявшее в свои ряды Булгакова, который и сам жил на Пречистенке; там же, в Чистом переулке жил его дядя Н.М. Покровский, прототип профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Предчувствуя ожидающие его четверговые дары, Булгаков адресовался к этому мистически необычайному месту: «На моей любимой Пречистенке...» (Дневник; в ночь на 28 декабря 1924 г.); «... и почему-то в пречистенских тихих зеркалах при этом разговоре был большой покой» (Дневник; 23 декабря 1924 г.).
Появляются свидетельства готовности:
«...мой путь теперь совершенно прямая».
«...единственным успокоением является моя прямая» (там же).
«Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь.
Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.
Посмотрим же и будем учиться, будем молчать» (Дневник; 6 ноября 1924 г.).
...И он переступил порог.
Далее началось то, что и теперь скрыто мраком умолчания, секретности, тайны.
В 1994 году со съёмочной группой TV мне удалось побывать в Коктебеле. Директор Волошинского музея, знавший М.С. Волошину и много беседовавший с ней о хозяине дома, характере Волошина, его сильных и слабых чертах, о не подлежащих широкому разглашению интимных частностях их совместного бытия, посвятил нас, чувствуя наше расположение к личности великого поэта, в эти оставшиеся неопубликованными сведения. Мы имели в процессе съёмок и подготовки к ним допуск ко всем без исключения уголкам обширного строения, ко всем вещам, библиотеке, картинам, рисункам и фотографиям, скульптурам, ритуальным предметам, зачастую носившим характер как бы настенных украшений, декоративного убранства дома. Кроме того, я жил в том самом доме (бывшая дача Пра), где гостил в 1925 году около месяца у Волошина Михаил Булгаков. И сложилась следующая картина из разрозненных свидетельств этих источников.
В Россию из-за границы накануне октябрьского переворота приехал и был зафиксирован здесь Высшими Силами один из крупнейших духовных мастеров Европы. Оцениваемый сугубо по стихотворной лирике, занимавшей довольно скромное место в его грандиозной по размаху деятельности, он получил в профанно-полуинтеллигентском сознании (и масс-медиа как их полномочном трансляторе) место поэта второго, а то и третьего плана; в советские времена хамский псевдоавангард задвинул его ещё глубже. Считалось, что он разбрасывался (в силу «малой даровитости») — и швец, и жнец, и на дуде игрец; этакий розовощёкий турист-бонвиван, маменькин сынок «без определённых занятий».
Тайная жизнь духовного мастера осталась скрытой для профанов, а те, кто знал, помалкивали, пряча от ТНУ подлинное лицо всероссийского интеллигентского благодетеля и гуманиста размаха и уровня Ганди и Тагора, Витгенштейна и Швейцера. В 1923 году в его заповеднике нашли приют шестьдесят человек, в 1924 — триста, в 1925 — четыреста. А сколькие пользовались этими благами в дореволюционное время? И скольких он спас во время кровавой усобицы?
В знаменитом Планерном по соседству учились летать будущие воздушные асы; рядом, как выясняется, была не менее мощная школа асов духовных.
Получив в Париже орденское посвящение, Волошин был равным собеседником и другом таких корифеев духовной культуры, как Эдуард Шюре, Папюс, Поль Седир, Бургонь, Морис Метерлинк и Эмиль Верхарн. Он стал одним из лучших русских учеников Рудольфа Штайнера, и дорнахский дух братства сумел, как огонь, занести и в Россию.
Коктебельский «дядька Черномор» руководил из своего далека интеллектуальным сопротивлением режиму и каждый новый духовный самородок в скудной пустыне моря житейского встречал как личный себе подарок. Он отметил, выпестовал и вывел на орбиту целую плеяду поэтов и прозаиков — достаточно вспомнить имена М. Цветаевой, М. Кузмина и О. Мандельштама. Как художественный критик Волошин не имел себе равных; исследование «Аполлон и мышь» характеризует его как одного из выдающихся русских мифологов и культурософов, достойного ученика Вячеслава Иванова. Он был блистательным переводчиком, а его этюд об Э. Верхарне является образцом в жанре духовной биографии. Занимавшиеся рядом с ним работой по переносу мировой духовной культуры на русскую почву В. Брюсов, К. Бальмонт и А. Белый не вынесли высоты орденской дисциплины: первый был наркоман, оба других пьяницы. Только Волошин стоял неколебимо как скала, стоял, пока хватало сил. Пятнадцать лет он почти в одиночку держал фронт.
Макс входил в группу русских эзотериков, которых объединил журнал «Вестник теософии». Мало того, его знания трудов Е.П. Блаватской и Станислава де Гуайты, Сент Ив д'Альвейдра и Папюса, Э. Шюре и Р. Штайнера, Э.А. Уайета и П. Седира были уникальны; книги перечисленных авторов на французском языке, чем Волошин владел в совершенстве, были в его библиотеке и все до единой прочитаны (среди нескольких сотен томов я не нашёл ни одной неразрезанной книги). Именно эта литература находилась в личном кабинете Макса Александровича на антресолях масонского храма-мастерской, куда допускались только ближайшие ученики (там, в скрытом живописной панорамой Карадага чердачном отсеке, он прятал преследуемых от врагов).
Как только всё написанное учеником было мастером прочитано и тем самым наведён мост между двумя великими душами и умами, вход в святая святых стал открыт Булгакову и желанен ему. Знание французского языка упрощало общение с трудами классиков эзотерики, тем не менее материал оказался настолько необычаен и настолько велик, что без Вергилия-Волошина было не обойтись. Правда, уединяться с хозяином дома приходилось крадучись, не привлекая ничьего внимания (а без сексотов, вероятно, не гостевалось). Понимая, что он под присмотром «недреманного ока», Макс играл роль чудака, балагура, затейника; на людях был ровен и любезен со всеми, да и Булгакову выдавал информацию как «болтовню о курьёзных раритетах», не зная, куда в ближайшем будущем повернёт руль его индивидуальных настроений. И только взгляды, намёки о вечном, созерцание звёздного неба со смотровой площадки коктебельского дома могли подсказать разумному ученику «кто есть кто» на Земле и на Небе. Как это тяжело — транслировать истину, что требует от проповедника максимальной отдачи, сквозь сурдину недомолвок и умолчаний! В этом случае всё решает готовность слушателя и его желание истиной овладеть. — «Имеющий уши — да слышит».
Булгаков всё схватывал на лету. Навык к глубокому у него выработали ещё отец и друзья и коллеги отца. Страсть к оккультному подогревалась атмосферой духовной свободы и независимости, в которой Булгаков воспитывался. То он пробовал на зуб гадания (ходил по молодости к гадалке); то испытывал «на прочность» спиритизм (а знакомых — на легковерие). «Он был очень суеверен!» — определила первая жена. — Неправда. Перед нами другой фрагмент из её же воспоминаний: «Мы на Новый год гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло — пустышка, а ему всё кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала, говорю: «Вот увидишь, мы разойдёмся». А он: «Ну что ты в эту ерунду веришь!»» (12; 107).
И правда что — ерунда.
Булгаков думал о важном.
В уцелевшей тетради с обрывками первой редакции Романа3 страницы, озаглавленные «Материал», показывают, что с самого начала развития замысла появились две центральные темы, волей и фантазией автора сопоставляемые и противопоставляемые: «На страницах «Материала» к роману им отведены специальные листы, озаглавленные «О Боге» и «О Дьяволе»» (3; 296).
В бумагах Булгакова фиксирован в виде выписок или просто заметок для памяти весь цвет европейской эзотерики. Помимо вошедшего в окончательный текст Романа «чернокнижника» Герберта Аврилакского встречаются имена Калиостро и Нострадамуса, Казановы и кабалиста Пико делла Мирандолы, Жана Вира (Иоганна Вейера), Якова Брюса и Жана Бодена (Волошинского любимца), Лео Таксиля и русского его пропагандиста М. Орлова, автора широко известной монографии «История сношений человека с дьяволом» (Спб, 1914), последние главы которой являются переводом-изложением книги Ж. Батая (Лео Таксиля) «Дьявол в XIX столетии».
Хрестоматийный Сен-Жермен, популярный за счёт Пушкинской «Пиковой дамы», буквально «окружал» собой автора МиМ; посвящённые вместе с Еленой Сергеевной пушкинистами в своё элитарное братство, они часто в годы работы Булгакова в Большом театре погружались в атмосферу оперы Чайковского, любимой им за мистику Сен-Жермена. Ситуация усугублялась «Брюсовым календарём», подаренным М.А. сестрой жены Ольгой Бокшанской.
Не забудем также Гофмана и Одоевского, с чьим творчеством Булгаков связан тысячами самых разных нитей, в том числе и интересом к магии, кабалистике и оккультизму.
В качестве маргинальных курьёзов автор МиМ собирал сонники, книги по спиритизму, хиромантии и астрологии; в конце концов накопилась изрядная коллекция.
Однако прежде всего фундаментальные вопросы духовной культуры занимали мысли Булгакова, оттого и разговор между учителем и учеником зашёл по существу.
Во-первых. Бог есть. Поэтому Он может быть познаваем, как познаваема всякая реальность независимо от уровня её материальной агрегатности.
Во-вторых. Познание Бога отнюдь не демистифицирует Его; оно демистифицирует сумму человеческих мнений и представлений о Нём, основанных на недоумениях, недоразумениях, недопонимании или прямой фальсификации жрецов, паразитирующих на функции посредников и «полномочных представителей Бога на земле».
В-третьих. Никакого «Противобога» или «Чернобога» в Небесах нет и быть не может. Бог един, и вся Вселенная пронизана Его единой волей. Вместе с тем материальная структура Универсума существует в полярном разделении, помеченном условно знаками плюс и минус, и напряжение взаимодействующих друг с другом полюсов создаёт драматическое напряжение космического целого. Это тяготение-любовь друг к другу или сообща к Творцу называется Эрос человечеством биоса (в первом случае) и Агапе человечеством логоса (во втором).
В-четвёртых. Зло — чисто земной феномен; это инерционные силы вещества, противодействующие сущностям, проходящим эволюционный круг с большей скоростью, чем остальные; силы, мешающие вырываться вперёд, т. е., образно говоря, «хватающие за полу». Но вторая половина — духовная — всё равно ускользает вверх! Именно это имеет в виду Иешуа Га-Ноцри, говоря о нити.
И наконец, два полюса, Ведомства МиМ, — Милосердие (Любовь) и Строгость (Справедливость); они же научение и экзаменация, которые осуществляют половины единого сотворённого существа, называемого Мир — четвёртого элемента за пределами Триипостасности. Чётные числа дуальны; квадрат «разламывается» на «две стороны», на первую и восьмую горизонталь шахматной доски Мира с мгновенной азартной состязательной оппозицией.
Шахматная доска — «дар Шамбалы», по выражению русских эзотериков, является одним из мощнейших эзотерических ключей: 8 на 8 клеток; восемь по вертикали — число Бога Отца; восемь по горизонтали — 8-й аркан Тарота, Справедливость (Правосудие) — прерогатива Князя Мира сего, экзаменатора Сатанаила. Христос, благословляющий человечество раскинутыми руками, реализует обе эти силовые линии.
Дюрер, причастный к мудрости розенкрейцеров, изобразил в своих гностических штудиях такой квадрат. Потребовалось ещё несколько столетий, чтобы довести чтение этой схемы до полной внятности.
Таковы пять основных гностических позиций; с ними познакомил Волошин своего понятливого ученика в первые же дни стажировки.
Далее наступило время знакомства с основными эзотерическими ключами: системой Больших арканов Тарота; Кабалистическим древом с системой сефирот; Астрософийным кругом (на основе Дендерского зодиака) и Насиком — шахматной доской, клетки которой являются «домами» 64-х китайских гексаграмм И-Цзина. Числовые значения слов; буквенные перестановки, или так называемое темурах-прочтение; нумерософийные смыслы цифр, чисел и цифровых соединений — все эти таинства открыты Булгакову человеком, от кого веяло мудростью, доброжелательностью и всё большей и большей любовью (на одной из акварелей, подаренных ученику, Волошин написал «с глубокой любовью»).
Я держал в руках колоду Тарота, выполненную на основе разработок Этейллы-д'Альвейдра-Папюса; каждая карта снабжена на полях сводом значений (порядковый номер, буква еврейского алфавита, числовое значение, буква латинского алфавита, буква санскрита, соответствующий египетский иероглиф, знак эзотерического алфавита Сент Ив д'Альвейдра, планета или знак Зодиака) — гностическая насыщенность высочайшего уровня. В сопроводительной книге Папюса — объяснение идеограммы каждого аркана и символическое значение иероглифа каждой еврейской буквы.
Этот впечатляющий массив мудрости упорядочен единым древнеегипетским происхождением, о чём ритуально заявляла огромная голова «царицы Таиах»4, стоящая в «алтарной» части башни-храма. Рядом по стенам — ласковые черти-габриаки, целый хоровод. Их «домовая» служба подобна присутствию в каждом древнеегипетском жилище скульптурки доброго бога Беса — хранителя домашнего очага, отгоняющего злых духов.
Из таких простых и внятных гностических единиц складывалось у Булгакова понимание символического языка титанов мировой культуры: Данте, Достоевского, Гёте. Мефистофель Гёте и Люцифер Данте не были для него и раньше литературными абстракциями, а теперь стали приобретать чёткость, рельефность, внятность. Вместо пугающей тараканьей мифологии культа, имеющей достаточно прозрачное коммерческое задание, пришла ясная картина взаимодействия правой и левой рук Матери мира, качающей на ладонях дитя-человечество.
Булгаков встал на путь служения истине, и истина уже не отпустила его.
С пушкинским «желанием славы» пришлось распрощаться. Направляемый другим гностическим мастером — В.В. Вересаевым, он исследовал пушкинскую жизнь до конца и сделал правильный выбор. Истина — единственное, что не предаёт человека, и «сюрприз, который преподнёс роман», оказался «сюр-призом века».
Ведомый за руку Волошиным. Булгаков перешёл из тесной гудковской курилки под гулкие своды Великого Гностического Храма мировой духовной культуры.
И разогнул спину.
После этого его уже невозможно было согнуть.
Вернёмся в коктебельский ашрам.
По безмолвной взаимной договорённости была устроена весёлая «игра прикрытия». Один из выдающихся русских теоретиков театра философ и культуролог Федор Степун специально противопоставлял лицедейство лицемерию, а актёрскую конвенционную обманность бытовому коварству и лжи. После революции многие великие умы вынуждены были (за неимением других возможностей изъясняться) писать о театре. Среди них Н. Евреинов, А. Волынский, С. Дурылин, Г. Шпет, И. Лапшин. У Степуна для этого были особые основания — его родной брат был актером МХАТа, и уже во время нахождения старшего брата в эмиграции сделался одним из добрых знакомых М. Булгакова. Даже если тексты Степуна-старшего и не попались на глаза автору «Дней Турбиных», то в беседах со Степуном-младшим могли быть в полноте восприняты в устном изложении.
Прикрытием ему стало актёрство — разнузданное, распоясанное, озорное. Разыгрывались шарады, составителем, режиссёром и постановщиком которых был Булгаков. Макс вместе со всеми с удовольствием участвовал в них как простой актёр. По воспоминаниям очевидцев, спектакль на слово Навуходоносор выглядел приблизительно так. Сцена первая: таверна; Люба Булгакова (в прошлом танцовщица) отплясывала на столе; поножовщина, мордобой (на в ухо); затем к Максу, в роли восточного деспота, подползал некто и что-то, оглядываясь, шептал (донос); финал: Маруся Волошина ходила и орала: «Опять кто-то насорил (сор и ор)». А потом появился Макс, опутанный простынями, — и вдруг взвизгнул, встал на четвереньки и стал жрать траву (т. е. известный факт помешательства Навуходоносора) (по 3; 251).
А вот ещё один образчик — на слово «Паноптикум», которое разбили на три части: «пан», «оптик» и «ум» — и в розыгрыше первой участвовал Булгаков, изобразивший польского пана. Целое же представили, выстроив у стены ряд «восковых» и «заспиртованных» фигур; Волошин на этот раз изобразил человеческий эмбрион в банке.
На музыкальных вечерах Булгаков иногда пел. Его коронным номером была эпиталама из оперы Рубинштейна «Нерон» «Пою тебя, бог Гименей».5
О том, что балагурство двух эзотериков было камуфляжным, свидетельствует другой эпизод — начала 30-х годов. «Языческая плясунья» Люба купалась в забавах и розыгрышах, но погружённому в глубинные размышления Булгакову было не до них. «Однажды домработница открыла дверь и бежит обратно: «Любовь Евгеньевна, что делать, Петр Иванович босой пришёл!» А это Петя Васильев, Петяня, как его звала Любаша, надел прямо на ботинки босые огромные ступни из папье-маше... Люба мне говорит: «Скорей ложись на мою кровать, сейчас Мака придёт!» Я ложусь, она накрывает меня пледом и из-под него торчат огромные босые ступни. Тут откуда-то приехал Михаил Афанасьевич, спрашивает, как дела дома. «Всё хорошо, только вот у Марики что-то случилось — распухли ноги». Он идёт в Любину комнату и видит мои ноги... Ну потом, конечно, он нас очень ругал...» (рассказ М.А. Чимишкиан, 3; 359).
Не удивительно, что, находясь в Коктебеле, никто ничего такого не заметил. Включая Любу. И тайна гностического посева обнаруживается только по всходам в «Мастере и Маргарите».
Но есть и явные следы контакта.
То, что оккультно-эзотерический тематизм был в центре творческих интересов Волошина, теперь, после публикации основного корпуса произведений, не подлежит сомнению. Демонстрирую присутствие Тарота в стихотворении 1917 года:
«Кто сказал: «Змеёю препояшу
И пошлю»?.. Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу,
Переполненную светами, — себя...» (13; 64).
Змей, кусающий свой хвост, Уроборос алхимиков, — знак актуальной бесконечности, «круг земной», «круги своя» Ветхого завета. Именно им препоясан Маг 1-го аркана Таро; а над его головой изображена лемниската — знак Абсолютной бесконечности, восьмёрка Бога Отца. Правда, в поднятой руке Мага не чаша, а жезл, но чаша, меч и пантакль — символы мастей младших арканов — лежат перед ним на кубе-алтаре6, образуя цельную концепцию Старших и младших арканов Таро7.
О магических способностях Макса свидетельствуют очевидцы: однажды от его присутствия занялась огнём занавеска, отчего чуть не случился пожар; в другой раз он взглядом воспламенил сухую траву на склоне Карадага. Зато когда случайно загорелась дача и катастрофа была неминуема, он волевым усилием усмирил огонь и спас строения. Это свободно-повелительное обращение с огнём перешло в Роман к коту Бегемоту вместе с некоторыми чёрточками Макса: толстый, увалень, добродушный, но ироничный, весёлый, к тому же и литературный критик («Скабичевский», согласно подписи в гроссбухе Грибоедова).
Конечно, от Мага следовало ждать многого.
И Макс в долгу не остался.
В 1918 году появляется стихотворение «Европа», которое при прочтении никогда ни у кого не вызывало знакомых ассоциаций. — А зря. Всмотримся внимательнее:
«Держа в руке живой и влажный шар,
Клубящийся и дышащий, как пар,
Лоснящийся здесь зеленью, там костью,
Струящийся, как жидкий хризолит,
Он говорил, указывая тростью:
— Пойми земли меняющийся вид:
Материков живые очертанья,
Их органы, их формы, их названья
Водами Океана рождены.
И вот она — подобная кораллу,
Приросшая к Кавказу и к Уралу,
Земля морей и полуостровов, —
Здесь вздутая, там сдавленная узко,
В парче лесов и в панцире хребтов,
Жемчужница огромного моллюска,
Атлантикой рождённая из пен, —
Опаснейшая из морских сирен.
Страстей её горючие сплетенья
Мерцают звёздами на токах вод —
Извилистых и сложных, как растенья.
Она водами дышит и живёт.
Её провидели в лучистой сфере
Блудницею, сидящею на звере
На водах многих с чашею в руке,
И девушкой, лежащей на быке.
Полярным льдам уста её открыты.
У пояса, среди сапфирных влаг,
Как пчельный рой у чресел Афродиты,
Раскинул острова Архипелаг.
Сюда ведут страстных желаний тропы,
Здесь матерние органы Европы,
Здесь, жгучие желанья затая,
В глубоких влуминах укрытая стихия,
Чувствилище и похотник ея, —
Безумила народы Византия.
И здесь, как муж, поял её Ислам:
Воль Азии вершитель и предстатель —
Сквозь Бычий Ход Мехмед Завоеватель
Проник к её заветным берегам.
И зачала и понесла во чреве
Русь — Третий Рим — слепой и страстный плод, —
Да зачатое в пламени и гневе
Собой восток и запад сопряжёт!
Но роковым охвачен нетерпеньем,
Всё исказил неистовый Хирург,
Что кесаревым вылущил сеченьем
Незрелый плод славянства — Петербург.
Пойми великое предназначенье
Славянством затаённого огня:
В нём брезжит солнце завтрашнего дня
И крест его — всемирное Служенье.
Двойным путём ведёт его судьба —
Она и в имени его — двуглава:
Пусть sclavus — раб, но Славия есть СЛАВА:
Победный нимб над головой раба.
В тисках войны сейчас ещё томится
Всё, что живёт, и всё, что будет жить:
Как солнца бег нельзя предотвратить, —
Зачатое не может не родиться.
В круженьях царств, в самосожженьях зла
Душа народов ширилась и крепла:
России нет — она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!» (13; 109—111)
Стихотворение посвящено некой В.Д. Рюминой, к которой в этом случае и обращена речь «персонажа с тростью». Кто же этот таинственный он? Постойте! Живой глобус, трость (с набалдашником в виде головы пуделя) — да это же Воланд! Время глубочайших потрясений — и он тут как тут. Сам Волошин называл его Ангел времён. Архангелическое достоинство Сатанаила-Воланда для Булгакова сомнению не подлежит, так же как и ангелическое достоинство рыцарей его свиты. Достаточно вспомнить, что Абадонна определяем как Ангел бездны, а поскольку у него, начальника охраны Воланда, есть заместитель — Азазелло, то и рыжий крепыш с бельмом на глазу — ангел же. Удивление это может вызвать только у профанов, ведь ангелом смерти почитался в греческой церкви архангел Михаил. Достоинство — одно, и задача — одна: исполнение воли Божьей, разные только функции и «знаки над Ведомствами»8. Кирпич над порталом ведомства Воланда — это тот самый кирпич, который, по словам Мессира, просто так на голову не упадёт. Кроме того, обратите внимание на прямое значение этого знака: Воланд ни в коей мере не вожделеет увеличить количество «висельников, выскакивающих из камина».
Этого мало. В 1923 году Волошин пишет второй монолог, «Благословение», не менее странный с точки зрения идентификации персонажа, коему он принадлежит:
«Благословение моё, как гром.
Любовь безжалостна и жжёт огнём.
Я в милосердии неумолим.
Молитвы человеческие — дым.
Из избранных избрал тебя я, Русь!
И не помилую, не отступлюсь.
Бичами пламени, клещами мук
Не оскудеет щедрость этих рук.
Леса, увалы, степи и вдали
Пустыни тундр — шестую часть земли
От Индии до Ледовитых вод
Я дал тебе и твой умножил род,
Чтоб на распутьях сказочных дорог
Ты сторожила запад и восток.
И вот вся низменность земного дна
Тобой, как чаша, до края полна.
Ты благословлена на подвиг твой
Татарским игом, скаредной Москвой,
Петровской дыбой, бредами калек,
Хлыстов, скопцов — одиннадцатый век.
Распластанную голой на столе —
То вздёрнутой на виске, то в петле,
Тебя живьём свежуют палачи —
Радетели, целители, врачи.
И каждый твой порыв и каждый стон
Отмечен мной, и понят, и зачтён.
Твои молитвы в сердце я храню:
Попросишь мира — дам тебе резню.
Спокойствия? — Девятый взмою вал.
Разрушишь тюрьмы? — Вырою подвал.
Раздашь богатства? — Станешь всех бедней,
Ожидовеешь в жадности своей.
На подвиг встанешь жертвенной любви?
Очнёшься пьяной по плечи в крови.
Замыслишь единенье всех людей?
Заставлю есть зарезанных детей.
Ты взыскана судьбою до конца:
Безумием заквасил я сердца
И сделал осязаемым твой бред.
Ты — лучшая! Пощады лучшим — нет!
В едином горне за единый раз
Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз.
А из тебя, сожжённый мой народ,
Я ныне новый выплавляю род!» (13; 127—128)
«Знатоки» неуверенно определяют его как «монолог в стиле поучений Ягве». В таком случае становится непонятным отличие этого «Ягве» (лучше сказать Яго) от Сатанаила, выступающего в традиционном амплуа палача и садиста. И тут картину проясняет Е.П. Блаватская, которая в «Тайной Доктрине» прямо называет Иегову Сатаной, подводя под это солидную доказательную базу.
Не забудем, что «Тайная Доктрина» имелась в библиотеке Волошина, была им проштудирована и вошла, судя по всему (в прямом чтении или изложении Волошина), в «гностический банк» автора Ми М.
Итак, перед нами Первый и Второй монологи Воланда, произнесённые им ещё до появления на Патриарших. Что ж удивительного? «Против неба на земле» из зачина Ершовского «Горбунка» (как и многое другое — почти всё) тоже принадлежит Пушкину. Братское сложение сил — фундаментальный принцип адептов духовной культуры. Разве от Гоголя убыло, когда он по-ученически чётко выполнил учительские указания по воплощению замыслов «Ревизора» и «Мёртвых душ»? Ещё и весело «приложил об коленку» обожаемого наставника: «Бывало спросишь: ну как, брат Пушкин? — Да так, отвечает, как-то всё... Большой оригинал!» Ниже мы увидим, что Булгаков поступил совершенно по-гоголевски.
Если бы великий Макс дожил до создания (пусть не публикации) Романа, он бы с гордостью констатировал, что заканчивал свой творческий путь его подопечный, как Данте (см., напр., 15; 103). Ещё бы! Он сам задал ученику этот грандиозный размах. Более того. Проникновенность и глубина поставили обоих — в равной мере — вне публикационного поля «совейской литературы», проще говоря, МАССОЛИТа. Учитель привил Булгакову вкус к глубине, но одновременно и «чуждый дух», по какому вынюхивали врага ищейки режима. Преуспевающий автор, успевший обзавестись коврами и антикварной мебелью, мгновенно попал в «неприкасаемые»; редакторы, издатели и литературные боссы вдруг стали сторониться его как зачумлённого. Он сделался сыном вечности и сразу же — пасынком времени, сыном человечества — и пасынком России.
Зато получил благословение учителя:
Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога...
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шёпот
Не заглушит ни южный ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!
Почётней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
И ты, и я — мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни — немой её укор.
Я сам избрал пустынный сей затвор
Землёю добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединенье выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет всё — Европа и Россия,
Гражданских смут горючая стихия
Развеется... Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи...
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля — извечно те же.
Поэтому живи текущим днём.
Благослови свой синий окоём.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. (13; 177—178)
Ныне адресность этого обращения не вызывает сомнений. Просто никто, кроме Булгакова, из переступавших порог коктебельского храма, этих слов не достоин.
Это ещё не всё.
Исследователи почему-то не обращают внимания на мистическое тождество фамилий учителя и ученика: Вол и Bull9 (англ.) в мифологическом смысле одно и то же, а в слове буйвол они вообще сливаются воедино. Между тем вол и осёл — первые апостолы Христа, согревшие Его своим дыханием в яслях Вифлеемской пещеры. Когда «иностранный специалист» по эзотерическим рукописям всерьёз заявляет, что он был свидетелем разговора Пилата и Иешуа Га-Ноцри, интересно было бы узнать, а был ли он в Вифлееме в рождественские день и час?
Был, и это легко показать.
Вол — знак созвездия Телец, «созвездия отцов»; Осёл — символ Мировой оси; плюс соединительный союз и — англ. & (and); в сумме Вол & Осёл — вот он, Воланд! А осёл — его символическое животное. Т. е. Воланд-Осёл — один из двух восприемников на Земле воплотившегося Планетарного Логоса. — Всё чётко и строго.
Вторая же половина фамилии мастера шин (ש) — двадцать первая буква иврита, 21-й аркан Тарота — Дурак, Сумасшедший; числовое значение аркана — 300 равно сумме числовых значений букв словосочетания Роах Элохим — Дух Господень и потому является его идентификатом. Итак, медленно проявляя подлинное лицо и имя «инженера», Булгаков внёс начало фамилии коктебельского мага в карнавальные дефиниции «специалиста по магии». Впрочем, всё получилось так складно не без участия Высших Сил. Вторая часть фамилии помогла.
Есть и ещё одна тайна.
В первом варианте Романа главный герой Булгаковской мистерии — Поэт. Это слово необъяснимо для булгаковедов. Автор МиМ презирал рифмоплётство, не читал стихов, и когда ему в ответ тыкали Пушкина, судорожно кричал, что Пушкин «не стихи». Вероятно то, что «поэзия должна быть глуповата», в принципе не устраивало апологета разума («Без мысли нет литературы». — любил повторять Булгаков). И вдруг — Поэт, причём в аспекте авторской самоидентификации с героем произведения; это всегда выглядело за пределами логики. — В чём же дело?
Не может быть, чтобы всей душой ждавший встречи с новоявленным наследником Достоевского и Толстого Волошин не удостоил Булгакова ни одним стихотворением. Форма взаимных стихотворных посвящений была очень распространена. Адресатами Волошинских посланий в стихах часто становились не слишком заметные люди; а тут — такая встреча, такая взаимная любовь, и чтобы без поэтического отклика?!..
Опасно доверять прямым «столбовым» указаниям. Чуть прикровенности, две-три «фигуры умолчания» — и таинственная жизнь духа становится трансцендентной для исследователей. Все рассматривают «заднюю сторону иконы» — нет чтобы вглядеться в изображение.
Вглядимся.
И — о чудо! — вот оно, на поверхности.
Мало версифицированное, написанное языком Экклезиаста, разбитое на семь не то строф, не то перикоп стихотворение «Поэту» (1925).
1
«Горн свой раздуй на горе, в пустынном месте над морем
Человеческих множеств, чтоб голос стихии широко
Душу крылил и качал, междометья людей заглушая.2
Остерегайся друзей, ученичества шума и славы.
Ученики развинтят и вывихнут мысли и строфы.
Только противник в борьбе может быть истинным другом.3
Слава тебя прикуёт к глыбам твоих же творений.
Солнце мёртвых, — живым она намогильный камень.4
Будь один против всех: молчаливый, тихий и твёрдый.
Воля утёса ломает развёрнутый натиск прибоя.
Власть затаённой мечты покрывает смятение множеств!5
Если тебя невзначай современники встретят успехом, —
Знай, что из них никто твоей не осмыслил правды:
Правду оплатят тебе клеветой, ругательством, камнем.6
В дни, когда Справедливость ослепшая меч обнажает,
В дни, когда спазмы любви выворачивают народы,
В дни, когда пулемёт вещает о сущности братства —7
Верь в человека. Толпы не уважай и не бойся.
В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога» (13; 173—174).
Конечно, это наставление библейского пророка новозаветному апостолу. Какая глубина! Какая серьёзность!
И что характерно. Периколы пронумерованы, а заключительное пятистишие специально разорвано пополам. Почему? Конечно, семь — священное, космическое число, и всё же... Посмотрим в Тарот. — Эврика! 7-й аркан Колесница; Возлюбленный (6-й аркан) начинает свой путь — вспомним отзыв Волошина о Булгаковском начале. И это не всё. Седьмой аркан семантически и графически идентифицируется с созвездием Большой Медведицы, а медведь — Миша, Михаил. Таким образом, Булгаковская адресность, несмотря на прикровенность, была фиксирована очень чётко. На то и эзотерические ключи, чтобы не раскладывать всё, как абориген, только на поверхности.
Булгаков понял, принял и «зарубил». Слово Поэт для него вдруг наполнилось новым смыслом. Поэт — это посланник Высших Сил (конечно, речь идёт о поэте-пророке), кто направлен для служения по эту сторону бытия, в отличие от представителей Иерархии, находящихся по ту сторону и лишь иногда фантомно заглядывающих в наш мир.
Потому-то главный герой ранних вариантов МиМ и назывался Поэт. Поэт — всегда подмастерье; только перейдя в пророческое служение, он становится мастером.
В этом гениального ученика просветил и наставил его великий учитель:
«Когда же ты поймёшь,
Что ты не сын земли,
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях, и в вещах — томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты освободитель божественных имен,
Пришедший изназвать
Всех духов — узников, увязших в веществе,
Когда поймёшь, что человек рождён,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и Разума
Вселенную Свободы и Любви —
Тогда лишь
Ты станешь Мастером» (13; 95—96).
И Булгаков стал Мастером. Не тем, который поселён на страницах романа, тот — лунный, не заслуживший света, Булгаков его перерос. Волошин видел солнечность души молодого адепта; он закрепил свое видение 19-ю строками предыдущего посвящения: ведь 19-й аркан — Солнце! И Волошин оказался прав.
«Когда он умер, — рассказывала Елена Сергеевна, — глаза его вдруг широко открылись — и свет, свет лился из них. Он смотрел прямо и вверх перед собой — и видел, видел что-то... Это было прекрасно» (3; 482).
Это было видение Иешуа Га-Ноцри.
Ибо только Свет порождает свет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заканчивался июнь, заканчивалось более-менее спокойное время. Приближалось июльское «нашествие варягов», и, внушив своей тараторке-жене, что Коктебель ему не понравился («нам» — объявила она), Булгаков покидает Волошинский оазис. В дороге он начал писать для камуфляжа (и для пропитания) очерк «Путешествие по Крыму», лениво переругиваясь с путеводителем «Крым» анекдотически известного оздоровителя «Саркомова-Серосинего»10. Коснеющий язык курортного Остапа Бендера должен был снять малейшие подозрения у не в меру внимательных сексотов, по отношению к нему всегда бывших настороже. Но вместе с ними Булгаков заморочил и доверчивых доброхотов. С Коктебеля в его жизни и творчестве начинается период секретности и тайны, и апологетом их он оставался до конца.
«Он... говорил, что мир, лишённый тайн, становится плоским и безнадёжным. Он хотел, чтобы была тайна. Чтобы было чудо» (9; 94).
«В каждом большом и подлинно художественном произведении непременно содержится тайна» (15; 68).
Истина, прикрытая для толпы маскхалатом профанно-явного, на самом деле представляет собой нечто совершенно иное, сказочно-прекрасное, парадоксальное — то, что не может вместить в себя сознание примитива. Нужно нырнуть, чтобы увидеть подводную часть айсберга, а кто на это способен? Для этого, как говорил Данте, надо иметь Il ben de l'intelletto, или, по-русски, «кой-что в голове». В самых обыденно-незыблемых понятиях и представлениях при заглядывании внутрь вдруг обнаруживается другой мир, где комфортно становится уже не телу, а душе. Иисус Христос, Дьявол, мир этот и мир тот, смерть и бессмертие — всё предстает в совершенно ином свете, не плоско, а объёмно, не условно, а безусловно.
Наставник писал: «...пред Тайной глубины склоняюсь я в молчании великом» («Лунария», 1913). История Иисуса Христа в его освещении тоже выглядит совершенно иначе:
«Но в день Суда единая порфира
Оденет нас — владычицу с рабой.
И пленных солнц рассыпется прибой
У бледных ног Иешуа Бен-Пандира».(«Лунария», 1913)
То, на что культ держал свирепую монополию, превратив в ярмарочно-дешёвую бутафорию, оказалось на самом деле глубоким, мудрым, непоказушным, ясным, хотя и не примитивно-однозначным. Какая тема для великой творческой личности! И Ученик со всей страстью Избранника навалился на тему. Нужно было в литературной среде того времени действительно быть «одному против всех», чтобы взяться за роман «о Боге и Дьяволе». Среди холуйской бормотухи авангардистов и претенциозных вывертов «богоизбранных» пигмеев подняться с четверенек в полный рост — надо иметь характер и мужество! И сразу вся эта сволочь вцепилась в него с остервенением пираний, стараясь не только заработать на критике, выслужиться перед режимом, но и изничтожить «унижающий других» пример альтернативного поведения. Потребовалось не спасовать, и Булгаков прежде всего для себя оформил это ясной позицией: «О трусость, говорил он, не от неё ли происходит вся подлость человеческая? Полистаешь журнальчик, почитаешь книжку — и такой вдруг стыд! Эх, эх, страшная вещь!», и назидательно — себе и собеседнику: «Главное — не бояться» (9; 19). Т. е. в аспекте будущего откровения он задавал себе основной принцип христоподобия.
Из Коктебеля вернулся новый человек, и другие люди сомкнули вокруг него свои ряды. Речь идёт о «пречистенцах», и следует растолковать, кто это такие.
В аспекте наступившей (с начала XX века сделавшейся и общественно-внятной) Эпохи Культуры стали значимыми, идеологически важными такие дисциплины, как история и теория культуры, мифология, сравнительное религиеведение и история идеологий, философская эстетика, искусствометрия, иконология, математические методы исследования художественных произведений, искусствоведческий анализ памятников мистической литературы и фольклора, описание и истолкование усложнившимися методами секулярной науки сакральных объектов, герменевтика, «символическое описание», философская теория перспективы и пр. Как нечто сугубо светское и неполитизированное, после 1917 года эти дисциплины получили «право гражданства»; была образована Государственная академия художественных наук (ГАХН), и в неё плавно переместилась вся масса философствующей интеллигенции, не находя другой социальной ниши для благоприятного, почти что как раньше, существования. Люди «заведовали», писали статьи и книги, читали лекции, получали за это какие-то деньги и жили почти не изменяя себе. Эта художественно-научная среда стала своего рода инкубатором для становления мастера.
Ещё находясь в Коктебеле, Булгаков развил и закрепил мимолетное знакомство с А.Г. Габричевским, ГАХНовцем, искусствоведом «широкого профиля» и не менее широкого загорелого фаса; после смерти Волошина А.Г. подменил его на коктебельском посту, купив дачу неподалеку. Булгаков с Габричевским «подружились, много виделись и проводили время в беседах на пляже» (13; 425). Беседы — в волошинском камертоне — носили наверняка характер разговора по существу и по делу, тем более что «Габричи», муж и жена, производили вполне надёжное впечатление.
Пречистенцы от души напитывали Булгакова глубинной информацией по самым разным вопросам. Знания их были феноменальны. Перед самым отъездом из «Волошинского рая» Булгаков несколько дней наблюдал за ещё одним ГАХНовцем, Б.И. Ярхо. «Литературовед и переводчик, специалист по латинской поэзии — античной и средневековой, полиглот, он поражал чудовищной эрудицией и анекдотической отвлечённостью» (13; 427). Некоторые яркие чёрточки этого феномена пригодились Булгакову для ранней редакции Романа, где даже была специальная глава «Что такое эрудиция». Действующий там герой Феся — это, конечно, некий обобщенный ГАХНовский профессор, некая скаковая лошадь дореволюционной вольготной жизни, впряжённая новой властью в громыхающую телегу «нового» бытия. Феся, например, читает лекции в Хумате11 (прозрачный намёк на хомут), в казармах какой-то дивизии и Академии изящных искусств. Но в аспекте того, что Феся был специалистом по демонологии, его литературному портрету более соответствует сам Волошин, и тогда «Феся» — намёк на Феодосию, коктебельскую метрополию и региональный исторический центр. Против прямого отождествления Феси с Б. Ярхо говорит тот важный фактор, что в Булгаковском персонаже нет ничего семитского, а в аспекте будущего иванобездомного вопля «Бейте, граждане, арамея!» аналогия представляется вообще маловероятной. Булгаков имел в виду показать несовместимость высокоучёного и интеллигентного исследователя с живым предметом исследования, например, разнузданным, как Бегемот, и неинтеллигентным, как Коровьев. Было бы, действительно, странно, если бы Борис Исаакович Ярхо стал поучать Воланда, как следует себя держать в соответствии с наиболее характерологическим дьявольским поведением.
Нет, учёный на роль главного героя не подходил.
Только художник сначала смог угадать, а потом мгновенно узнать, КТО прибыл в Москву жарким майским вечером, в среду. Художник этот должен был обладать абсолютной компетентностью учёного-специалиста по вопросу, чтобы своё недомыслие и «малое вежество» не выдавать за новое откровение, облекая его в художественную форму. Те, кто ныне пытается подправлять, поучать Булгакова с юдофильских или церковно-центрических позиций, либо сами не знакомы обстоятельно с темой, о которой толкуют, либо будучи охранительными псами, стараются согласно определённой политической установке (по приказу хозяина) ввести в заблуждение доверчивого, ещё менее знакомого с данным вопросом читателя.
Художник, начинающийся за пределами учёного, — тот «образ долженствования», что один только мог справиться с задачей, поставленной автором перед собой.
Сам Булгаков сумел одолеть такое задание только путём сложения сил: почти всё пречистенское братство пришло ему на подмогу. Сначала к нему присматривались. В этой старомосковской среде он не сразу прижился, не сразу был принят за своего. Все эти люди — искусствоведы, филологи, художники, литераторы — знали друг друга с детства, их лечили общие домашние врачи, их родители дружили домами... Для них он «ещё и в 1924 году был «писателем, приехавшим из Киева»» (3; 220). Жена А. Габричевского, дочь академика А.Н. Северцова, вспоминает: «Они приходили к нам, велись умные разговоры, споры, выясняли, кому что делать, что читать. Сюда входили всё новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые; вот они-то в спорах и выясняли каждый своё. По вечерам ходили в гости... ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь» (3; 242).
«У «пречистенцев» чтились филологи и философы.
Они забавлялись беседами о Риккерте и Когене. В моду входили Фрейд и Шпенглер с его... «Закатом Европы», в котором их особенно привлекала мысль, что главенство политики является типичнейшим признаком вырождения культуры. А посему они толковали об образе, взятом из природы и преображённом творчеством, о музыкальных корнях искусства, о мелодии, связанной с ритмом... В них всё ещё сохранялась рафинированность декадентщины предреволюционной поры, но они считали себя продолжателями самых высоких традиций московской интеллигенции. В этом кругу к Булгакову относились с повышенной заинтересованностью. В нём хотел и видеть своего представителя» (9; 38). Будучи органически чуждыми режиму, они радостно приветствовали убийственный сарказм Булгаковской сатиры. «Роковые яйца» (в первом варианте «Яйца профессора Персикова») и «Собачье сердце» приводили их в восторг. Тем более, профессор Преображенский был свой, пречистенец, что делало его смелые суждения рупором пречистенцев как клана.
Особенно «присохли» к Булгакову двое: Николай Лямин и Павел Попов, сотрудники ГАХНа, не имевшие особых личных амбиций и не считавшие для себя зазорным стать сателлитами великого человека. Павел Попов, например, чуть не при первом знакомстве вызвался быть биографом Булгакова. В круг общения «писателя из Киева» входили также А. Габричевский, Б. Шапошников, Г. Шпет, братья Ф.А. и М.А. Петровские, Б.И. Ярхо, А. Губер. С другими выдающимися умами установилась опосредованная связь: А.Ф. Лосев был другом и сотрудником П. Попова; жена Н. Лямина, художница Н. Ушакова, вывела Булгакова на А.В. Чаянова, чью книгу «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» она оформляла, причём это сотрудничество было специально поименовано в подзаголовке («Романтическая повесть, написанная ботаником X., иллюстрированная фитопатологом Y.12») В передаче пречистенцев Булгакову стала известна и деятельность П.А. Флоренского, чьё сочинение «Мнимости в геометрии» по их рекомендации было им приобретено и прочитано. Через этот текст автор МиМ вошёл в сердцевину эзотерической концепции Данте; книга величайшего русского христианского мистика дала Булгакову понять: художник силой своего искусства способен транслировать истину на землю с такой мощью и чистотой, что мудрецы и философы, разомкнув свои сплочённые ряды, с почётом принимают его в круг самых избранных. И это не те, кто громче сорвал аплодисмент, но те, кто самоотверженнее ей служил.
И Булгаков навсегда определил своё место.
Вскоре ему повезло и с коллегой.
Среди сотрудников ГАХНа был остроумный, весёлый горбун, переводчик, выпускник историко-филологического факультета МГУ, живчик и хлопотун Сергей Заяицкий. Это был неистощимый на выдумки фантазёр и мистификатор, ироник и мистик одновременно, который неутомимо и взахлёб открывал, переводил, пересказывал и инсценировал каких-то неведомых или малознакомых иностранных авторов. Сам он выступал восторженным посредником и ограничивался краткими предисловиями к их публикуемым книгам. Каково же было удивление доверчивых читателей, когда вдруг выяснилось, что сделавшийся популярным француз Пьер Дюмьель с его нашумевшим авантюрным гротеском «Красавица с острова Люлю» это не более чем весёлая маска самого псевдопереводчика. Певец Пречистенки (в 1914 году он написал восторженную поэму «Пречистенка» — «Пречистенка, благословенна будь. Ты нас взлелеяла, как матерь в колыбели» etc), Заяицкий в 1917 продолжил эту гимнографию поэмой «Неврастеник», «где любовно описаны те самые переулки Пречистенки и Арбата, которые вскоре станут местом действия одной из повестей Булгакова» (3; 244). Сергей Заяицкий закончил свой краткий 37-летний жизненный путь развёрнутым «эпическим» полотном «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова. Трагикомическое сочинение» (1928), кратко называемым среди друзей «Портрет САЛО(м)» в совершенно Булгаковском стиле. Заяицкий, когда они познакомились, был уже известным в узких интеллигентских кругах автором. Искромётные хохмы без особого идеологического подтекста не вызывали «охотницкой» стойки легавых от цензуры, и он, как и многие другие ГАХНовцы, публиковался обильно, хотя и малотиражно. Булгаков впервые читал у Заяицкого весной 1924 года13, и их взаимная приязнь, постепенно переросшая в дружбу, длилась до самой смерти Заяицкого в 1930-м году. Неизлечимо больной (костный туберкулез, приведший в том числе и к деформации фигуры), Заяицкий бросил дерзкий вызов недугу, абсолютно не считаясь с занесённым над ним дамокловым мечом, живя не только полноценно, но и весело. Н.А. Ушакова рассказывала о том, как однажды «Заяицкий, идя по Пречистенке, обратил внимание на прохожего, который слишком уж пристально глядел на него, франтовато одетого горбуна. Тогда пройдя дальше, Заяицкий сел на трамвай, обогнал таким образом прохожего и, выйдя из трамвая, вновь пошёл ему навстречу. Этот трюк он повторил дважды, приведя прохожего в полнейшее замешательство. И сам же Заяицкий рассказывал об этом, хохоча: смущён был не он, а прохожий» (3; 244). Такая жизнестойкость поразила Булгакова. Сам обречённый (он это предвидел как врач), он вдруг увидел пред собой не просто живое утешение, но заразительный пример, укор в минуты слабости. Заяицкий сразу признал лидерство Булгакова: сам он был моложе на два года; за его плечами не было опыта войны; кроме того, он был вечно переполнен замыслами, а тут уж не до счётов. Так около Булгакова появился «конёк-горбунок», а вместе с ним и эта Ершовская тема в МиМ. Абрис лунных пятен, достаточно отчётливо видимых с Земли, воспринимался то как горбатый заяц14 (в Китае), то как маленькая лошадка с длинными ушами и опять же горбом. Таково подлинное происхождение Ершовской мифологемы. И теперь конёк стоял перед Булгаковым. Можно было смело нырять в котёл Млечного пути, что «писатель из Киева» и сделал. В год появления «Лососинова» Булгаков начинает свой космический Роман. Оба идут грудь в грудь.
Это Серёжа Заяицкий втравил Булгакова в театральную карусель, внушив ему, что писать пьесы совсем не трудно. В 1925 году весёлый горбун создаёт романтическое переложение «Вильгельма Телля» («Стрелок Телль») Россини, затем как из рога изобилия посыпались: «Жизнь приказывает» (1929), «Побеждённые камни» (1930), «Простая мудрость» (1930), «Таинственные письма» (1930). Когда Булгакову было невмоготу с бесконечными пьесами, инсценировками, а затем ещё и оперными либретто, он всегда вспоминал своего незабвенного Серёжу.
Он купил бинокль, чтобы пристальнее вглядываться в Луну. Написал памятку: Луна! Проверить луну! И наблюдения: «13-го мая в 10 ч. 15 м. позлащённая полная луна над Пречистенкой... 18-го мая в 5 ч. утра, белая, уже ущерблённая, беловатая, над Пречистенкой. <...> Перламутровые облака над Арбатом» (18; 250).
Заяицкий умер в Феодосии 21 мая 1930 года. 22-го друзья устроили в Москве панихиду. Лямин заезжал за Булгаковым, не застал, оставил записку.
Оказавшись сам «у порога», Булгаков как-то сказал задумчиво: «Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Её просто невозможно вообразить. А она есть» (9; 99).
Орден, который они хотели некогда учредить, теперь уж придётся основывать на небесах.
О, этот страшный тридцатый15!
Загнали в угол, вышибли отовсюду, оставили без куска хлеба.
— Пришлось писать письмо Дракону, преодолев ползучий страх. Когда застрелился Маяковский — тиран забеспокоился, позвонил.
— Дали работу во МХАТе.
В середине года арестовали того, кого они с Серёжей с удовольствием бы приняли в свой орден и даже выбрали командором.
Александр Васильевич Чаянов был на три года старше Булгакова. Профессией его была экономика, однако сердце рвалось в таинственный мир культуры и эстетики. Орденская стилистика немецких и русских романтиков была его идеалом: Э.Т.А. Гофман, В. Одоевский, А. Погорельский, А. Вельтман, А. Чертков. С 1918 года в течение 10-ти лет он издал пять небольших изящных книжиц, скромных и малотиражных; они сразу сделались особым, элитарным чтением, а вскоре и библиографической редкостью. Названия у этих красивых и легких стилизаций были двойные, во вкусе того времени, салонность уравновешивал демонизм, «живопись намёками» не преследовала никакой другой цели, кроме самодемонстрации, и в этом было нечто располагающее. За ним сразу закрепилось звание «русский Гофман»; все другие стилизации отталкивали своим умыслом и претенциозностью. Конечно, было в современной литературе нечто близкое: проза М. Кузмина, П. Муратова, Г. Чулкова. Там это делалось широковещательно и с нажимом; здесь же, в полумаске псевдонима «Ботаник X» — без всякого расчёта на шумный литературный успех, и даже не очень уклюже, что особенно обезоруживало.
Вторую из этой серии — «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922) — и подарила Булгакову её иллюстратор Н.А. Ушакова. Булгаков раскрыл подарок наобум, взглянул... и глазам своим не поверил:
«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!»
Он перевернул страницу, впился глазами:
«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски».
Повесть была о том, как в Москве объявился Сатана. Фамилия Сатаны была Венедиктов, фамилия главного героя — Булгаков. Но весь фокус в том, что за несколько лет до выхода этой книги в Москве появились два писателя с точно такими фамилиями. И одним из них был он16.
Чаянов сделался его нечаянной радостью. На первой книжке из серии («История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора» М., 1918) Булгаков прочёл посвящение: «Памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана посвящает свой скромный труд автор». Знамя над всеми тремя было поставлено. Великий мастер, сиречь гроссмейстер, задал ордену тон и градус фантасмагоричности. В 1928 году Чаянов писал: «Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его Гофманиаду, некоторое количество своих домашних дьяволов». В Киеве, где Булгаков начинал, местная лихая чертовщина роилась вокруг Лысой горы, в Москве — вокруг масонской святыни, Пашкова дома.
Высший мир обнаруживает себя в этом прежде всего явлением Сатаны — недаром он Князь Мира. Когда Христос удаляется в пустыню, Сатанаил уже ждёт Его там. Два полюса материальной Вселенной соединены в пару аркой радуги, «дуги Ра». Она — непременный атрибут при эзотерическом изображении архангела Михаила. Поскольку последний — небесный патрон и Киева, и Булгакова, радужность, т. е. соединённость воедино Планетарного Логоса и Дьявола, была в автора МиМ встроена метагенетически, изначально.
Не удивительно, что автопортретность (в ранних вариантах) черт лирического героя даёт название главе «Гроза и радуга» (7; 281—282). Затем Булгаков придаёт это слово-понятие тому, кто был его наставником в эзотерическом понимании структуры мира — коктебельскому магу в облике чудика и хлопотуна. Киевский дядя Берлиоза (теперь уже композитора, создавшего в «Фантастической симфонии» совершенно Гоголевскую музыкальную картину «Шабаша на Лысой горе») зовётся Александр Максимилианович Радужный (6; 145), но квартирный «пунктик» его — едкая самоирония. Булгаков был помешан на квартирном вопросе (мой дом — моя крепость, как известно; а ему, чтобы отгородиться от совкового маразма, нужна была даже не крепость — ЦИТАДЕЛЬ), и Шубертовский «Последний приют» — своего рода булгаковская «квартирная месса».
От Чаянова Булгаков усвоил бесконечную реминисцентную связь с обширным культурным полем, постоянную перекличку с источниками и вбирание прозрачных аллюзий и прямых цитат внутрь своего текста. Чаянов создал своего рода культ цитаты, в этом он был невероятным искусником и эстетом. Но для пародийного расщепления «вещества» цитаты, для идеологического ей оппонирования и эзотерического исследования в МиМ Булгаков пользуется в основном приёмом скрытой (или псевдоскрытой) цитаты в расчёте на высочайший общекультурный горизонт читателя, мастерский его уровень. Поэтому «открытие» современными простодушными «следопытами» таких перекличек основано, мягко говоря, на недоразумении. А сколько всевозможных контактов с внелитературным материалом! Достаточно указать на музыкальный тематизм МиМ: как в пародийном и квазипародийном использовании имён творцов музыкальных миров, так и в музыкальной словесной живописи; например, грозы у него решаются в мелодике, ритмике и энергетике «Грозы» из «Пасторальной симфонии» Бетховена.
Наконец, масонская патетика Чаянова, братский пафос которой подвиг его на разработку и внедрение идеи сельскохозяйственной кооперации (чем он вошёл в историю мировой экономической мысли и за что сложил голову), разлита по страницам его повестей как естественный «колорит времени» (с чем связано обращение к началу XIX века, для коего эти орденские качества особенно характерны). Она наполнила Булгакова поэзией рыцарства (рыцарь — это прежде всего брат, даже если он одинокий скиталец) и сладостью «гностического артикулирования» слов мастер и ученик, являющихся в МиМ ключевыми. Эти слова, выношенные и выстраданные Булгаковым в напряжённейшем двадцатигодичном алхимическом делании, служат ему позывными-паролями, а не унылыми и тривиальными лингвистическими единицами.
Можно только сожалеть, что в жизни им так и не пришлось соприкоснуться, хотя через Н.А. Ушакову (ей повезло проиллюстрировать ещё одну книгу Чаянова «Необычайные приключения графа Фёдора Михайловича Бутурлина...», 1924) контакт был не только мощным, но и обоюдным.
Четвёртым в компании был замечательный писатель и поэт Константин Вагинов, автор нашумевшей (в узких же кругах) повести «Козлиная песнь». Обыгрывая (с развёрткой) в названии произведения перевод греческого слова трагедия, Вагинов иронически обращается с устойчивыми понятиями лексического обихода интеллигенции, и тем освежает их, придаёт им живизны. Всё, что связано у Булгакова с чёртом как существом козлоногим (христианское прочтение мифологемы греческого бога Пана): название «Копыто инженера», затем остаточный безымянный «козлоногий» — имеет отношение к «Козлиной песне» Вагинова.
Заяицкий и Вагинов — ироники без фельетонности, тогда как пятый в этой компании, Евгений Замятин, в антиутопии «Мы» добился использования сатиры без малейшего присутствия вокруг неё добродушной ваты иронии.
Евгений Замятин — целая глава в жизни Булгакова. Их десятилетнее общение и дружбу, основанную на чувстве уважения, в области генерирования которого замятинская душа не знала себе равных, не смогла прервать даже начавшаяся осенью 1931 года эмиграция. Замятин был единственной опорной точкой Булгакова в Ленинграде; посещая по делам северную столицу, Михаил Афанасьевич всегда, по существу, стремился только к нему. Замятин был человеком культуры; никто не отстоял от культа так далеко, как он. Мысль «Самостоянье человека — залог величия его» была высказана некогда именно о нём. В несгибаемости перед тиранией ему не было соперников. Булгаков дрогнул пять раз. Замятин — ни одного. Замятин подхватил Булгаковский почин смертельного номера «письма в Кремль» — и пошёл до конца. Его эмиграция в конце 31-го года — своего рода чудо, оставшееся уникальным. После отъезда Замятина мышеловка захлопнулась навсегда. Булгаков же, как и Волошин, должен был остаться навечно в зоне погибели.
Прозрачность наступает на высших стадиях давления и температурного режима; тогда получается тот «прозрачный кристалл, через который человечество будет смотреть на солнце». Замятину алмазный закал оказался не по силам, не по призванию и не по судьбе. Агасфер, как его называл Булгаков, отбыл за кордон, провожаемый улыбками и щемящей болью в сердце младшего собрата. А уже через полгода: «Дорогой Мольер, мы сидим в кафе в Монако и вспоминаем Вас... Отдыхаю в Côte-d'Azur'ных краях... скоро опять еду в Париж... А отсюда — может быть, в Америку... Привет... милый Маб!»
Перламутр, мотыльковость, эфиопский загар... Летаргия блаженства... Странник посторонился и уступил дорогу и путь — виа круцис. Маб всегда на посту, как и положено фее; Via Crucis, конечно, не Côte-d'Azur, но — каждому своё.
Правда, когда Булгаков делал отчаянные попытки съездить за рубеж («Париж, Рим!»), он думал прежде всего о Замятине. Да ещё о свидании с братьями, с кем не виделся с «до войны». — Тщетно. Минус заграница — плюс МиМ. Таково было решение Высших Сил. — Мудрое, как всегда, решение.
Был ещё Сигизмунд Кржижановский, молчаливый и строгий союзник, увеличивающий в пределах возможного общую орденскую мощь. Почти все вышли из тени только посмертно. В России, как известно, надо жить долго. — Не всем это удалось; наша духовная свобода оплачена их кровью. Они — соль земли.
Булгаков стоял на пограничье света и тени. Среди отвергнутого поп-культурой было много сокровищ: «На полках его библиотеки стояли... во множестве второстепенные, забытые писатели... Жаль, что не сохранилась его библиотека. Она... рассказала бы не только о его вкусах, но и о его рабочей лаборатории» (9; 68). Наверняка была подобрана русская орденская литература и русская Гофманиана (В. Одоевский, Ф. Глинка, А. Погорельский, В. Сенковский, М. Погодин, супруги Вельтман). С П. Поповым со смакованием обсуждалась раритетная проза Апухтина — это сохранила переписка. Наверняка внимание Булгакова привлекал оккультный роман (М. Корелли, эмигрант Принц (Рыбаков), В. Крыжановская); проза известных своими трактатами по мистике М.В. Лодыженского, П.Д. Успенского, Е.П. Блаватской. В то время, вероятно, литература эта была достаточно доступна.
Когда появлялись деньги, Булгаков приобретал книги с единственной целью настоящего мастера — использовать их как материал для работы. Правда, Булгаковские сочинения имеют ко всему этому «словесному огороду» такое же отношение, как «Братья Карамазовы» к уголовной хронике. Создание текстов культуры второго порядка предусматривает использование текстов культуры первого порядка как работу с природным субстратом. Духовная алхимия именно это и предполагает. А ведь алхимия (ал-Кеми) — «египетское искусство». Пилат мгновенно сориентировался, откуда чудо исцеления и Кто перед ним:
«После этого раздался голос прокуратора:
— Ты был в Египте? <...>
— Да, я был.
— Ты как это делаешь? <...>
— Я никак не делаю этого, прокуратор» (7; 116).
Повышать качество всего, к чему прикасаешься — это дар божий, харизма духовного мастера. Булгаков обладал этим даром. Когда «петля затянулась», он кормился только за счёт него, улучшая чужие сценарии и либретто. Одно это даёт понять: он человек не отсюда, где хлюпает жидкая грязь бездарности. Поэтому бактерии, что «здесь живут», ненавидят его свирепо, сальериански (sal — грязь по-французски).
В связи с образом Маргариты небезынтересно проследить, какого типа подруги шли с ним рука об руку.
Первая, Тася (Т.Н. Лаппа), простоватая, грубоватая, «фоновая», незаметная, тихая. Это она выходила Булгакова, страдающего морфинизмом. «Подруга дней моих суровых», надёжный товарищ. По жизни — да, но в творчестве...
«Однажды он мне читал про... молитву Елены, после которой Николка... выздоравливает.
Но я подумала: ведь эти люди всё-таки были не такие тёмные, чтобы верить, что от этого выздоровеют...
(И) я ему сказала: Ну зачем ты это пишешь?
Он рассердился, сказал: Ты просто дура, ничего не понимаешь!» (8; 488)
В Москве, где произошла резкая смена жизненного пути, сменился и образ той, которая должна была быть вторым крылом. А тут ещё Алексей Толстой, бытовой философ, подзуживал; «похлопывал его по плечу и говорил: Жён менять надо, батенька. Жён менять надо. Чтобы быть писателем, надо три раза жениться» (12; 102).
И рядом появляется «парижская штучка», вальяжная и разбитная Любаня (Л.Е. Белозерская). В складках её одежды запутался ветер дальних странствий, в волосах — чешуя летучих рыб. Она — женщина без предрассудков, «свой парень». Булгаков подобрал её чуть ли не на улице: нет жилья, нет средств к существованию, нет близких и мужа. Есть: жизненный опыт, раскованность, знание мужских струн. Через несколько лет она уже тешила свою праздность верховой ездой. Умела общаться, была незажата, и в компаниях её любили. Прижилась к пречистенскому «малому свету», её быстро признали за свою: она была из старых фамилий. Всё бы ничего, при ней Булгаков почувствовал себя писателем, но тут...
«Телефон висел над его письменным столом, и жена всё время весело болтала с подругами.
Однажды он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила ему беспечно: — Ничего, ты не Достоевский!17 — Он побледнел, — говорила Елена Сергеевна, — рассказывая... это. Он никогда не мог простить этого Любе» (3; 359).
Уже сдавая свои полномочия, Л.Е. припугивала новую избранницу: «Ты не знаешь, на что идёшь. Он жадный, скупой, он не любит детей» (22; 489—490). Насчёт детей см. 22; 49, 661. А что касается скупости, то пикантность обвинения подчеркивалась переводом Булгаковым одноименной комедии Мольера для собрания сочинений в издательстве Academia.
Итак, на горизонте появилась третья. Установка А. Толстого была выполнена до конца. Правда, говорили, что первая жена — от Бога, вторая — от людей, третья — от Дьявола... — А, была-не была! Ревнивая Тася убеждена: «Баб у него было до чёрта». Ну, значит, и эта оттуда, одно к одному.
Третья звалась Елена Прекрасная. Генеральская жена на содержании, скучающая от достатка; по совместительству — мать двоих детей. Приключение — единственное, что было в её жизни в дефиците. Ищите — и обрящете. Третья встреча (и у неё и у него) была в мистику цифры. Три — рит — Маргарита.
Легенда о тождественности «Люси» с героиней МиМ возникла после смерти Булгакова сначала в узких кругах знакомых с рукописью, и сама Е.С. ей всячески потакала. Ахматова, поселившись в эвакуации в Ташкенте в той же комнате, где до неё жила Е.С., вдохновилась этой летучей версией, в результате из тишины проступили строки:
В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень её ещё видна
Накануне новолунья.
Рассказ В.Я. Лакшина: «В конце 60-х годов Елена Сергеевна попросила меня, работавшего тогда в редакции «Нового мира», представить её А.Т. Твардовскому; Я договорился с Твардовским и сообщил ей по телефону, что она может приехать. «Она радостно ответила: «Когда?» — «Да сейчас». — «Так ждите меня», — сказала она и повесила трубку... Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над вёрсткой. На пороге стояла Елена Сергеевна... «Как?! — вскричал я. — На чём же вы...» — «На метле», — не смутившись ни капли, призналась она и радостно засмеялась моей недогадливости» (18; 290).
Произошла обратная рефлексия: литературного персонажа на отдалённый прототип. Играть Маргариту стало для Е.С. принципом самоидентификации. «Однажды я видела Елену Сергеевну в гневе. Но с тех пор не сомневаюсь, что слова «Я его отравлю!» были ею некогда сказаны на самом деле, и счастье Осафа Литовского, что он этих слов не слыхал» (18; 291). Для сравнения приводим оригинал: «Глаза её источали огонь, руки дрожали и были холодны. <...> Затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского».
Ещё пример. Будучи дамой избалованной и обеспеченной (маникюрши, портнихи, парикмахеры), она с глухим раздражением относилась к «прежней» компании пречистенцев, которые, после 30-го года проворачиваемые в советской тоталитарной мясорубке, казалось, источали вирус несчастья, являясь угнетающим контрастом к новой компании преуспевающих театральных деятелей. «Близкий ему круг 20-х годов, либеральная «Пречистенка» выдвигала Булгакова как знамя. «Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их за это ненавидела, глаза могла им выцарапать... И выцарапывала», — сказала Е.С. со смехом, подумав и что-то вспомнив» (8; 414).
Между тем «приключенческий роман», приведший к образованию у Булгакова «тайной жены», ничуть не предполагал каких-то капитальных надводных изменений. Более чем через год после его начала Булгаков, оказавшийся с ТРАМом на юге, шлёт страстные шифрограммы возлюбленной, стараясь залучить её в Крым:
«Убежден Ваше ведомство может срочно приобрести Москве курбюро путевку южный берег Крыма ...»
И снова: «Ведомство полагаю найдёт место одном из пансионатов протяжении Мисхор — Ялта...»
В ответ Е.С. телеграфировала «вежливый отказ», подписавшись: Ваша Мадлена Трусикова-Ненадёжная.
Никакой мистики. Да и откуда было ей взяться? «Это была весёлая, кокетливая, небезупречного вкуса особа, которая на какой-то вечеринке лазила под стол и которую звали Ленка-боцман» (21; 409—410). Таков портрет до знакомства с Булгаковым. Через тридцать лет обработки оригиналом Лакшин познакомился с «сердечной и безукоризненно светской, расчётливой и безудержно-щедрой, весёлой и горестно-проницательной» дамой, «имевшей поверх всего этого ещё легкий флёр инфернальности, короче, с учёной ведьмой, опытной ведуньей и чаровницей» (21; 410).
И возвращаясь к «эпизоду с метлой»: «Итак, я, человек, чуждый всякому мистицизму и оккультным наукам, готов подтвердить под присягой, что в тот день она выбрала именно этот вид транспорта, потому что простейшие расчёты времени начисто исключают всякую иную вероятность» (21; 415).
Происшествие конца 20-ых годов:
«...После этого — актёрский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится» (4; 326). Т. е. остаётся какой-то ощипанный Маяков-с.
Это 1929 год. Мистерия Романа уже началась. Порывы её победительной энергетики подхватывают и уносят из зауряда обыдёнщины самого автора и его близких друзей.
«Луна светит страшно ярко, Миша белый в её свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведёт через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять палец у рта, опять молчание. Потом также под руку ведёт в какой-то дом у Патриарших, поднимаемся на третий этаж, он звонит. Открывает какой-то старик, роскошный старик, высоченного роста, красивый, с бородищей, в белой поддёвке, в высоких сапогах. <...> Из каких-то слов понимаю, что старик — в прошлом... рыбопромышленник, был в ссылке, вернулся к сыну в Москву... А Миша был в приятельских отношениях с сыном его. Сидели до утра. Я сидела на ковре около камина, старик что-то ошалел: «Можно поцеловать вас?» — «Можно, говорю, целуйте в щёку». А он: «Ведьма! Ведьма! Приколдовала!» «Тут и я понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!» Пошли домой, и так до сих пор не знаю, у кого это я была. Миша для таинственности не сказал фамилии и всегда уверял, что всё это мне приснилось» (4; 327).
Магия пробуждённых к жизни событий привела к смысловой контаминации холёной Елены с двумя детьми с одинокой душой — Маргаритой; той, которую он три года вырывал из самодовольной и самодостаточной уютной семейной жизни, с той, кто бродила, потерянная, по улицам Москвы, подумывая о самоубийстве.
О, алхимия слова, алхимия духа! Исходный материал — ничто, финальный продукт — всё.
«...Миша как-то... говорил мальчикам моим..., когда Женичка пришёл к нам и мы, счастливая четвёрка, сидели за столом: «Дети, в жизни надо уметь рисковать... Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла ко мне, бедняку, и вот поглядите, как сейчас нам хорошо...» И вдруг, Сергей малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: «Подожди, Потап, мама ведь может 'искнуть ещё 'аз».
Потап выскочил из-за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет» (4; 331—332).
С тех пор «Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: «Немезида!... Понимаешь, Сергей, что ты — Немезида?» На что Серёжка оскорблённо отвечал: «Мы ещё посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!» И приводил этим Мишу в восторг» (4; 328).
И уже ближе к концу.
Обстоятельства вынудили Булгакова писать к 60-летию «вождя» пьесу «Батум». «Скрипя сердцем» он вымучивает текст, максимально мобилизуя свой профессионализм. И однако «настроение у Миши убийственное» (4; 26). Он читает готовые куски, насторожённо внимая мнениям. Все слушают «закоченев», а потом бравурно хвалят, стараясь не смотреть в глаза. А что же «Маргарита»? — «Елена Сергеевна с особенной тщательностью коллекционирует хорошие отзывы об этой пьесе» (3; 465).
«Миша сидит, пишет пьесу. <...> Выйдет!»
«Миша над пьесой. <...> Какая роль!»
День именин Е.С. «Часов около 8 вечера стало темнеть, в 8 — первые удары грома, молния. Началась гроза. Была очень короткая. А потом было необыкновенное освещение — красное небо.
Миша сидит... над пьесой о Сталине».
«Звонок Д. — жаждет получить сведения о пьесе».
«Часов в восемь вечера Сахновский. Всё понятно: он хочет ставить пьесу, а Немирович тоже».
«У нас К. Основное — безумное желание прочесть пьесу».
«Сегодня урожай звонков: 3 раза К. Просит прочитать пьесу в Комитете (по делам искусств)... Слушали с напряжённым вниманием. Пьеса очень понравилась».
«Во время читки пьесы — сильнейшая гроза». — Вот! Это уже знак. Который не принят, не понят. Но у Булгакова защемило сердце.
«Мхатчики приклеились к Мише, ходили за ним как тени. Слушали замечательно, после чтения долго, стоя аплодировали. Потом высказывания. Всё очень хорошо».
«Звонил К., что пьеса Комитету... очень понравилась и что они послали её наверх».
Театр снаряжает экспедицию по «местам боевой славы» «вождя». В бригаду включён и Булгаков. «Мише ехать не хочется».
«Звонок С. — страшный вой. Как получить пьесу, чтобы дублировать её. МХАТ не смеет только себе забирать! Вся страна должна играть! И в таком роде».
«Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришёл к выводу — ехать сейчас в Батум не надо».
А что «Маргарита»? В эти дни Е.С. пишет матери: «У меня чудесное состояние и душевное, и физическое. Наверно это в связи с работой Мишиной. Жизнь у нас заполненная, интересная, чудесная!» И сестре: «У меня дрожь нетерпения, ехать хочу безумно, всё готово к отъезду... Неужели едем завтра!! Не верю счастью».
Наступил день отъезда. Булгаков был назначен «бригадиром». Состав тронулся...
«В «бригадирском» купе Е.С. тут же устроила отъездный «банкет», с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: «Булгахтеру телеграмма!». Михаил Афанасьевич сказал: «Это не булгахтеру, а Булгакову» (он сказал это, побледнев, в ту же секунду, как раздался этот странный возглас, — будто он всё время ждал его). Он прочитал телеграмму вслух: «Надобность поездки отпала возвращайтесь в Москву»».
Это — «молния» с неба.
Сошли на ближайшей остановке. Взяли машину, вернулись домой.
«Телефон молчит...
У Миши состояние духа раздавленное. Он говорит — выбит из седла окончательно» (3; 465—470).
«Мало меня проучили, — бормотал он сквозь зубы. — Казнить, казнить меня надо!
Он был к себе беспощаден» (9; 82).
Во время последнего разговора с Фадеевым Булгаков высказался обобщающей сентенцией:
«Всё дело в жёнах, — вдруг сурово сказал он. — Жёны — великая вещь, и бояться их надо только при одном условии — если они дуры. А вообще — как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!» (9; 110)
Совет Фадееву очень пригодился. После смерти писателя Е.С. «некоторое время была любовницей первого секретаря Союза советских писателей А.А. Фадеева (Булыги), с которым познакомилась во время последней болезни мужа» (5; 121). Парадоксальность ситуации состояла в том, что, с одной стороны, означенный Булыга был внесён в «чёрный список недоброжелателей», составленный Булгаковым при участии Е.С.18; с другой стороны, он же возглавлял комиссию по литературному наследию писателя, начавшую «заседать» (дальше седалищной патетики дело не пошло) уже 14 марта 1940 года. Затягивавшийся «чёртов узел» ситуации Булгаков почувствовал накануне: 13 (!) января он предпринимает попытку повидать Фадеева, но не застаёт его в Союзе писателей. О чём он намеревался с ним говорить? Шёл «открыв забрало» навстречу судьбе?
Во всяком случае, Фадеев откликается на вызов в «стиле проекта»: 15 (!) февраля он появляется у Булгаковых впервые, а затем повторяет визит 1 и 5 марта (и снова 15-й аркан!).
...Всё кончено. 15 (!) марта Фадеев пишет вдове: «Мне многое хотелось бы сказать вам о вас, как я видел, понял и оценил вас в эти дни, но вам это не нужно сейчас, это я вам скажу в другое время» (2; 500).
Через две недели сестра Е.С. в письме матери подтверждает: «Сегодня Люся сказала мне, что Председатель союза писателей, совершенно исключительно ценивший Маку, был у неё и настаивает, чтоб ей уехать куда-нибудь на юг, немного укрепить нервы, сердце..., он её хорошо устроит, например, в Ялте. Люся немного колеблется, но, кажется, начинает склоняться...» (2; 512). Воспитанная Маргаритой Е.С. поняла, что она «должна ему отдаться»19, тут и в самом деле потребовалось именно это. В результате в эвакуацию Фадеев устроил ей отъезд с «писательским эшелоном» — и Роман был спасён, уцелев от шмонов благодаря тому же покровительству. Маргарита распорядилась собой по-хозяйски, и Е.С. оказалась её достойной ученицей. В отличие от Мессира земные черти отнюдь не бескорыстны. Так что не только Симонов, но и Фадеев оказался причастен к доставке читателю рукописного чуда XX века.
Тут есть ещё одна, сугубо мистическая, тонкость.
Видя и понимая далеко за пределами этого, материального, мира, Булгаков, готовясь к смерти, медленно обживал тот берег бытия. «Мне мерещится иногда, — говорил он, — что смерть — продолжение жизни. Мы только не можем представить себе, как это происходит. Но как-то происходит...» (3; 479).
«Он задумался и потом сказал ещё, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось...» (9; 99).
Так и случилось. Контакт с женой по смерти не прервался. «Он снился ей, и в эти сны она уходила, как на свидания... Эти сны она записывала. Заглавие «Письма на тот свет» принадлежит ей» (4; 385). Несколько отрывков из них:
«Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне: громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже ещё больше и ещё ярче, чем в жизни. Наверно, такие они у тебя сейчас».
«Москва, весна, солнце, Замоскворечье. Миша идёт рядом со мной в чёрном пальто, в шапке. Я понимаю, что он воскрес, и только боюсь, чтобы кто-нибудь из встречных — а все встречают его с каким-то необычайным почётом — не дал ему понять, что он умер».
«И тут он как-то даёт мне понять, что я должна много учиться, совершенствоваться (...в смысле познаний), что это необходимо для той (его) жизни. Что мы увидимся. А теперь он будет время от времени мне являться в снах» (4; 294, 296).
Это общение продолжалось до конца её жизни. Через 20 лет на вопрос о неясностях с окончанием «Белой гвардии» она ответила: «Вы знаете, я давно хочу спросить об этом у Миши, когда он мне снится, но почему-то забываю...» (4; 385).
Значит, всё, что с ней происходило, было ведомо там. И встречено с пониманием.
Ставка в игре была слишком высока.
А Булыга в 56-ом году застрелился. Не из булгаковского ли пистолета с Новодевичьих прудов? — Мавр сделал свое дело...
«Свою роль ангела-хранителя Булгакова Елена Сергеевна знала твёрдо, ни разу не усомнилась, в трудный час ничем не выдала своей усталости. Она поддерживала его силы и охоту к работе своим не знавшим сомнений восхищением, безусловной верой в его талант.
«Когда мы стали жить вместе с М.А., — вспоминала Елена Сергеевна, — он мне сказал однажды: Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоём и мне ничего не страшно»» (21; 416). Эту его уверенность она оправдала вполне.
Однако эзотерический статус Маргариты был намного выше — кони последнего полёта так и остались для подражательницы вне досягаемости.
Ещё более сложный сплав представляет Мастер20, ещё большее количество элементов было уложено в алхимическую реторту перед магическим возжиганием атанора. И главной сокровищницей, давшей для его создания драгоценные чёрточки, была Пречистенка.
Сначала Булгаков придерживался Гётевского оригинала. Чернокнижник Фауст примагничивает к себе чёрта: подобное вызывает подобное. Но какие при советской власти чернокнижники? Правда, за последнее время появилась новая возможность: «плясать на пограничье», т. е. заниматься историей «сомнительного» (с точки зрения как властей, так и «строгой науки») предмета. Т. е. быть, например, историком мистики или палеографом алхимических трактатов средневековья и т. д. Выгода от такой мимикрии тройная: чист перед властями, безукоризнен в учёном мире и выглядишь скрытым адептом предмета в глазах всех, им интересующихся. В советское время такая трёхсмысленность была освящена страдательным залогом, в котором оказалась свободная мысль при тоталитарном режиме. Это один из умыслов. А два других? — Два других так и оставались чистым дивидендом хитрованов и прагматиков. «Кому флаг камуфляж, кому блажь». Перед революцией тайными науками и занимались в основном втайне; оккультистами были даже некоторые богословы. Флёр особой значительности витал над иными вполне респектабельными именами.
Тот, кто был призван стать современным Фаустом, должен был быть одним из них. «Специалист по средневековой демономании» — так определил Булгаков его род занятий в одном из первых вариантов Романа. Известно, что самое капитальное сочинение на такую тему написано Жаном Боденом. Трактат француза имелся в эзотерической библиотеке Волошина. Макс не только читал Бодена, но и освоился с описанной им чертовнёй до, буквально, её одомашнивания. Добрый бес Габриак в виде деревянных своих подобий густо населял эзотерический храм в Коктебеле. И то, что бес этот защищал дом от злых духов, такова была его прямая профильность, потрясло Булгакова подтверждением Гётевской формулы: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Структура Новозаветной истории приобретала в этом пророческом мотто абсолютно новые, неслыханно гармоничные очертания. То, над чем бились поколения богословов, включая его отца, судорожно пытаясь свести концы с концами, вдруг стало легко и просто, ибо ключ ко всей системе был найден: этим ключом была эзотерическая демонология.
Всё, что связано с «умористическими» характеристиками образа Феси (возможно и уменьшительное от Фауст с намёком на феодосийское «местоположение»), это Волошинские черты. Почти беспрерывное пребывание за границей, знание французского языка лучше родного, романтичность, неотмирность, «тюфяковость» и непрактичность — чистокровный Макс, увалень, бонвиван и маменькин сынок, бородатый юноша в пенсне и ермолке. Однако нужны были весёлые мистификации с Черубиной де Габриак, а не одни отключённые научные штудии, чтобы стать с Бафометом на «ты». И Булгаков, исписав много остроумных и ярких страниц, понял, что зашёл в тупик. На контакт с Фесей представители «ведомства Воланда» так и не явились. Вместо них обнаружился Лев Толстой с капустой. Фигура, конечно, яркая и в чёртообразном смысле выразительная, и всё же «Федот, да не тот».
Чистый учёный для этой роли не годился. Слово (пароль, мантрам, «сезам»), не только правильное, но и прекрасное должно быть произнесено артистом, художником, поэтом (только произнесённое поэтом становится убедительным поэтому). Так в историке (уже без игривого акцентирования спецификации) прорезается писатель, точнее сказать, бель-летрист; а что он неухоженый какой-то и грустный, то это от второго прочтения слова: беллетрист. И он создаёт не текст о..., а первотекст, само «магическое слово». Для этого в алхимическую реторту пришлось добавить ещё много чего. «Человек с птичьим носом» — здесь Гоголь ни при чём (прилеплять пушкинские бакенбарды к пиджачной паре — безвкусица); и автопортретности здесь нет: у Булгакова был, по верному наблюдению В. Катаева, лисий нос. Нет, речь идёт совсем о другом человеке, сыгравшем в его мировоззренческом становлении огромную роль.
Речь идёт о П.А. Флоренском — легендарной ещё с дореволюционных времен личности, богослове-символисте, возрожденческого размаха универсалисте, эзотерике и мистике. Пречистенка благоговела перед личностью этого необыкновенного человека, кто посвятил себя Истине и отрапортовался о первых десятилетиях рыцарского служения Ей грандиозным (и по объёму и по содержанию) трактатом «Столп и Утверждение Истины»21. Получив высшее математическое образование (отец Павел был учеником выдающегося русского математика-концептуалиста и философа Н. Бугаева, отца Андрея Белого), он в двадцатые годы не только не был выслан из России, но и привлечён в качестве спеца к работе по проекту ГОЭЛРО, несмотря на всю одиозность своей священнической рясы в совучреждениях, где ему приходилось появляться по работе. Книга Флоренского «Мнимости в геометрии», посвящённая эзотерическому истолкованию «Божественной комедии» Данте, стала для Булгакова настольной. Он проработал её от и до (экземпляр с его пометами сохранился), потрясённый тем, что гностические откровения гениального итальянца подтверждаются данными самоновейшей науки. Текст Флоренского действительно звучит как гимн духовному мастеру средневековья, далеко обогнавшему своё время и вырвавшемуся в пространство неискажённой картины мира. Необычайная реактивность Булгакова на окружение, фиксированная в том числе и в автобиографичном «Театральном романе», почему-то именно по отношению к Флоренскому не была учтена. Между тем лучшее в Мастере: гениальное дарование, прозрения, феноменальная гностическая оснащённость и сакрализованно-иконографический лик (не надо забывать, что мы в основном воспринимаем его влюблёнными глазами Маргариты) — всё это от Флоренского. К этому Булгаков добавил свою блондинистость и литературный дар. И тут он не успокоился.
В пречистенском ареале была ещё одна чрезвычайная личность: философ, эстетик, историк культуры Алексей Фёдорович Лосев, уже упомянутый среди ГАХНовских корифеев. С ним работал и дружил приятель Булгакова Павел Попов, и хотя прямых контактов с Лосевым у автора МиМ не зафиксировано, опосредованная связь, несомненно, была. Эзотерическое антиковедение, фундаментальные гностические проработки понятия мифа оказали мощное воздействие на состоящую из остатков русской интеллектуальной элиты читательскую среду. Книги Лосева, выпускаемые с уникальной титулатурой «Издание автора» в авторской же редакции, — это в советские-то поднадзорные времена! — производили впечатление «островка свободы» (или, говоря по-булгаковски, блаженства) в море хамства и торжествующего примитива. В конце концов эта лафа (от англ. life) кончилась, и за гениальную «Диалектику мифа» (1930 г.) Лосева вместе с женой сослали на строительство Беломорканала. Тогда ещё подобная мясорубка обыгрывалась пропагандой как «фабрика по перековке»; к воспеванию её были привлечены и понуждены лучшие творческие силы. Погодин разразился блеф-ревю «Аристократы»; и даже дунул несколько раз в фанфары (тоже мне, фанфарон) повестушкой22 приличный вроде бы Зощенко. Булгаков воздержался, но отреагировал по-своему. В ранних вариантах Романа Мастер возвращается силой любви Маргариты не из дурдома, а с «лесоповала»: на нём зэковская телогрейка и сапоги. И наконец, знаменитая шапочка Мастера — это известная, как пилотка Неру, всенепременная профессорская «камилавка» Лосева, чьё мастерское достоинство без всякой буквы М самоочевидно. Сия академическая ермолка была своего рода самоидентификацией Лосева со званием академика, к которому он безуспешно тянулся всю жизнь и которого, безусловно, заслуживал. В связи с этим становится ясно, что столь прославленный Булгаковым головной убор — не авторская прихоть и условность, а подлинный знак достоинства учёной среды. При абсолютной невозможности ношения орденских регалий это был единственный доступный символ почести «вышнего звания». Если Флоренский, своей волей прибавив себе приставку свящ., создал иллюзию, что ему уже воздано по заслугам, то Лосев был мастер par exellance — это было самоочевидно. Стремясь к объективации своего грандиозного сочинения, Булгаков должен был подыскать в качестве скрытого (от большинства) прототипа подлинник, не прибегая к авторскому произволу. Короче, если бы в «совке» не было настоящего мастера — А.Ф. Лосева, образ Мастера в Романе не был бы убедителен. Ибо сакральный текст держится на подтексте реальности. Это закон.
«Если ты не научился видеть видимое, как же ты сможешь увидеть невидимое?» (Талмуд).
Сам же Булгаков приобрёл статус мастера только с последней точкой, поставленной в Романе. Вот как это было.
Надиктованный, с производимой по ходу дела авторской правкой летом 1938 года текст МиМ затем подвергся окончательной правке, причём Булгаков, не имея возможности (ближе к концу пути) делать это самолично, давал устные указания Е.С., которая вносила их в особую тетрадь. (После смерти автора, она в течение многих лет шлифовала текст Романа в соответствии с авторской волей.) Работа длилась почти до последних дней; уже ослепший Булгаков делал правку по памяти; огромное полотно лежало перед его внутренним взором, равно внятное во всех своих компонентах. Ни коммерчески «рентабельные», ни обеспечивающие личный успех произведения так не оттачиваются. Текст носил характер отчёта о пребывании на Земле. «Когда перешли ко второй (части) и я стала читать похороны Берлиоза, он начал было править, а потом вдруг сказал: — Ну, ладно, хватит, пожалуй. — И больше уже не просил меня читать» (21; 648). Однако забота о сохранности Великого Небесного Послания не оставляла его. «В последние дни... ему казалось, что забирают его рукописи. — Там есть кто-нибудь? — спрашивал он беспокойно. И однажды заставил меня поднять его с постели и, опираясь на мою руку, в халате, с голыми ногами, прошёл по комнатам и убедился, что рукописи «Мастера» на месте. Он лёг высоко на подушки и упёр правую руку в бедро — как рыцарь.» «Донкий ход... Донкий ход..., — шептал он в полубреду» (3; 481).
«Рыцарь Печального Образа» запечатал своим именем, как паролем, одно из самых прекрасных служений Истине на земле. Орденское, рыцарское, безукоризненное Булгаков сохранил в себе до конца. Когда Мастер в финале Романа, пришпоривая небесного рысака, ввинчивается в мировое пространство, ничего от трепыхучего, стремящегося ретироваться, впавшего в безволие меланхолии и прострации измученного «энтиллигента» не остаётся. В рыцарской компании Воланда Мастер и Маргарита присутствуют на равных; статус их невероятно высок. Чтобы реально соответствовать этому уровню, Булгакову пришлось последовательно сменить несколько «кож»: судорожно рыскающий по Москве в поисках пропитания и жилья нищий; выпендрёжный провинциал в бабочке и с моноклем; крутой театрал, по-свойски вписавшийся в респектабельные компании МХАТа и Большого театра; мнимый «тайный любимец вождя» с издевательски выбитым табуретом из-под ног сапогом диктатора (наказан «за попытку наведения мостов» — «понтифик» хренов!) и, в отличие от ожидавшегося эффекта падения «рожей в грязь», возносящийся в Горнее небесный рыцарь. Коса смерти спасовала перед его державинской державной косой, развевающейся во время финального полёта в межзвёздном эфире.
Короче говоря, Мастер — это М.А.-стер(х) (причём последняя буква — вышнее титло Христа).
И уже лепка происходит взаимно. Все те великие качества, какие Булгаков вложил в образ Мастера, были возвращены ему бесконечным духовным возрастанием вплоть до мгновения отталкивания с земли. «Когда он уже умер, глаза его вдруг широко открылись — и свет, свет лился из них» (3; 482). Ибо он соединился со Светом. А это уже не «Покой» Мастера.
Е.С., подытоживая всё происшедшее:
«...Нечто стремительное и грозное, нечто далёкое от скучной благопристойности жизни; нечто неизведанное; нечто безумное и восторженное; нечто снятое с якоря и пущенное в далекое море на свободу!.. (Уолт Уитмен)» (3; 482). Это было похоже на побег, рывок, выход из окружения.
Это окружение мы и рассмотрим.
Писатели.
Безусловным лидером и старейшиной был А.М. Горький (с известной всем оригинальной шахматной фамилией), он же Дука, он же «великий пролетарский писатель». В 1927 году Горький после длительной эмиграции возвращается в Москву. Его сын сообщал в письме жене: «Вчера был замечательный день. Дука и Крючков (секретарь Горького) переодетыми и загримированными ходили по Москве. Дука был в бороде, а Крючков с усами и маленькой бородкой. Были в нескольких чайных, пивных, разговаривали с разной публикой, обедали на вокзале» (22; 378). Любопытно, что толстовская борода оказалась наизготове, будто Горький возил её с собой, как Паганини скрипку. Это «Явление г-на X. народу» так и просится в коллекцию Феси.
Горькому нравилась булгаковская ядовитость, над «Бегом» он хохотал до слёз, предсказывая пьесе «анафемский» успех, и удивлялся, когда «Дни Турбиных», по его выражению, «отставили от богослужения».
А.Н. Толстой. С ним Булгакову в середине двадцатых приходилось сталкиваться довольно часто. «Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распущенно и нагловато. Много пьёт» (16; 50). Московские корреспонденты «Накануне», литературным приложением к которому заведовал А. Толстой, устроили ему приём в поместительной квартире общего знакомого. «Булгаков в то время относился к Алексею Толстому с жгучим интересом и на вечере «ел его глазами»» (3; 203). Ещё бы! Еды было навалом. Э. Миндлин описывает первое знакомство Булгакова с Толстым за год до того, когда Толстой приезжал из Берлина «на разведку». Знакомство состоялось в московской редакции «Накануне», секретарём её в то время был воспоминатель. «Он (Толстой) вошёл так, словно все окружавшие его расстались с ним только вчера... Кто был тогда с нами? Катаев, — Толстой вообще не отпускал Катаева от себя, — Михаил Булгаков, Левидов23 и я» (23, т. 1; 73).
А теперь Булгаков: «Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. Зимой он будет жить в Петербурге, где ему уже отделывают квартиру, а пока что живёт под Москвой на даче» (из письма).
«Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому. Он... был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями. Всё, впрочем, искупает его действительно большой талант.
Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звёздный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать неореальную школу. Он даже стал немного тёплым:
— Поклянёмся, глядя на луну...
Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны, порой великолепны».
«Сегодня я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Колменсом, и, конечно, хромым «Капитаном», который возле графа как тень».
«Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война».
«Василевский мне рассказывал, что Алексей Толстой говорил:
— Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов.
Грязный, бесчестный шут» (из дневника; 16; 126, 50, 52, 53, 76).
Между тем Толстой, по понятным причинам лишённый ревности и зависти к «промышляющей по мелочам» молодёжи, стабильно высоко ценил в эти годы Булгакова.
Уже упомянутый Э. Миндлин вспоминал: «Алексей Толстой жаловался, что Булгакова я шлю ему мало и редко. «Шлите побольше Булгакова!»» (8; 145).
Из Булгаковского дневника: «Только что вернулся с лекции сменовеховцев: проф. Ключникова, Ал. Толстого, Бобрищева-Пушкина и Василевского-Не-Буква.
В театре Зимина было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева».
«Сегодня я опять ездил к Толстому на дачу и читал у него свой рассказ «Дьяволиада». Он хвалил, берёт этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием» (16; 50, 54).
«Алексей Толстой говорит..., что «Дни Турбиных» можно поставить на одну доску с чеховским «Вишневым садом»»24 (16; 157).
Демьян Бедный. Он же Ефим Придворов. По слухам — незаконный сын Александра III. Фамилия на это намекала. А сам Демьян... Запись Булгакова: «Василевский рассказывал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:
— Моя мать была блядь...» (16; 76).
Циничное холуйское подыгрывание режиму, весёлое хрюканье при купании в грязи отличало и этого боровообразного писаку, который для прокормления (по высшему разряду) своих необъятных телес пошёл на крайнее моральное падение. Во всех объявляемых «общественных компаниях» он шёл в первых рядах, радея о «премиальных». Начав пробиваться виршеобразными баснями в социал-демократических унылых изданиях ещё перед революцией, Демьян Бедный воспрял после октябрьского переворота, когда «поэтические красоты были отменены» и требовалось только холуйское усердие. И в антирелигиозной истерии Бедный оказался первым: его «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна» публиковался в «Правде» чуть ли не как передовица. Интеллигенция вынуждена была терпеть эту экзекуцию «демьяновой ухой». Разухабистый «народный поэт» в своей неизменной шапке пирожком (своего рода напоминании о лихой профессии его мамаши25), надетой на лысину (памятник фаллического культа), не просто привлёк внимание Булгакова (в его архиве сохранились вырезки из «Правды» с фельетонами Д. Бедного), но и подвиг его на контригру — сначала в издевательской над гегемоном стилистике Гудковских очерков и юморесок, затем в создании монументального и итогового, как осиновый кол, Евангелия от Михаила. Однако булгаковская «демьянология» не ограничилась вырезками.
В конце 1936 года в Камерном театре была поставлена опера Демьяна Бедного (на музыку Бородина) «Богатыри»; для оформления её были выписаны палехские художники. Всё задумывалось как грандиозное шоу к 20-летию Октября. Каково ж было изумление общественности, когда через несколько дней после премьеры последовала неожиданная реакция Кремля: «Миша сказал: «Читай» и дал газету. Театральное событие: постановлением Комитета по делам искусств «Богатыри» снимаются, в частности, за глумление над крещением Руси. Я была потрясена!» (2; 592)
Булгаков сардонически: «Таиров лежит с капустным листом на голове, уверяю тебя» (4; 124). И затем неоднократно показывал друзьям сатирический скетч, как палешане, мечтавшие заработать в Москве, возвращаются не солоно хлебавши домой к сварливому негодованию жён. Он упивался своим актёрским монокапустником, ибо чувствовал с восторгом вмешательство Высших Сил, нарушающих пошлую логику профанов. Под этот энтузиазм «он делает наброски либретто «О Владимире», обращаясь ко времени крещения Руси и к тому историческому лицу, с которым был связан для него Киев и памятник которому занимал столь важное место в романе «Белая гвардия»» (22; 593). Дальше эскизов работа не пошла, настоящим ответом Бедному стало всё гностическое богатство его великого Романа.
Весело похрюкивающее холуйство бастарда было в своём роде замечательно: «евангелист Демьян» спровоцировал идеологическое мифотворчество Евангелиста Михаила, но вначале простое человеческое удивление. В упомянутом «Новом завете без изъяна» (лысого обезьяна) есть подводящее итог словоблудию четверостишие, вернее, последние два чавка лязгающих ножницами двустиший: «Точное суждение о Новом завете: Иисуса Христа никогда не было на свете. Так что некому было умирать и воскресать, Не о ком было Евангелие писать». Поданный в качестве лихой газетной агитки наглый этот опус вызвал летучий отклик одного из осведомлённых в реальном положении вещей русского интеллигента.
«Послание евангелисту Демьяну (Бедному)»:
«Я часто думаю — за что его казнили? За что он жертвовал своею головой? За то ль, что враг суббот, он против всякой гнили Отважно поднял голос свой? За то ли, что в стране проконсула Пилата, Где культом кесаря полны и свет и тень, Он с кучкой рыбаков из бедных деревень За кесарем признал — лишь силу злата? За то ли, что себя на части раздробя, Он к горю каждого был милосерд и чуток, И всех благословлял, мучительно любя, И маленьких детей и грязных проституток? Не знаю я, Демьян, в евангельи твоём Я не нашёл правдивого ответа. В нём много пошлых слов, — ох, как их много в нём. — Но нет ни одного, достойного поэта. Я не из тех, кто признаёт попов, Кто безотчётно верит в Бога, Кто лоб свой расшибить готов, Молясь у каждого церковного порога. Я не люблю религию раба, Покорного от века и до века, И вера у меня в чудесное слаба — Я верю в знание и силу человека. Я знаю, что, стремясь по нужному пути, Здесь, на земле, не расставаясь с телом, Не мы, так кто-нибудь да должен же дойти Воистину к божественным пределам! И всё-таки, когда я в «Правде» прочитал Неправду о Христе блудливого Демьяна, Мне стало стыдно так, как будто я попал В блевотину, изверженную спьяна. Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос — Далёкий миф, — мы это понимаем, — Но всё-таки нельзя, как годовалый пёс, На вся и всё захлёбываться лаем. Христос, сын плотника, когда-то был казнён, Пусть это — миф, но всё ж, когда прохожий Спросил его: «Кто ты?», — ему ответил он, — «Сын человеческий», а не сказал — «Сын Божий». Пусть миф Христос, как мифом был Сократ, Платонов «Пир» — вот кто нам дал Сократа. Так что ж, поэтому и надобно подряд Плевать на всё, что в человеке свято? Ты испытал, Демьян, всего один арест, И ты скулишь: «Ох, крест мне выпал лютый...» А чтоб когда б тебе Голгофский дали крест Иль чашу едкую с цикутой? Хватило б у тебя величья до конца В последний час, по их примеру тоже, — Благословить весь мир под тернием венца И о бессмертии учить на смертном ложе? Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, Ты не задел его своим пером нимало. Разбойник был, Иуда был, Тебя лишь только не хватало. Ты сгустки крови у Креста Копнул ноздрёй, как толстый боров, Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Но ты свершил двойной тяжёлый грех. Своим дешёвым балаганным вздором Ты оскорбил поэтов вольный цех И малый свой талант покрыл большим позором. Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи, Небось, злорадствуют российские кликуши: «Ещё тарелочку «Демьяновой ухи», Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай». А русский мужичок, читая «Бедноту», Где образцовый труд печатался дуплетом, Ещё отчаянней потянется к Христу, А коммунизму «мать» пошлёт при этом» (23, III; 21—24).
Автором этой отповеди, как недавно установлено, был безвестный сотрудник «Крестьянской газеты» Н.Н. Горбачёв. «Сначала «Послание» ходило в списках, потом его напечатала эмигрантская газета «За свободу», выходившая в Варшаве. Наши чекисты знали эту газету как явно антибольшевистскую, проповедовавшую активные действия, вплоть до террора. Поэтому быстро нашли подлинного автора «Послания» и сослали его в Нарым» (23, III; 21).
Это «Послание» было обнаружено и изъято при гэпэушном шмоне у Булгакова 7 мая 1926 года (вместе с дневником «Под пятой» и «Собачьим сердцем»). Значит, Булгаков солидаризировался с автором и считал возможным держать у себя столь криминальное сочинение в эти уже становящиеся убойными времена26. Любопытно, что среди изъятых «пяти единиц хранения» был и отпечатанный на машинке текст «Чтение мыслей», принадлежащий к оккультно-эзотерической практике. На следующий день Булгаков отбыл в Ленинград для участия в назначенном на 10 мая «большом литературно-художественном вечере» вместе с такими «крутыми» интеллигентами, как Е. Замятин, М. Кузмин и Ф. Соллогуб — лидерами «антидемьяновской» коалиции.
13 мая (обратите внимание на число), сразу по возвращении, он был вызван «держать ответ» в ГПУ, а на следующий день, 14 мая от имени ордена Вересаев дарит ему книгу своих переводов «Гомеровых гимнов» с надписью: «Михаилу Афанасьевичу Булгакову с огромными надеждами на него». — Поощрение за стойкость с намёком на мужество Улисса27. Был в книге и прямой адресный отсыл: гимн VII (вспомним о Волошинском обыгрывании 7-го аркана в посвящении «Поэту») имеет выразительное название «Дионис и разбойники». Диониса, появляющегося на берегу в виде прекрасного юноши, захватывают в плен морские разбойники. «Внезапно во льва превратился их пленник. (Это учитель Волошин). Страшный безмерно, он громко рычал; средь судна-ж являя Знаменья, создал медведицу он...» (А это ученик — Возничий Колесницы, Большой Медведицы Седьмого аркана). Надо ж было гэпэушникам вляпаться в седьмое число! — Но это уже мистика Высших Сил, предусмотреть такое невозможно.
Всё лето Булгаков был занят постановкой во МХАТе «Дней Турбиных», а накануне премьеры 13 (!) сентября он покупает и вставляет в глаз монокль, демонстративно отмежёвываясь от хлебателей (и прихлебателей) «демьяновой ухи»28. Мало того. Он атаковал «высшие инстанции» с требованием возврата ему реквизированных рукописей, и что самое невероятное — таки этого добился! Естественно, слабые души многих такое поведение Булгакова третировало и унижало. Тайное недоброжелательство и заглазное «перемывание костей» шли за ним по пятам29.
Таким образом, грязное, кощунственное охаивание Христа, какое позволил разнузданный «фаллофор», не имеет отношения к сухому начётническому скепсису Берлиоза. Как фигура идеографическая, Берлиоз не мог быть так нагло расхристан; скорее всего, в знаменитом диалоге с Воландом Булгаков поиздевался над своим юношеским незрелым атеизмом, бывшим неизменным атрибутом студенческой вольницы.
Однако за спиной добродушного Демьяна угадывалась целая вереница озлобленных прихвостней режима, современных ракитиных.
«Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в... Козмодемьянском, недалеко от Моссовета. Был с М.С.30, и он очаровал меня с первых же шагов.
— Что, вам стёкла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.
— То есть, как это? (растерянно). — Нет, не бьют (зловеще).
— Жаль.
Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нету. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год. 12-й ещё не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, давшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.
— Лучше я бы его в библиотеку отдала.
Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, выходит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации... На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.
— Как в синагоге, — сказал М., выходя со мной. <...>
Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены. <...>
Большинство заметок в «Безбожнике» подписаны псевдонимами.
«А сову эту я разъясню»» (16; 85—87).
И разъяснил — в высоком смысле. «Берлиоз». — Похоже на псевдоним, приросший намертво. Как «Троцкий», «Чуковский», «Станиславский». Вошедший в паспортные данные. А на самом деле это: БЕзРеЛИгиОЗ. Или, попросту, Безбожник. И приговор себе он давно подписал.
Недаром, говорят, один из таких записных атеистов, оказавшись во время Второй мировой в немецком концлагере, сказал истово, увидев приближающиеся войска освободителей: Слава Богу!
Ну и как же Москва без Маяковского, «горлана-главаря»?
Поэтому первое, что видит Булгаков, оказавшись в столице:
«На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нём афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.
Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к чёрту. Ан, Москва не так страшна, как её малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький в очках, очень подвижной. Коротенькие подвёрнутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотнённая присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казённого здания. Живёт в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживёт в пяти комнатах» (23—1; 145—146).
Что ж, портрет очень похож на одного из двух мужей Лили Брик вплоть до мистики пяти комнат; создан «по памяти» со знакомого по Киеву Виктора Шкловского («Жлобского» в этом прочтении).
А теперь уже присяжный псалмопевец режима в действии:
«— Долой Керзона!
А напротив на балкончике под обелиском свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:
...британский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!
— Ле-во! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:
— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!
И стал объяснять:
— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастая морда!... Когда убивали бакинских коммунаров...
Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:
— Вставай, проклятьем заклеймённый!
Маяковский всё выбрасывал тяжёлые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:
— В отставку Керзона!» (23—1; 266).
Это вам не Пречистенка, чистоплюи. Это — ассенизация.
И как все золотарики — весь в золоте. Выездной, во всём заграничном, личный автомобиль, квартиры (и не одна), доступ к массолитовским балыкам и бильярдам.
Бедный киевлянин попытался успеть, судорожно работая крыльями... — Куда там!
Первый же неожиданный успех с «Днями Турбиных» вызвал раздражение и обиду у головного авторитета совейской литературы. Вечером в день премьеры на диспуте (он же — «тёмная») «Театральная политика Советской власти» после брюзжащего и брызжущего слюной Луначарского поднялся Амбал Амбалыч и брезгливо стал излагать проект публичной обструкции спектакля, не прибегая к «артиллерии» запретов. Речь шла об освистывании пьесы силами комсомольцев, своего рода подручных горлопана:
«А если там вывели двух комсомольцев, то давайте я вам поставлю срыв этой пьесы — меня не выведут (гэпэушный иммунитет, что ли? — ОК). Двести человек будут свистеть, а сорвём, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. (Аплодисменты) <...> Если на всех составлять протоколы, на тех, кто свистит, то введите протоколы и на тех, кто аплодирует» (вероятно, имелся в виду учёт всех, подхлопывающих белым офицерам, т. е. выявление «внутреннего врага»)31 (стенограмма, 22; 350—351).
Ну, в общем — Ату его!
Один из таких, как заколдованные смотревших спектакль аплодисманов (на первых представлениях спектакля даже пели «Боже, царя храни»), скрывшийся за псевдонимом В.В. Мышлаевский, передал инкогнито Булгакову письмо-исповедь, бережно хранимое писателем всю жизнь. Несколько фрагментов из него: «Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид вотяцкого божка и вожделеющее на каждую машинистку. Никакого понимания дела, но взгляд с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлечением. Рабочие делегации — знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца... Вожди? (т. е. те, кто вожделеют. — ОК) Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену. А сама идея! Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее, и красивее. <...>
В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту, или же, действительно, оно так и есть, но я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией.
Обращаюсь с великой просьбой к Вам от своего имени и от имени, думаю, многих других таких же... Скажите со сцены ли, со страниц ли журнала, прямо ли или эзоповым языком, как хотите, но только дайте... знать, слышите ли Вы эти едва уловимые нотки и о чём они звучат? <...>
Caesar, morituri te salutant. (Подпись)».
Это уже пророческое служение в стиле Достоевского, а не футуристический выпендрёж.
Маяковскому судьба отплатила жестоко: очередной Дювлам, двадцатилетний, интеллигенция просто проигнорировала. Не потому ли иуда наложил на себя руки? — Такова одна из версий.
Этому предшествовала судорожная соревновательная конвульсия, приведшая к написанию «Клопа» и «Бани». Невыносимый для колуна оксюморон — вроде «белого вина на столе у красных» — имел своё основание. «Решением Терского облисполкома от 25 ноября 1920 г. Булгаков был уволен из подотдела искусств, причём рядом с его фамилией в скобках стояло слово «бел»» (по-видимому, имелась в виду служба в деникинской армии) (25; 451). В связи с этим всю дальнейшую литературную активность «писателя из Киева» можно объяснить желанием истолковать словцо в документе как сокращение от беллетрист, а не белый. А куда было деваться? В конце концов, «через ту бандуру бандуристом стал». Уже работая в «Гудке», он отказывался сниматься для прессы из страха быть разоблачённым случайным читателем.
Чувствовал цепной пёс режима «чужого среди своих» и исходил лаем в стихах и прозе. Желание было — выдавить с подмостков, затоптать, уничтожить. Едва написан «Клоп», как его уже репетируют в Москве и Ленинграде, публикуют; и во всех случаях звучало ненавистное имя, занесенное автором пьесы «в словарь умерших слов» («бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...»).
Истерическая атака возымела плоды. В феврале прошла премьера в Театре им. Вс. Мейерхольда, а уже «6 марта 1929 г. «Вечерняя Москва» печатает заметку «Театры освобождаются от пьес Булгакова»» (22; 405). К концу 1929 г. все пьесы Булгакова сняты с репертуара. В это же время раскочегарившийся буффон дотаптывает жертву в своей «Бане»: «Вперёд, страна, скорей моя, пускай старьё сотрёт! etc». И далее: «Сильней, коммуна, бей, моя, пусть вымрет быт-урод! (уж не Бул ли?) <...> Летящее время сметёт и срежет балласт, отягчённый хламом, балласт опустошённых неверием». Тут ещё ярче монтировка «у» из опустошённых с дважды повторенным балластом, дающая исходное Булл. «Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть — и пискнул. А дальше мы не дадим» (из стенограммы, приводимой выше, 26; 246)32.
Не удивительно, что смерть монстра отыгралась для Булгакова «обратным ходом». Высшие Силы не пропустили этот момент. И самоубийство Маяковского не менее выразительно при обзоре всех составляющих пары причин и следствий, чем гибель под трамваем Берлиоза в начале эпопеи Ми М.
Близкая знакомая Булгакова рассказывала, «как в первые дни после смерти Маяковского застала «его» с газетой в руках. Он показал ей на строки — «Любовная лодка разбилась о быт»: «Скажи — неужели вот — это? Из-за этого?... Нет, не может быть! Здесь должно быть что-то другое!»» (22; 451). И через год подводит итог, создавая антивоенный фарс «Адам и Ева» с шаржем Пончика-Непобеды, взятого вживую из последних слов «Бани»: «Мезальянсова. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо... зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, мой Кичик, мой Пончик!» (Как говорится, сам себя высек в мраморе.) Самое забавное то, что сюжет пьесы во многом повторяет сюжет романа Джека Лондона «Алая чума» (1915 г.). Цветовая игра продолжалась. Там же, в «Адаме и Еве», обнародовано «звание» заслуженного народного арапа, коим Булгаков припечатал принцип холуйства, ставший «поперёк горла» 14 апреля 1930 года самому его циническому адепту.
А сколько разночинно-люмпенизированной молодёжи истово подмурлыкивапо «Маршу времени»! Среди них первый — В. Катаев, кто незаметно сменил господина: от барственного «красного графа» переметнулся к широким штанинам разухабистого ЛЕФши. Опус «Время, вперёд!» был подготовлен по прямому указанию шефа. Савва (т. е. советский) Лукич (без комментариев) — обобщённый образ таких советчиков в фарсе Булгакова «Багровый остров». Ему соответствует холоп Метёлкин, он же Говорящий попугай действа. «Попугай. Здравствуйте, Савва Лукич. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Рукопожатия отменяются. Савва (в испуге упав на пол, чуть не перекрестился). Сдаюсь!» (26; 300)
Катаич Маяковского и Валюн Булгакова долго ухлёстывал «с развратными намерениями» за младшей сестрой синеглазого, чем вызывал его настороженное неудовольствие (с мысленно продеваемой арией Валентина «в обратную сторону»)33. «Он был старше нас всех — его товарищей по газете, — и мы его воспринимали почти как старика. По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой. Он умел хорошо и организованно работать. В определённые часы он садился за стол и писал свои вещи, которые потом прославились» (8; 124).
Чинно, не правда ли?
И совсем в другом роде: «Вообще мы тогда воспринимали его на уровне фельетонистов дореволюционной школы, — фельетонистов «Русского слова», например, Амфитеатрова... Дорошевича. Но Дорошевич хоть искал новую форму, а он не искал. Мы были настроены к этим фельетонам критически, а это был его идеал. <...>
Он был для нас фельетонистом, и когда узнали, что он пишет роман, — это воспринималось как какое-то чудачество... Его дело было сатирические фельетоны...» (22; 303—304).
И снова чинно: «Булгаков писал острые фельетоны на бытовые темы и с большим блеском разоблачал мещанство. Но был он художником уже гораздо выше этого своего газетного амплуа. <...>
Булгаков иногда читал нам свои вещи — уже не фельетоны, а отрывки из романа. Помню, как в один прекрасный день он сказал нам: «Знаете что, товарищи, я пишу роман, и если вы не возражаете, прочту несколько страничек». И он прочитал нам несколько отрывков очень хорошо написанного, живого, яркого произведения, которое потом постепенно превратилось в роман «Белая гвардия»» (8; 123—124).
И опять срываясь на ракитинский взвизг: «Помню, как он читал нам «Белую гвардию» — это не произвело впечатления... Мне это казалось на уровне Потапенки. И что это за выдуманные фамилии — Турбины!34 Вообще это казалось вторичным, традиционным35.
У него были устоявшиеся вкусы. Он ничем не был увлечён. <...> Тогда был нэп, понимаете? Мы были против нэпа — Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог» (22; 304).
Однако роман не только понравился публике, из него тут же была сделана пьеса, она с блеском пошла во МХАТе. Завистники мгновенно накатали свои опусы, не без помощи Булгакова тоже пристроенные у Станиславского, который, рассеянно улыбаясь, гордо рапортовал: «Как же, как же, разве вы не знаете, что у нас идёт пьеса железнодорожника Булгакова и готовятся ещё две пьесы железнодорожников». (Неважно, что от паровоза у них один «Гудок».)36
«В моей театральной жизни Булгаков тоже сыграл важную роль. Когда я написал пьесу «Растратчики», мне нужно было её читать в театре. И вот я просто испугался. Это было второе чтение, причём знаменитые актёры МХАТа мне говорили — вы хорошо пишете, но читаете просто ужасно.
Я убедил Булгакова прочесть мою пьесу за меня. Он страшно не хотел. Упрямился, морщился. Но всё-таки я его упросил. Он с большим мастерством читал пьесу, что обеспечило её успех у актёров» (8; 127). И подмаслил презентом: «12 июня <1927 г.> В. Катаев надписал «Квадратуру круга»: «В память театральных наших похождений Мишуну от Валюна»» (22; 379).
Да, как известно, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. «7 мая 1937 г. Сегодня в «Правде» статья Павла Маркова о МХАТ. О «Турбиных» ни слова. В списке драматургов МХАТа есть Олеша, Катаев, Леонов (авторы сошедших со сцены МХАТа пьес), но Булгакова нет» (4; 143).
И вот возмездие.
«25 сентября 1938 г. Вечером пошла... в Вахтанговский («Шёл солдат...») Катаев — автор...
Автора не вызывали ни разу. <...>
27 сентября. В «Вечёрке» ругают Катаева за фальшь и поверхностность. <...> В «Красной Звезде» и в «Комсомольской правде» тоже ругают.
1 октября. <...> Катаев в отчаянии от истории с пьесой. Он не привык к ругани, а тут — во всех газетах! Обвиняет театр — что испортил пьесу из подхалимства» (4; 204, 206).
Наконец, развязка.
«25 марта 1939 г. Вчера пошли вечером в Клуб актёра на Тверской. Смотрели старые картины... Потом ужинали.
Всё было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Пете <Вильямсу> сказал, что он писал — барахло — а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актёр, хотя и никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьёзно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. — «Валя, Вы жопа»!
Катаев ушёл мрачный, не прощаясь» (4; 248).
Между прочим, французский смысл ещё похлеще русского: jeu pas то же, что и немецкое цугцванг. Безграмотный Катаев понял всю важность сказанного по выражению булгаковского лица.
«Е. С. Булгакова рассказывала, что Булгаков считал Катаева талантливым писателем, давшим неверное употребление своему таланту и в значительной степени растратившим его» (8; 495). В конце жизни, в раскатах всемирной славы МиМ, он было спохватился, попробовал покаянно и суетливо «отдуплиться»... Даже его «мовизм» имеет Булгаковский источник: 12-ую главу «Записок на манжетах». С робкой опорой на сентенцию, высказанную там же и ставшую в окончательном варианте известным «Рукописи не горят». Когда все яркие личности, встречавшиеся Катаеву в жизни, уже были описаны, и он остался один на один со своим отражением в зеркале, он скатился к серой надгробной плите унылого «Кладбища в Скулянах».
Пока же его хищный волчий взгляд находил в памяти бриллианты личностей и событий, перо его начинало искрить... быть искренним... искоренять из нутра жлоба...
«У него... были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо ироническим, а временами даже надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актёрское, а временами даже и лисье.
Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом...
...А тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка.
Он был несколько старше нас... тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали всё, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нём ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится».
Между тем когда лютая зависть к Булгакову заставила приятелей Катаева и Олешу накатать собственные драматургические опусы, они не только не погнушались допотопным МХАТом, но и мгновенно выучили дорогу к нему, обивая пороги, стараясь просочиться туда «не мытьём так катаньем». Цинизм и беспринципность входят в общий рисунок их групповой физиономии. Напомним, что кроме вышеупомянутых в их стаю входили Евг. Катаев («Петров»), Илья Файнзильберг («Ильф») и Эд. Дзюбин («Багрицкий»).
«В области искусств для нас существовало только два авторитета: Маяковский и Мейерхольд. <...>
Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважая все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Маяковского, Мейерхольда и Татлина. <...>
А мы... беспрерывно низвергали авторитеты, не считаясь ни с какими общепризнанными истинами, что весьма коробило синеглазого, и он нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе. <...>
Он любил поучать — в нём было заложено нечто менторское. <...> Он принадлежал к тому довольно распространённому типу людей никогда и ни в чём не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.
Впоследствии оказалось, что всё это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.
Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нём (ах, лукавит, ах, вьюн фальшивый! — см. выше его отзыв о «Белой гвардии». — ОК), он был... в чём-то немного провинциален37.
Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. <...>
...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась немного выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.
Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялась каждое невероятное происшествие, свидетелем или участником коего мы были. <...>
Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада. Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. <...>
Однажды мы с синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Когда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал:
— Наш журнал будет называться «Ревизор»!»
Плачевный финал этой затеи вы уже знаете.
«У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.
Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика. <...>
Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах.
Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось ещё чего-нибудь вкусненького... А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:
Синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми надёжными рублями... мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец...
Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, «осенив себя крестным знамением», отправлялись в ночь».
Одно из двух московских казино находилось в двух шагах от булгаковского дома в саду «Аквариум».
Ставим на красное, — решительно сказал я.
Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:
— На красное нельзя.
— Почему?
— Потому что красное может не выиграть, — сказал он, пророчески глядя вдаль.
— Ну тогда на чёрное, — предложил я, подумав.
— На чёрное? — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул. — Нет... на чёрное нельзя.
— Но почему?
— Потому что чёрное может не выиграть.
В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов.
Мы молча сносили наше унижение и не торопились. <...>
Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. <...> Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна.
Мы ставили на чёрное или на красное, на чёт или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман».
Крестное знамение и огни серы, причудливо смешавшись в профанном воображении, образовали странное соединение, кое можно поименовать на славяни СѴМБОЛом СѢРЫ.
Перед нами ещё один катаевский след — в тексте «Роковых яиц»:
Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы пишите там, в этих ваших газетах?
— Точно так, — почтительно ответил Альфред.
— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. <...>
Бронский жидко и почтительно рассмеялся:
— Валентин Петрович исправляет.
— Кто это такой Валентин Петрович?
— Заведующий литературной частью».
Кажется, Альфред Бронский даже смутился, что знаменитый профессор не знает столь общеизвестного факта.
И, наконец, последнее.
«В романтических зарослях цветущих кустов боярышника, рядом со старинным памятником Гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигура синеглазого — в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г — Гуно, но не забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана...
Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. <...>
Он сказал по своему обыкновению:
— Я стар и тяжело болен.
На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал.
У него было измученное землистое лицо.
У меня сжалось сердце.
— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого, — сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды.
Мы чокнулись и отпили по глотку.
Он с достоинством нёс свою бедность.
— Я скоро умру, — сказал он бесстрастно.
Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, — убеждать, что он мнителен, что он ошибается.
— Я даже могу сказать, как это будет, — прервал он меня, не дослушав. <...>
Всё произошло именно так, как он предсказал. <...>
Его похоронили.
Теперь он бессмертен» (27; 65—76, 219—220).
Свинцовый продажный гаер, пристяжной «Командора»-Маяковского, педалировавший с тайной ненавистью и обидой убойное словцо ядовитый, «поднял руки» (говоря его же собственными словами [27; 494]) и прошамкал под конец, встав в позу Иешуа Га-Ноцри: «Читать Булгакова легко и приятно» (8; 126).
«Второй голос в дуэте» — Олеша, «малыш», как его называл Булгаков.
Без комплексов и второго дна, Олеша прославился в «Гудке» своими ироническими скетчами под псевдонимом «Зубило». По свидетельству «однодельца» для выездных «концертов» ему подавали даже отдельный вагон, а при встрече на местах расстилали ковровую дорожку.
Добродушный Булгаков привечал обоих приятелей, а амбициозная одесская молодёжь пользовала его «от души» и как лекаря, и как литератора. Спившийся и деградировавший после войны Олеша, не обмолвившийся о Булгакове постфактум ни единой строкой, в гудковские годы весьма заискивал перед мэтром, не забывая, впрочем, осаживать, чтоб не вырывался из общей компании. Вот надпись на сборнике его стихотворных фельетонов, печатавшихся в «Гудке» под вышеупомянутым псевдонимом: «Мишенька, я никогда не буду писать отвлечённых лирических стихов. Это никому не нужно. Поэт должен писать фельетоны, чтобы от стихов была польза для людей...
Не сердитесь, Мишунчик, Вы хороший юморист (Марк Твен — тоже юморист). <...> Целую. Ваш Олеша» (22; 305).
То есть: куда рванул, «Лев Толстой» хренов?!
С чмоканиями и объятиями, чтоб не вырвался из рук.
Между тем, когда Булгаков, раззадоренный свистопляской похвал вокруг только что изготовленного «Клопа» Маяковского («подлинный драматургический гений!», «советский Мольер!»), стал писать своего «Мольера» [«Кабала святош»], а потом и поставил его на сцене МХАТа, то среди первых, кто не преминул оплевать спектакль, был и Олеша (4; 115). В конце концов на «Мольере» был поставлен крест, но завистник продолжал как ни в чём не бывало общаться с потерпевшим.
И ещё штрих.
Среди главных гонителей Булгакова был один из главарей Массолита драматург (лучше сказать травматург) Киршон. Но — пробил и его час. Запись из дневника Е.С.: «27 апреля 1937 г. Шли по Газетному. Догоняет Олеша. Уговаривает М.А. пойти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривает выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М.А.
Это-то правда. Но М.А. и не подумает выступать с таким заявлением и вообще не пойдёт.
Ведь раздирать на части Киршона будут главным образом те, что ещё несколько дней назад подхалимствовали перед ним».
Запись через год:
«...Между всеми этими делами — постоянный возврат к одной и той же теме — загубленной жизни М.А.
М.А. обвиняет во всём самого себя. А мне тяжело слушать это. Ведь я знаю точно, что его погубили. Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти. А кроме того, потому, что он держится далеко от них, не любит этого круга, не любит богемы, амикошонства.
Ему это не прощается. Это как-то под пьяную лавочку высказал всё Олеша» (21 сентября 1938 г.).
И бравурный финал.
«11 июля 1939 г. Вчера... пошли поужинать в Жургаз.
Там оказались все: и Олеша, ...и вообще знакомые физиономии. <...>
К нашему столу всё время кто-то подсаживался: несколько раз Олеша, несколько раз <N.>, ...ещё какой-то — не помню фамилии.
Кончилось всё это удивительно неприятно. Пьяный Олеша подозвал вдребезги пьяного некоего писателя <N.N.> знакомиться с Булгаковым. Тот, произнеся невозможную ахинею, набросился на Мишу с поцелуями. Миша его отталкивал. Потом мы сразу поднялись и ушли, не прощаясь. Олеша догнал, просил прощения. Мы уехали ...домой. Что за люди! Дома Миша долго мыл одеколоном губы, всё время выворачивая их, смотрел в зеркало и говорил — теперь будет сифилис!»
Таких вещей чистоплюям не прощают.
«С волками жить — по-волчьи выть». А он всё по-человечески, садист!
Несколько ранее, в год смерти Маяковского, весельчак и «артист» Олеша неоднократно звонил Булгакову и объявлял: «Говорит Сталин» — и вот герой розыгрышей действительно позвонил.
По свидетельству современника, «Булгаков рассказывал..., что сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова, и ему сказали: «Не вешайте трубку», — и повторили: «С Вами будет говорить Сталин» (22; 439). Значит, в первый раз Булгаков «обматюгал» самого Дракона. Так и этот факт стал хохмачу-шутиле поперёк горла.
«Вот пример настоящей удачливости... Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, всё шло ему на пользу, всё обращалось к его славе!»
Одно слово — зависть.
Ещё один подручный Маяковского — Виктор Шкловский, Шполянский «Белой гвардии». «Я немного знал его (М.Б.) в Киеве», — вспоминал он. Виделись они в кафе «Кривой Джимми», где вокруг Булгакова группировался Союз возрождения России. «Он был членом Союза, но довольно незначительным» (22; 342).
«Разнорабочий» литературы, подрабатывавший литературоведением, но не гнушавшийся никакой приносившей мало-мальский доход работы пером38, Виктор Шкловский в 20-е годы ещё сохранял форс интеллектуала-левака, имеющего привилегию лоббировать имена и персоны и вершить окончательный, обжалованию не подлежащий суд в области «что почём» и «кто есть ху».
Привожу образчик его разнузданных вердиктов:
«Гамбургский счёт — черезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счёт необходим в литературе.
По гамбургскому счёту — Серафимовича и Вересаева нет.
Они не доезжают до города.
В Гамбурге — Булгаков у ковра.
Бабель — лекговес.
Горький сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион» (Гамбургский счёт. Л., 1928).
И под всей этой белибердой невидимая залихватская подпись: Мировой судья международной категории Виктор Жлобский.
Это на первой странице в виде эпиграфа.
А что, собственно, сказано-то?
Что Булгаков — клоун, что ли? (Так трактует большинство комментаторов.) Так ведь описываемая процедура совсем не цирковая: ни публики, ни аплодисментов, ни паблисити. Может, речь идёт о том, что Булгаков приехал (в отличие от Серафимовича и Вересаева, которые не то спасовали, не то разленились), стоит у ковра, наблюдает, но силы не меряет. Как бы сторонится поединка. Уж не испугался ли?
Идиотический примитив всегда был любимой игрушкой амбициозных снобов, особенно из инородцев. И с Хлебниковым носились несколько из этой ватаги, и с Пиросмани (Кирилл Зданевич), и с множеством других. Вероятно, по контрасту с собственными цинизмом и рассудочностью. Полётность, крылатость, простота и внятность всегда были для них невыносимы; многозначительные темноты и претенциозные двусмысленности — в кайф и по сердцу. Кроме того, затаённая обида, что одинокий «выскочка» сразу удостоился включения в почётный сборник «Писатели. Автобиографии современников» М., 1926 (Ред. Вл. Лидин), где о Шкловском нет ни слова. «Столь разные редакторы, как И. Лежнев и Н. Ангарский, находили в Булгакове одно и то же необходимое им качество — внешнюю освобожденность от «мучительных поисков», готовность предъявить читателю не поиски, а результат» (22; 299). Это ужасно раздражало тех, кто мнил себя знатоками вопроса. В.Ша был одним из них.
Вероятно, с этих пор он стал в ряды самых настойчивых и постоянных недоброжелателей Булгакова и был им внесён в чёрный список врагов. Голодный и затравленный автор «Белой гвардии» часто видел подрагивающие ляжки халтурщика и проходимца, весело перебегавшего ему дорогу в редких заказах на либретто или сценарии в конце 30-х годов.
Время же расставило всех на свои места, и пепел забвения постепенно скрывает имена этих фарисеев и лихоимцев.
Ещё один яркий литературный «собрат» — пастушок и херувим Сергей Есенин, начавший с религиозных трелей и фольклорных рассыпчатых переборов, а через несколько лет перешедший на матюги, кощунство и блатную музыку.
В 1923 году Булгаков с Татьяной Николаевной зашли в «Стойло Пегаса» и впервые увидели «рязанского соловья». «Он тогда только что приехал из Америки. Мы пришли в это кафе. Сидели, пили... И тут смотрим — идёт Есенин. В цилиндре, и несёт сумку, и веник у него в руках. Он входит в это «Стойло Пегаса», подходит к какой-то даме. Стал на колени, преподнёс ей веник, поцеловал руку, а она поцеловала веник... Вышел на эстраду, стал стихи читать...» (3; 211—212).
Позже вторая жена обдала Булгакова волной обожания вениконосца, любимца всей эмиграции. Ещё до встречи с Булгаковым она успела познакомиться с Есениным, который «с Кусиковым и с балалайкой» как-то нагрянули к ней домой и целый вечер пили, пели и читали стихи. И хотя эта встреча продолжения не имела, только смерть кумира поставила точку Любиной безответной любви. Есенин был совершенно во вкусе Любочки, и, может быть, поэтому Иван Русаков и Иван Бездомный хотя и решены гротесково и без сантиментов, но всё-таки беззлобно и с пониманием. То, что именно Есенин и поэты его круга — Иван Старцев, Иван Приблудный, Кусиков и Ширяевец — стали материалом для создания образов двух Иванов из обоих монументальных романов-эпопей, не вызывает сомнения (см. напр, 3; 212). Пожалуй, это была единственная в совковой России категория людей, среди кого можно было — при соответствующей стрессовой обработке и шоковой терапии — подыскать ученика Мастеру. Врачебная закалка не позволила Булгакову брезгливо отвернуться от их невежества, блевотины и матюгов. И даже кощунство Булгаков им — совсем уже христоподобно — снисходительно и добродушно простил. И это, как ни что другое, подчёркивает его статус старшего брата с полномочиями пастыря и отца. — Божественный, шамбалистский и хозяйский принцип! Булгаков всю жизнь создавал не обличительные, а облачительные в тело света произведения.
Между прочим, в свою последнюю трагическую поездку в Ленинград в декабре 1925 года Есенин отправился из «дома 302-бис» Булгаковского Романа39. Чертовщина попробовала себя на прототипе Стёпы Лиходеева задолго до явления на Патриарших. Представлял её тогда коровьевского типа субъект Георгий Акулов, через три года после Есенина сам бесследно исчезнувший.
И ещё один персонаж из писательской братии, тесно общавшийся с автором МиМ, кого Булгаков спас от забвения и обессмертил, как Моцарт — Сальери. Это желчный завистник Ликоспастов, в миру Юрий Слёзкин (простите эту декадентскую и кукольную, абсолютно неправдоподобную фамилию). Будучи знаком с Булгаковым со времён владикавказских скитаний, Слёзкин вставил «нежно любимого друга» в свой роман «Столовая гора» (он же — «Девушка с гор»: идёт Егор с Столовых гор).
В «Театральном романе» об этом повествуется так: «Именно читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался «Жилец по ордеру»), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе... Иначе говоря, в рассказе был описан... я!
Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза. Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист, и чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил!»
Уморительно подана реакция на МХАТовскую афишу с «Днями Турбиных»:
«Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Ликоспастовым. Он первый задержался и прочёл. Улыбка ещё играла на его лице, ещё слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошёл до «Сетей Фенизы»... Вдруг Ликоспастов стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас. <...>
Ликоспастов повернулся к Агапёнову и сказал:
— Нет, вы видели, Егор Нилыч? Что же это такое? — Он тоскливо огляделся. — Да они с ума сошли!..
Ветер сдул конец фразы.
Доносились клочья то агапёновского баса, то ликоспастовского тенора.
— ...Да откуда он взялся?.. Да я же его и открыл... Тот самый... Гу... гу... гу... Жуткий тип...
Я вышел из ниши и пошёл прямо на читавших.
Ликоспастов первый увидел меня, и меня поразило то изменение, которое произошло в его глазах. Это были ликоспастовские глаза, но что-то в них появилось новое, отчуждённое, легла какая-то пропасть между нами...
— Ну, брат, — вскричал Ликоспастов, — ну, брат! Благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну, теперь ты, конечно, приятелей узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!
— А ты бы перестал дурака валять! — сказал я робко.
— Ну вот, слова уж сказать нельзя! Экий ты, ей-богу! Ну, я зла на тебя не питаю. Давай почеломкаемся, старик! <...>
— На Учебной сцене, конечно, играть будут? — допытывался Ликоспастов.
— Не знаю, — ответил я, — говорят, на Главной.
Опять побледнел Ликоспастов и тоскливо глянул в сияющее небо.
— Ну что ж, — сказал он хрипло, — давай бог. Давай, давай. Может быть, тут тебя постигнет удача! Не вышло с романом, кто знает, может быть с пьесой выйдет. Только ты не загордись. Помни: нет ничего хуже, чем друзей забывать! <...>
Головы литераторов проплыли за мутным стеклом, донёсся голос Ликоспастова:
— Бьёшься... бьёшься, как рыба об лёд... Обидно!»
Этим дело не ограничивается.
В журнале «Лик Мельпомены» появляется пасквиль «Не в свои сани», в котором автор, скрывавшийся за псевдонимом Волкодав, издевался над негодяем, прокравшимся как волк, как тать в святая святых драматургической элиты мира, сделавшись посмешищем всех великих имён.
«...Озлобление моё было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорблённым безвинно, напрасно, ни за что, ни про что. <...>
Тут... дверь скрипнула и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще.
— Читал? — спросил он радостно. — Да, брат, поздравляю, продёрнули. Ну, что ж поделаешь — назвался груздем, полезай в кузов. Я, как увидел, пошёл к тебе, надо навестить друга...
— Кто этот Волкодав? — глухо спросил я.
— А зачем тебе?
— Ах, ты знаешь?..
— Да ведь ты же с ним знаком.
— Никакого Волкодава не знаю!
— Ну как же не знаешь! Я же тебя и познакомил... Помнишь, на улице... Ещё афиша эта смешная... Софокл... <...>
— Что же я этому сукину сыну сделал? — спросил я запальчиво».
Только в полной совковой тьме невежества возможен такой разгул непонимания и псевдоэкивоков. Ведь ликоспаст и есть волкодав в переводе с греческого, а то, что это пёс, лишает выражение «сукин сын» его метафорической остроты. Но Булгаков знал, как «дражнить» гегемона и внаглую издеваться над ним.
«...Ликоспастов покачал головою.
— Э, брат, нехорошо, нехо-ро-шо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это, уж и слова никто про тебя не смей сказать? Без критики не проживёшь.
— Какая это критика?! Он издевается... Кто он такой?
— Он драматург, — ответил Ликоспастов, — пять пьес написал. И славный малый, ты зря злишься! Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно...
— Да ведь не я же сочинил афишу? Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега... и...
— Ты всё-таки не Софокл, — злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов, — я, брат, двадцать пять лет пишу, — продолжал он, — однако вот в Софоклы не попал, — он вздохнул.
Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего! Сказать так: «Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо!» Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно?
Я молчал, а Ликоспастов продолжал:
— Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня многие расспрашивали. Огорчает афишка-то!»
Прервёмся, хотя диалог продолжается, и опытный Ликоспастов дожимает трепыхучего нью-Софокла до отчаянного забытья в ресторанном угаре: «...стало так тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов змея».
Это «Глава 12». Двенадцатый аркан: Повешенный. А змея — это, конечно, верёвка.
Итак, Юрий Слёзкин. Он и в «Записках на манжетах» царует и даже единственный биографический очерк из задуманной Булгаковым «Биографической энциклопедии писателей-современников» посвящён тоже ему.
Слёзкин из «Запискок на манжетах»:
«Беллетрист Юрий Слёзкин сидел в шикарном кресле. Вообще всё в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диссонансом. Голова, оголённая тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). <...>
Изнурённый мозг вдруг запел:
— Мама! Мама! Что мы будем делать?!»
Текст «Роковых яиц» проясняет картину, снимая недосказанность:
«Ах, мама, что я буду делать без яиц??»
Тем более, что речь перед этим шла о тотальной осетинской резне. — «Злая рыба осетрина».
Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор. И все эти мингрельцы, имери... Как их? Черкесы. Просто дураки!
— А что с нами? Бу-дет?
— Пустяки. Мы откроем...
— Искусств?
— Угу. Всё будет. Изо. Лито. Фото. Тео. <...>
Ночь плывёт. Смоляная, чёрная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.
Мама! Мама! Что мы будем делать?!
Строит Слёзкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео.
Тео. Изо. Лизо. Тизо. <...> Несчастные мы! Изо. Физо. <...>
После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поёт хрустальным голосом: Ма-а-ма. Ма-а-ма!»
Тифозо. Шизо.
Тео-(И)зо-Фо(то). — Теософо.
«Подошёл. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!
Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.
— Завлито?
— Зав. Зав.
Пошёл дальше».
Это проскопическое видение Вождя «в сером френче и чудовищном галифе».
Гав! Гав!
«Я — уже не Завлито. Я — не завтео.
Я — бездомный пёс на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят — вздрагиваю».
«Я — «волк в овечьей шкуре»».
А всё — из-за камер-юнкера Пушкина. Посмел защищать того, кто сказал:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Ясное дело — волк; волк в человечьей шкуре.
Идём дальше. «Юрий Слёзкин» (Силуэт). — Силуэт насилует. Чем же?
Жеманфишизмом40, — глухо отвечает брательник Михаил из-за марлевой маски хирурга. Разобрал по косточкам, снова собрал — как новое, а двигаться перестало. Ибо ползало единственно энергией пузыренья.
Из анамнеза:
«Все атрибуты кармазиновщины по временам у Слёзкина налицо. Манерен он до того, что местами, несмотря на скупость слова, вычурными зализанными фразочками ухитряется как бы растянуть свои стремительные описания и сделать их приторными». Далее Булгаков на конкретных примерах показывает, как нестерпимо «пришепётывает Ю. Слёзкин а 1а Кармазинов», добивая лежачего (лежащего на софе, более того, на фило-софе) «приятеля» следующим разуме:
«Таков Ю. Слёзкин со своей психологией европеизированного русского барчука, с его жеманфишизмом, с вычурным и складным языком маркиза XX-го столетия, с его пёстрыми выдумками.
Ну, а если вздумать разгадать его интимную черту, то скрытое и характерное, что определяет писателя вполне?..
Ю. Слёзкин стоит в стороне. Он всегда в стороне. Он знает души своих героев, но никогда не вкладывает своей души. Она у него замкнута и всегда в стороне. Он ничему не учит своих героев, никогда не проповедует и не указывает путей. <...>
Ю. Слёзкин чуть-чуть презрительно, легко и чётко рисует то, что преподносит жизнь..., но любимую и желанную жизнь выдумывает сам». — И так далее. До упора.
Конечно — «так улетай же, чем скорей, тем лучше!»
И уже совсем по-крокодильи: «Друг Моцарт, эти слёзы, — Не замечай их, продолжай, спеши Ещё наполнить звуками мне душу!..»
Но что любопытно.
Бродя по задворкам и пустырям уже забытых и заброшенных слов и сообщений, Булгаков время от времени поднимал то один, то другой заржавленный полуистлевший предмет, что-то задумчиво прикидывая в воображении. Так Пикассо, подобрав седло и руль от сломанного велосипеда, придя домой, соединил одно с другим и получил замечательную голову антилопы. Булгаков был подлинным демиургом словесного мира, и в его хозяйстве ничего не пропадало.
Неудивительно, что и Слёзкина он приспособил к жизни вечной, подняв и отерев от пыли две «Скорбные легенды», посвящённые земной жизни Иисуса Христа. В первой из них Великий Учитель, срывая розу, поранил руку, и услужливые ученики предлагают покарать куст или хотя бы впредь обрезать шипы.
Наконец заключительный пассаж:
«И помолчав мгновение, он сказал:
— Этот цветок — путь моей жизни... Кто насладится душистыми лепестками его, не испытав боли? кто войдёт со мной в Царство Небесное, не изранив сердца своего? Истинно говорю вам — скоро-скоро прийдёт то время, когда обретёте вы счастье своё через страданье, ибо омывши в нём души свои, познаете блаженство...»41
Детонатор извлекаем из Булгаковских «Записок на манжетах»:
«Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт».
Почистил, приставил одно к другому — и получился Ми М.
И Слёзкин на что-то сгодился.
Вообще, сфера искусства с её патологической амбициозностью, безудержным кривлянием, в предреволюционные годы достигавшими каких-то противоестественных размеров, удивляла и обескураживала рыцаря истины. Из глубины его души вырывался вопль:
«Не надо злобы, писатели русские!..»
Вотще!
Из дневника: «26-го января 1926 г. Пятница.
Позавчера был у П.Н. Зайцева на чтении А. Белого. В комнату... набилась тьма народу. Негде было сесть. <...>
Белый в чёрной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и поясничает.
Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня всё это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор... символисты... «Брюсов дом в 7 этажей».
Шли раз по Арбату... И он вдруг спрашивает (Белый подражал, рассказывая это, интонации Брюсова): «Скажите, Борис Николаевич, как по-Вашему — Христос пришёл только для одной планеты или для многих?» Во-первых, что я за такая Валаамова ослица — вещать, а во-вторых, в этом почувствовал подковырку...
В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятными, долго нестерпимо говорил... о каком-то папоротнике... о том, что Брюсов был «Лик» символистов, но в то же время любил гадости делать...
Я ушёл, не дождавшись конца. После «Брюсова» должен был быть ещё отрывок из нового романа Белого.
Merci».
Это не всё. Фрагмент из катаевской «Травы забвенья»:
«Марков недавно, путём невероятных трудов и хитростей, затащил Маяковского во МХАТ на «Дни Турбиных» Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта.
На вопрос Маркова:
— Ну, что Вы скажете?
Маяковский ответил:
— Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что это за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица».
Или эта стычка, зафиксированная в Булгаковском дневнике:
«Ляшко (пролетарский писатель), чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрываемым раздражением:
— Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему всю кривизну нужно изображать? Нужно давать «чересполосицу» и т. д.
Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха это эпоха сведения счётов, он сказал с ненавистью:
— Чепуху вы говорите...
Не успел ничего ответить на эту семейную фразу потому, что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасенья» (16; 78).
Но «друзья» достают даже дома, заставая врасплох.
Катаев, рассказ «Зимой»:
«Что же мне делать? Жизнь незаполнима.
Остаётся одно развлечение — её брат.
Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма. Но у него — синие глаза. Правда, они только вечером синие или когда он сердится. Но они синие, с чернильными зрачками. Этого достаточно для того, чтобы я приходил к нему вечером и садился на диван против зелёного абажура лампы, висящей над писательским столом.
— <М.А.>, я люблю вашу сестру. <...>
Синие глаза круглеют до отказа. Жестом благородного отца он хватается за голову и начинает бегать по комнате, садясь на встречные стулья. <...>
— Вы это бросьте. Бросьте и бросьте. Ах, я дурак. Как я допустил? Как я мог это допустить? Вот не угодно ли...
Он начитает опять бегать по комнате, садясь на все стулья. Он не может себе простить этого рокового знакомства. Зачем он позвал меня к себе в сочельник? Ну да. Он один во всём виноват. <...> Но кто же мог предвидеть несчастье? Боже, боже! Вся вина в многочисленных глазах благородного семейства падёт исключительно на него.
Он долго всматривается в меня и вдруг впадает в отчаяние:
— Что? Жениться? О, господи! На ней? Что я наделал, что я наделал! <...>
Он в бессилии машет руками. Он не понимает, как это я не могу постигнуть такой элементарной вещи. Он собирается с силами и начинает объяснять. Ей нужно учиться, у неё университет, книги, профессора. У неё, наконец, жених. У жениха дом. Особняк. Она избалована. Я в ней ошибаюсь. <...> Она, и вдруг выходит замуж за поэта. За бедняка, за бродягу, за... за!.. Он не находит слов. Это нечто чудовищное. Нет, нет! Этого не может быть! Этого не будет! Бросьте, бросьте и бросьте.
Он несколько раз начинает истерически хохотать, несколько раз умолкает и несколько раз ищет спички, которые у него в руке. <...>
Я же упрямо повторяю:
— Я люблю её.
<...> Так забавно, когда он сердится, этот, в сущности, добрый человек и неплохой писатель».
Как бы милостиво похлопав по плечу.
А ведь было от чего задёргаться тактичному человеку: двумя страницами раньше мелькнула финским ножом всё разоблачающая фраза «Я всё катаю».
«Тогда он разражается великолепным фельетоном о долларе. Это его коронный номер».
Вот, оказывается, для чего он топтался у ковра, по острому наблюдению Шкловского.
Молодой человек, молодой человек. <...> Ах, молодой человек, знаете ли вы, что такое доллар? <...>
Доллар — это, батенька, всё. Я преклоняюсь перед долларом. Я влюблён в доллар. <...>
Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе. Мысленно он делает замечания лакею во фраке и ездит на моторе. Мысленно он пользуется тремя сортами воды и читает всю ночь Библию. <...>
Но в действительности в комнате два стула, потолок немного протекает, жена спит на худой походной кровати, ...соседка торгует самогоном, а сосед справа играет на гармонике и не платит в жилищное товарищество за квартиру. Отопление работает плохо. Доходы маленькие.
Но этот мечтатель живёт в чудесном мире долларов и комфорта.
— Так вот, батенька, я вам сейчас список составлю. А когда у вас всё по списочку будет, тогда мы с вами поговорим о женитьбе. Но, конечно, не на моей сестре, это вы бросьте. А вообще. Где мой бювар?
Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма. Собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т. д. и т. д. и Библия. <...>
Я беру списочек и аккуратно кладу в боковой карман.
— Хорошо. В двадцатом году я умирал от голоду в Харькове, в городском саду. На мне были парусиновые штаны и бязевая рубаха. Больше у меня ничего не было. <...> У меня звенело в ушах и темнело в глазах. Я не унывал. Я любил эту голодную и героическую пору военного коммунизма, любил устные газеты и митинги Я верил в будущее. Вот список, я это сделаю. Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет всё. <...> А у вас никогда ничего не будет».
Не правда ли, чёткий указ перстом, кто не любит революции, а кто от военного коммунизма просто без ума.
Перед нами свидетельство очевидца. Осенью 1919 года В.Н. Бунина писала М.А. Волошину: «...Было смешно вспоминать, как одесситы весной радостно перекрашивались в красную краску, которая за лето совершенно выгорела на них... Катаев теперь на добровольческом фронте в броневом поезде» (28; 206—207).
Ну а каков портрет человека, у которого Катаев почти ежедневно столовался в 1923—24 годах, даже после публикации в 1923 году данного рассказика?
Этот рассказец оценили по достоинству, прежде всего, «друзья» Булгакова. Мнение Ю. Слёзкина: «Портрет Булгакова тех дней очень верно написан Вал. Катаевым в его рассказе «Зимой»» (28; 204, курсив мой. — О.К.).
Молчаливая ненависть Олеши также показательна.
Поистине, Господи, спаси меня от друзей, а с врагами я как-нибудь сам разделаюсь!...
И если друзья таковы, то каковы же враги?
Мысль автора МиМ фиксировала всё с предельной ясностью:
«...Я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. <...>
Литература ужасна. <...>
Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». <...> Там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. <...> Эти «Никитинские субботники» — затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев» (16; 53, 74, 81; подчёркнуто Булгаковым).
Как говорит новообращённый в литераторы герой «Театрального романа»: «Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он — чужой мир. Отвратительный мир!» «Я впервые попал в мир литературы, — вторит ему Мастер, — но теперь <...> вспоминаю о нём с ужасом!»
И самое страшное в этом для Булгакова-Максудова-Мастера — погружение в мир людей, поражённых полной мистической глухотой.
М. Зощенко: «Я в Бога не верю. Я не мистик etc». («О себе, об идеологии и ещё кое о чём».)
В. Катаев: «Где же ангелы? Где же Бог? Их нет... Всё — тёмная поповская ложь» («Огонь»).
Этот «скорбный лист» можно продолжать до бесконечности.
Снова пример не то легкомысленности, не то умышленного эпатажа:
С. Есенин «обожал Достоевского и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так:
— Свидригайлов!» (27; 121)
В общем: «Господи, отелись!»
Каково ж было Булгакову, писателю-мистику, в этом удушающем растворе «серной кислоты»!
«Вечером звонил Адриан Пиотровский, приехавший из Ленинграда. <...> Хотел заказать М.А. сценарий. М.А. отказался. Но из любопытства спросил — «на какую тему?» — Антирелигиозную!» (4; 148)
Свидетельство Елены Сергеевны в развитие сюжета: «Примерно двумя годами раньше (т. е. 1936—37 гг. — ОК) Булгаков читал роман... И. Ильфу и Е. Петрову. И едва ли не первой их репликой после чтения была такая: «Уберите «древние» главы — и мы берёмся напечатать». Реакцию Булгакова Е.С. передала своим излюбленным выражением: «Он побледнел»» (22; 629).
И всё-таки одинокие лучики света в этом тёмном царстве проглядывали.
Вот раннее воспоминание.
«Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Чёрного моря, проездом в Петербург.
Где-то на севере был такой город.
Существует ли теперь? Писатель смеётся: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. (Это заблестела русалочьей чешуёй русская народная сказка. — ОК) Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. (Как утомлялись эти самые глазыньки, рассказано чуть раньше в главе «Бронзовый воротничок». — ОК) Целый вечер слушал рассказы о приключениях.
Братья писатели, в вашей судьбе...
Без денег сидел. Вещи украли...
...А на другой, последний вечер, у Слёзкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.
Евреинов находчивый человек:
— А вот «Музыкальные гримасы»...
И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюблённый настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.
Через десять минут цех был приведён в состояние полнейшей непригодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...
...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!» («Записки на манжетах»)
Не этот ли светлый гений русского театра привил Булгакову вкус к подмосткам?
Похоронив надежду издать биографию Мольера, Булгаков пишет Попову: «По сути дела, я — актёр, а не писатель. Кроме того, люблю покой и тишину». Не весёлые ли глаза Евреинова вспоминал он в этот момент поверх унылых и «озабоченных» физиономий литераторов, которых нёс с юга на север и с севера на юг мусорный «сквозной ветер»?..
Во всяком случае, пристально следя за публикациями нежно любимого Николая Николаевича, он наверняка не пропустил исследования «Происхождение драмы» (Пг, 1921), «Первобытная драма германцев» (Пг, 1922) и «Азазел и Дионис» (Л., 1924), посвящённые культу козла-Азазела и трагедии — козлиной песне. Влияние этих глубочайших мифологических штудий привело к тому, что будущий Воланд носил сначала имя Азазелло, а козлиные мотивы («Консультант с копытом») приобретали особо важное значение в аспекте рождения Планетарного Логоса под созвездием Козерога. И только угроза (даже сама возможность) отождествления начальника сатанинской компании с «кремлёвским горцем» заставила Булгакова убрать эту мифологему с переднего плана Романа, оставив её лишь в засурдиненных обертонах происшествий на Лысой горе.
А теперь в контраст одно светлое видение уже конца жизни.
Дневниковая запись Е. С. 5 января 1939 года: «Разговор о Чулкове, который умер на днях. Миша говорит — «он был хороший человек, настоящий писатель, небольшого ранга, но писатель». А я его не знала».
Георгий Иванович Чулков был идеологом мистического анархизма, под чьими знамёнами собрался цвет творческой интеллигенции орденского толка. Возможно, он как-то пересекался с Булгаковым, если тот так уверенно говорил о нём как о человеке. Что касается знакомства с произведениями, то оно самоочевидно42.
Любопытно, что фамилия Г. Чулкова почти не всплывала в связи с Булгаковым. Правда, однажды...
«18 февраля 1935 г.
Вечером были у Вересаевых. Там были пушкинисты: Цявловский с женой (Т. Зенгер — ОК), Чулков, Неведомский, Верховский...
Я, по желанию Викентия Викентьевича, сделала небольшой доклад по поводу моего толкования некоторых записей Жуковского о последних днях Пушкина.
За ужином Вересаев, шутя, посвятил меня в «пушкинисты» (как рыцарей посвящали)43».
Только совковое воспитание бывшей генеральской жены не позволило ей понять подлинное значение происходящего и даже запомнить присутствующих. Рыцари — это, конечно, из разряда литературных абстракций. Между тем имела место сходка в честь масонского лидера в преддверии столетия со дня его гибели. Обсуждался юбилейный, Пушкинский том «Литературного наследства», и Булгаков принимал участие в этом как равный. И он-то прекрасно понимал истинный смысл происходящего: ему всю жизнь приходилось смело, по-рыцарски вставать на защиту чести и достоинства светоча русской духовной культуры.
Вспомним несколько эпизодов.
«Всё было хорошо. Всё было отлично.
И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!
Так было дело: <...>
[Некто] прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стёр с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил сделать о нём специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперёд гляжу я без боязни», за камерюнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами.
Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же... он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь, улыбнулся загадочно, чёрт меня возьми! Улыбка не воробей?
— Выступайте оппонентом! <...>
— Хорошо, я выступлю!
И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. <...> На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. <...>
Говорил Он: «Клевету приемли равнодушно».
Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил чёрной ночи.
И показал! Было... смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, весёлое:
— Дожми его! Дожми!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но зато потом!! Но потом...
Я — «волк в овечьей шкуре». Я — «господин». Я — «буржуазный подголосок»...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я — уже не Завлито. Я — не завтео.
Я — безродный пёс на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят — вздрагиваю. <...>
Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4-я полоса, 4-я колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше чем меня ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть...
А я пропаду как червяк».
На этом дело не кончилось.
«Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».
Любовно с Юрием составляли программу...
Ровно за полчаса до начала я вышел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрёв. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнёт хохотом и скажет:
— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! <...>
Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрёв нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:
— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!
Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло crescendo. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта — театр выразил своё удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Biss!!!»
Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как [мой доброжелатель] летел с записной книжкой в редакцию...
Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвёртой полосе:
ОПЯТЬ ПУШКИН!
Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. <...> И т. д. <...>
Кончено. Всё кончено! Вечера запретили... <...>
Голодный, поздним вечером, иду в темноте по лужам. <...> На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. <...> Отчаяньем я пьян. И бормочу:
— Александр Пушкин! Lumen coeli. Sancta rosa. И как гром его угроза» (23/1; 132—140).
Любопытно, что вторым оппонентом на диспуте выступил местный адвокат Бёме. Их вкупе и приложил «об колено» критикан издевательским заголовком «Ни бе ни ме». Т. е. никакой не Булгаков, никакой не Михаил. Не говоря уж об «адвокатишке».
Не эта ли чудесная дуэтность вдохновляла юного защитника истины, справедливости и добра?
«По его словам выходило, что бунт декабристов был под знаком Пушкина, и Пушкин ненавидел тиранию...; Пушкин теоретик революции, но не практик — он не мог быть на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина закрыта завеса: в этом глубокая тайна его творчества. Однако Пушкин — революционер духа. Пушкин был «и ночь и Лысая гора» приводит докладчик слова поэта Полонского, и затем — творчество Пушкина божественно, лучезарно; Пушкин — полубог, евангелист, интернационалист. Он перевоплощался во всех богов Олимпа: был и Вакх и Бахус; и в заключение: на всём творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, гуманности, отвращение к убийству, к насилью...
И в последних словах сравнивает Пушкина с Тем, Кто заповедал людям «не убий» (по 29; 155—156 и 30).
«...Какая ложь, какой дурман окутал имя Пушкина и на какие хрупкие ходули хотели оппоненты — литератор Булгаков и адвокат Бёме — вознести снова Пушкина», — резюмирует костолом с пером («перо» на бандитском жаргоне — нож).
Но дело сделано, возведение произведено.
Никогда ни до, ни после Булгаков так не открывался публично. Зрелость ума и души будущего автора МиМ выявлена здесь до предела.
Пушкин — полубог, евангелист... — Конечно. Если Моцарт — бог, то Пушкин, высказавший это, и сам полубог; а поскольку Моцарт — Agnus Dei — Христос, то Пушкин, создавший «Моцарта и Сальери», естественно, евангелист. Известно, что Пушкин задумывал драму об Иисусе в цикле «Маленьких трагедий», но, написав «Моцарта и Сальери», высказался на данную тему настолько полно, что необходимость в дублировании отпала сама собой. Подлинное Евангелие принадлежит Христу, а не евангелистам, и Моцарт-Христос произносит его: «Гений и злодейство — две вещи несовместные»44. На это и намекает Булгаков заключительным сравнением своего доклада.
А что такое революционер духа, интернационалист? Речь идёт о высшем орденском достоинстве Александра Сергеевича, его принадлежности духовной культуре (позиции революционной для того времени, остающейся актуальной и до сих пор), его активному противостоянию культовому обскурантизму: «Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари!..» — именно эти строки выводит на бумаге рука «человека с огненными глазами». Да, «Вакхическая песнь» была масонским кредо Пушкина и, подхваченная новым бойцом, стала и его бессмертным девизом. Рыцарская круговая порука — главное сокровище инициации Круглого стола — сделалась принципом пребывания Булгакова в альтернативной среде генетических врагов и ненавистников. Она заставила его «встать горой» (или Гором?) на защиту командора нашего русского ордена писателей (16; 266)45. Орденское значение слов революционер духа, командор, интернационалист осталось недоступно даже специалистам; слова эти приобретали свой подлинный смысл только на сходке верных. Возможно, сходка «пушкинистов» носила такой характер, а Пушкинский том «Литературного наследства» являлся своего рода миной под возводимое гегемоном здание казарменного социализма. Павел Попов, из письма к которому процитирован пассаж о командоре, был одним из участников готовящегося «покушения на основы». Вот этот фрагмент:
«Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков пред отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И всё на спине.
Меняется оружие!» (19.III.1932)
А десятилетием раньше: «Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре».
Своё пушкинское достоинство Булгаков сознавал до конца, что и привлекло к нему Вересаева для совместной работы над драмой «Последние дни» («Пушкин»), но оно же и отпугнуло его в финальной стадии работы, когда вдруг у старика зашевелился в душе фарисейский протест: «Скажи, по какому праву? Кто дал тебе такое право?» (Лука 20, 2), подобный скаредному баронову «А по какому праву?».
Пустые причитания: право не дают, право берут под личную ответственность. А все хотят нести ответственность скопом — естественно, так нести легче; но ведь и награда в финале — не та.
Особенно заметно это, коль скоро о Михаиле Афанасьевиче пытаются судить на основе семейных обычаев, привязанностей и традиций. Когда-то своим жалким оппонированием масонству46 отец привлёк его внимание к этой важной теме русской культуры, и Булгаков-сын уже не отпускал драгоценной путеводной нити до конца жизни. И остальное семейство, как пустая порода, едва ли может дать понять нечто о самородке, в ней найденном.
«Достоевского Булгаковы не любили. Не отрицая его гений (ещё бы! — ОК), они считали, что он исказил черты русского человека... Брат Иван говорил, например, что Достоевский описал саркому русской души...»47 (32).
«Алексей. Ты знаешь, кто такой был Достоевский? <...> Он был пророк!» (33; 51) — Это уже изнутри самородка.
А ведь двумя репликами ранее Мышлаевский предлагал Достоевского повесить! — Всё правильно, мышь лает...
Так исподволь в драматургии споров и разномнений выясняется, что Булгаков абсолютно отчётливо представлял себе духовную генеалогию Достоевского. — Конечно, это гениальный текст Пушкинского «Пророка».
В 1821 году юному масону Пушкину старшие братья создали целую ложу, беспрецедентно назвав её в честь другого великого изгнанника «Овидий». Переживая повторное орденское посвящение48, Пушкин задумывает свой великий текст. — Тогда и появляется на свет Фёдор Достоевский со специальным заданием — и даром — «глаголом жечь сердца людей». Мистика событий именно такова, и, судя по огненной Пушкинской речи, Булгаков чётко схватил её эзотерический смысл. Ведь и его рождение является — семидесятилетие спустя — детонацией (нацией детей) этих двух необычайных событий. Семидесятилетие: семь декад или десять седьмиц — сакрально и провиденциально до избыточной внятности. Но кому доселе открылась эта черезвычайная закономерность? А любовь Булгакова к Гоголю — это любовь Достоевского, реинкарнировавшая вместе с носителем дара. Харизматические М. А. Булгакова, конечно М — Мастера и А — Адепта (или Архангела).
Поразительно, и Павел Попов, клявшийся Булгакову в верности и пиетете, тоже ненавидел Достоевского, хотя (таков цинизм литературоведения!) о нём «без зазренья» писал49. Не это ли внутреннее уродство привело его в конце концов к предательству А.Ф. Лосева? Кто знает, как рефлектировало это будущее событие на отношения с Булгаковым?
«7 ноября 1936 года неизвестный информатор НКВД передал разговор с Булгаковым «у себя дома»:
— Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалование, пока ещё не гонят с места (Большой театр), и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — исторической и из времени гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — её запретят негласно, если выйдет плохая — её запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: ещё с 1929—30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять и её сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц.
В истории с «Мольером» одним из таких людей был Олеша, написавший в газете МХАТа ругательную статью. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет всё, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность ещё лишний год скрывать свою творческую пустоту.
Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс, троцкисты, ну ещё будет — ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь своё суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных.
Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли...
Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен.
А может быть, я дурак и мне это уже сказали и я только не понял» (28; 346—347).
Как чисто и внятно звучит Булгаковский голос в этой сексотской записи! Ещё бы — это «ведомство» не терпело неточностей и отсебятины.
Патя (любопытен шахматный смысл этого полуимени-полупрозвища) Попов в своём посмертном отзыве на только что прочитанный полный текст Романа (письмо Е.С. от 27 декабря 1940 г.) поразительно напоминает Алоизия Могарыча: «Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман от корки до корки, причём о романе он отозвался очень лестно (у Попова: «гениальное мастерство», «вершина комизма» etc. — ОК), но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом (курсив мой. — О.К.), рассказал все замечания редактора, касающиеся романа. Он попадал из ста сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан». У Попова: «В этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше... сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50—100». Первая цифра не более чем реверанс перед дамой, речь соскальзывает и успокаивается на второй. — Осторожность прежде всего.
Особенно впечатляет паническое сравнение Романа с «Бесами» ненавидимого Патей Достоевского несколькими предложениями ранее: в «Бесах», оказывается, «идеология крайняя. И у Миши так же резко». В случае перлюстрации (в те годы она была очевидной для всех) это чистой воды донос, «экспертное мнение». А главное, снятие вины с себя: вовремя предупредил. «Мне только ошибочно казалось, что у Миши больше всё сгладилось, уравновесилось — какое тут!» И сравнение с Достоевским было дано совсем не из панегирических соображений: оно указывало направление идеологических проработок.
Впрочем, важно само сравнение. В этом случае в нём нет ничего комплиментарного, и тем оно для нас ценнее. Не по адресу ли «жидка Лямшина» вдохновенно орёт Иван Бездомный: «Бейте, граждане, арамея!» (3; 304).
А этот пассаж — из других ранних вариантов главы «Дело было в Грибоедове»:
«Иванушка оглянулся тоскливо, поклонился низко и хрипло сказал:
— Здорово, православные.
От такого приветствия молчание усилилось» (7; 250).
Разве массолитовская тусовка не описывается в тонах Пушкинско-Достоевской бесописи?
И разве не является реальным «сюром» сам наворот данных: человек с фамилией Попов является мужем внучки того, кого попы прокляли? Остроумная внучка, ставшая после замужества Толстой-Поповой, ёрничала над собой, подписывая письма одним словом Толстопопова. Втянувшись в известное поклонническое противостояние «Толстой-Достоевский», Патя Попов, кормившийся (за счёт образовавшейся принадлежности к роду «мамонта русской литературы») на публикации юбилейного девяностотомника его сочинений, по-холуйски рьяно принял сторону досточтимого дедушки. Сама «внучка» тоже, когда приспичило, напомнила властям о своей причастности к «зеркалу русской революции», а потом со смехом вспоминала, как пришлось деда «потрясти за бороду». Да и психоаналитическая штудия Достоевского была предпринята Поповым лишь потому, что марксизм и фрейдизм в эти годы считались «близнецами-братьями», а профессор Ермаков своей «Психоаналитической библиотекой» сделал идеи Фрейда чрезвычайно модными в России. Через несколько лет Оно уже можно было прочесть только как Отдел народного образования, что Попов усвоил мгновенно. Патя, прирождённый сателлит, не выносил падения «хозяев». В этом смысле Патя — «патологический тип», несмотря на то что такое прочтение не било в глаза и высвечивало исподволь. Так, например, затеянная Булгаковым игра с целованием рук (надо было неожиданно поцеловать у визави руку) сделалась его коньком, и сам инициатор в ней постоянно Попову проигрывал. И хотя супружеская чета часто кантовалась, как в вотчине, в Ясной Поляне, стал с Толстым на «ты» безродный киевский «выскочка», а не пишущий «на законных основаниях» на разграфлённой бумаге. Носивший толстовку как мундир, Булгаков не раз заявлял себя неколебимым пацифистом, а проповеданное им с трибуны «явление Льва Толстого русскому читателю» было мгновенно инкриминировано ему как очередная белогвардейская вылазка. «Явление Христа народу!» — со злорадством выкрикивали с места уязвлённые люмпены, хотя Булгаков в это время вспоминал не только Гоголя, ближе всех стоящего ко Христу на знаменитой картине Александра Иванова, но и величественную фигуру яснополянского старца с не менее любимой им картины-эпопеи Михаила Нестерова «Русь».
Привыкший иронизировать над предметами искреннего обожания, Булгаков многажды — исподволь и явно — касается личности и творчества Толстого и в устных скетчах, и в письменных опусах. Первый роман писался как прямое состязание с «Войной и миром», и не иначе как масонские главы Толстовской эпопеи приобщили Булгакова к миру потаённой русской культуры. Сатана-Троцкий увиден глазами угасающего на ветру времени русского офицерства; сам автор созерцает мистерию из надмирного высока: огнём обновляется вся природа.
Учитель из поднебесья своей компетенции подтвердил основательность претензий ученика (см. вышеприведённый отзыв Волошина). Когда пришло время итогового Романа, Булгаков не преминул вставить туда своего — и общероссийского — любимца в карнавальной маске управдома Босого. Собственно, маска эта выполнена по типу античных: не для сокрытия, но для усиления характерных черт и признаков. Босота — это главный опознавательный знак Толстого (помните — «...ходил по аллеям босой»?), и он выпячен фамилией персонажа, как накладной горб средневековых шутов. «Председатель жилтоварищества» Никанор Иванович Босой являет собой взрывоопасную смесь мрачного, дремучего суеверия и рациональности, хитрости и богобоязненности, филистерской законопослушности и вороватости. Коровьев, затеяв разговор о найме квартиры, мгновенно, как из фисгармонии, извлекает из него все необходимые звуки. Загнув непомерную цену за квартиру, Никанор Иванович «боялся, что Коровьев воскликнет: «Однако, и аппетиты же у вас, товарищи драгоценные», и вообще начнёт торговаться.
Но ничего этого не сбылось. Коровьев тут же воскликнул: «Об чём разговор, господи!» — поразив Босого, и выложил перед ним пачку в 350 долларов» (7; 65).
Гротесковая парадоксальность фигуры Толстого, выполненная мастером словесного шаржа, достигает раблезианских высот смехового пароксизма в финальной сцене. В квартире Босого шмон, гэпэушники находят спрятанные доллары (символ всемирного признания и международной поддержки великого русского ересиарха).
«Мы не знаем, что спасло Никанора Ивановича от удара. Но он был к нему близок. Шатаясь, с мёртвыми глазами, налитыми тёмной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка «Безбожник», положил на себя крестное знамение и прохрипел:
— Никогда валюты в руках не держал, товарищи, Богом клянусь!
И тут супруга Босого, что уж ей попритчилось, кто её знает, вдруг воскликнула:
— Покайся, Иваныч!
Чаша страдания ни в чём не повинного Босого... переполнилась, и он внезапно ударил свою супругу кулаком по лицу, отчего та разроняла битки по полу и взревела. (Вот он и Лев палиндромный пожаловал. — ОК)
— Ну, это ты брось, — холодно сказал тот, кто был в косоворотке (т. е. vox populi, Косово рот. — ОК), и мигом отделил Босого от жены.
Тогда Босой заломил руки, и слёзы покатились по его багровому лицу.
Минут через десять примерно видели некоторые обитатели громадного дома на Садовой, как председатель правления в сопровождении двух людей быстро проследовал в ворота дома и якобы шатался, как пьяный, и будто бы лицо у него было, как у покойника.
Что проследовал, это верно, а насчёт лица, может быть и приврали добрые люди» (7; 68—69).
Теперь и «добрые люди» появились, причём в Москве 20-х годов, менее чем через двадцать лет после смерти самого анекдотического (к тому времени) графа. Значит, недалеко и Тот, кто произнёс эту крылатую фразу. Его образ нарочито решается в толстовских тонах, ибо именно Толстой переписал Евангелие, «освободив» образ Иисуса от всяких божественных черт.
«Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я, это всё — добрые люди? А злых людей нет на свете?
— Нет, — ответил арестант. <...>
— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошёл своим умом?
— Своим умом дошёл, — ответил арестант. <...>
— Веришь ли ты в богов?
— Я верю в Бога, — ответил арестант» (7; 119).
И что особенно замечательно, отнюдь не Толстой является мишенью булгаковской мениппеи50. Аллюзии при прохождении этого комического каскада возникают по-моцартовски легко и игриво (вроде арии пораженного немотой Папагено из «Волшебной флейты»). Именно интеллигенция со своими идиотическими издержками рационализма была адресатом всех Булгаковских текстов. Чего стоит «господи!» в устах демона-Коровьева! Раскованность и свобода в изложении материала феноменальны, а шаржи, несмотря на всю их убойность, не перестают быть дружескими как раз в силу этой самой интеллигентской адресности, недоступной для грубого профанного гыка. Ибо высокая цель всех булгаковских весёлых лицедейств — рассуждение, а не осуждение. Что есть истина? — Вопрос неразрешим, пока слово истина не будет написано с большой буквы.
Истина не рождается в споре. В споре рождается только крик и раздражение.
Истина рождается в Вифлееме.
Этот главный вывод, это озарение и было импульсом к написанию Романа. А степень отстояния от этой простой, но великой мысли и была предметом смехового — по методу доказательства от противного — обыгрывания. По методу доказательства от гнусного.
Толстой — не частный человек из прошлого. Толстой — часть человеческой культуры. Значит, и нашей души, постоянно стремящейся к самопознанию и совершенствованию и потому постоянно исследующей и сотрясающей свои составляющие. В этом бессмертие всех, входящих в духовную элиту человечества. Это как море, обрабатывающее гальку.
По этой причине уже на ранних стадиях создания Роман насыщается россыпью великих имён, и только чувство пропорции не позволило автору перенасытить этот алхимический раствор. В результате многочисленных уплотнений и замещений в окончательный текст Романа не вошли такие известные имена, как Чайковский и Дант(е), причём по поводу носительницы последнего разыгрывается целый массолитовский фарс. Даже оркестр на балу у Сатаны составлен из ничем себя не запятнавших великих музыкантов (имена, имена!), а Гуно и Гёте появляются среди визитёров вообще как почётные гости.
Человеческий гений не отменяет, конечно, но лишь нейтрализует зло, творящееся на Земле. Братоубийственному безумию гражданской войны противостоит раскрытая на пюпитре рояля партитура «Фауста». И — о чудо! — в конце концов она побеждает.
И тогда начинается великий текст Ми М.
И человечество трубит сбор всех бессмертных и лучших.
Это и есть поэтика Круглого стола.
Поэтика братства.
Вторым близким другом Булгакова был Николай Лямин — гахновец, пречистенец, интеллигент. «Настоящему моему лучшему другу» — так надписал Булгаков свой сборник «Дьяволиада», подаренный Лямину в 1925 году. Познакомил и сблизил их Серёжа Заяицкий за год до того, и Лямин стал ещё одним постоянным сателлитом булгаковского бытия. И даже больше — общей окраской его музыкального настроя, ибо фамилия Лямин это сокращение от ля-минор (a-moll). Колорит ля-минор мрачен, убоен и глух; композиторы прибегают к нему крайне редко51. Может, это и не самое дно Аида, но что-то чрезвычайно близкое ему. Здесь — удушение жизни, угасание надежды и света. Вокруг — неизбежная лямка смертного бытия, неизбывная юдоль невозможности счастья. Неудивительно, что биография Николая Николаевича Лямина была окрашена в эти тона. Поначалу всё вроде бы шло ничего: купеческий сын, наследник фирмы «Лямин и сыновья», получивший до революции классическое филологическое образование, стал в 20-е годы ведущим сотрудником ГАХНа (Попов работал под его началом) и к моменту знакомства с Булгаковым являл собой редкий тип человека, который был и интеллигентен, и богат. Однако — судьба заманивала, убаюкивала, расслабляла. В 30-ом году на голову кр-a-moll-ного пречистенца посыпались «шишки», ананасные по размеру, но не по вкусу: закрыли ГАХН. В 1931 году Лямин был посажен на Лубянку на предмет вытряхивания валюты и ценностей. Вот откуда сюжет «Сна Никанора Ивановича»; проясняется и непонятный нор в имени Босого: это вторая половина ля-минор'а (Лямин-нор). С 1936 года Н.Н. в бесконечных арестах и ссылках, где и погибает вскоре после смерти Булгакова. Верность гению дорого обошлась, неподкупность стоила жизни.
«Взопрелость» Н.Н. на наследственных благах, отсчёт от прошлого коробили иногда разночинца Булгакова, и переставая чиниться, он впадал в неистовство и бесчинство. Запись из дневника Е.С. от 8 февраля 1936 года: «Вчера был Коля и безумно раздражал меня и Мишу своими пошлыми разговорами. Миша дал убийственную характеристику того круга, в котором Коля вращается. Коля притих и был подавлен. <...> После него М.А. говорил, что хочет написать пьесу или роман «Пречистенка», чтобы вывести эту старую Москву, которая его так раздражает.» Уже находясь в калужской ссылке, Лямин был нежно оберегаем женой от любых треволнений: «Характерно для Пречистенки: Тата Лямина позвонила, но сказала, что Коле не будет сообщать в Калугу о болезни Миши до тех пор, пока Миша не выздоровеет, а то Коля расстроится» (запись 29 сентября 1939 г.). Изнеженность и комфорт в какой-то момент обязательно встают между человеком и истиной, и катастрофично, даже если человек начинает колебаться. Бытовой булгаковский конформизм (вспомним хотя бы обсуждение закусок в переписке с П. Поповым) многих вводил в заблуждение: внутренний филистер начинал говорить со своим великим визави тоном единомышленника и единоверца — тут-то Булгаков и взрывался. Пречистенский уют и обильный стол профессора Преображенского был оплачен муками целой страны, а вместе с исчезновением его галош исчезло с лица земли население целых губерний... Булгаков хлопотал о служении, они — о прислуге. Он мечтал о мастерской, а им казалось, что он вгрызается в прочный московский быт. О каком единомыслии в этом случае может идти речь? Стайность всегда оппортунистична, а он одиночка — значит, оппозиционер.
И всё-таки надпись на «Дьяволиаде» оставалась в силе. Пречистенка была не только заповедником московского бонвиванства.
В истории русской духовной культуры начала XX века фиксированы фамилии ещё двух Ляминых, эзотериков и оккультистов. Оба они были связаны с деятельностью журнала «Спиритуалист», где сотрудничали и с сотрудниками которого дружили. Д. Лямину принадлежит брошюра «Мир духов», изданная в качестве бесплатного приложения к журналу, А. Лямину — две достаточно объёмные книги: «Сны и сновидения. Гипнотизм. Спиритизм. Телепатия. Ясновидение» М., 1904 и «Теория таинственного в научном изложении» М., 1910. Д. Лямин умер в 1909 году; в восьмом номере журнала «Спиритуалист» был помещён некролог, написанный главным редактором В.П. Быковым (ещё один Bull в нашей тельцовой компании).
Клан Ляминых, судя по всему, существовал и в советские убойные времена. Кроме Николая Николаевича у Булгакова был второй знакомый Лямин — Иван Иванович. Татьяна Лаппа вспоминает: «Они вместе в университете учились и теперь работали... в академии (им. Жуковского): Иван Павлович Крешков, Лямин Иван Иванович и Борис Земский. И жили Крешковы и Лямины вместе, в одной квартире, на Малой Бронной, дом 32, квартира 24, на пятом этаже. (Их подъезд расположен как раз напротив скамейки на Патриарших прудах, где Воланд, Берлиоз и Бездомный вели беседу52)» (12; 99). В этой квартире был разыгран спиритический сеанс, описанный затем в одноимённом рассказе. «Пострадавшим» в этом случае оказался простодушный Крешков, но сама идея проведения оккультного розыгрыша в стиле Блаватской именно здесь пришла Булгакову, судя по всему, не случайно: велись разговоры, была какая-то привязка к тематизму, причём с дореволюционными корнями, ибо для советских интеллектуальных люмпенов типа Маяковского спиритический сеанс — это вид мозговой дизентерии и бытовой контрреволюции. Весёлый розыгрыш Булгакова был своего рода карнавальным прощанием с отжившим и уходящим в прошлое спиритизмом, целой главой в книге духовного развития Европы второй половины XIX — начала XX веков. Лучшие умы мира отдали дань экспериментированию в этой области, среди них русские: Д. Менделеев и А. Бутлеров, А. Аксаков и Д. Цертелев (о Е. Блаватской и В. Быкове уже было упомянуто). В начале столетия эзотерика могла позволить себе подтрунивать над оккультизмом (гаданиями, общениями с духами, медиумизмом и «контактёрством»), уравновесив его на коромысле смеха с давно уже ретроградным культом. Ни принципиальный поиск истины, ни трансцендентная связь с Высшим миром не забредали более в эти камеры-обскура, ставшие сугубо зрелищными мероприятиями.
Там же, около Патриарших, в Малом Козихинском переулке жили знакомые Булгакова — Коморские: адвокат Владимир Евгеньевич и его жена Зина, за кем Булгаков слегка приударял. «Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог свят... Зина, ты орёл, а не женщина!» — В общем, какой-то морок, в полном соответствии с фамилией.
Если же добавить, что напротив Коморских в Козихинском жил и Юрий Слёзкин, то мистический расклад вокруг Патриарших («смех и слёзы») будет особенно выразителен. «Фантастическая симфония» дозревает. Скоро появится и Берлиоз.
А пока маг приноравливается к будущему месту действия, ходит вокруг да около магического зеркала вод. Два бледноголубых глаза примериваются, присматриваются...
Есть и ещё один глаз.
«Тонкий золотой, поднимающийся четырёхугольным кастом. В него вставлен сапфир цвета выгоревшего василька. У основания камень кажется светлым, к вершине темнеет. В нём проблескивает едва уловимый фиолетовый огонёк. Сапфир огранён кабошоном редкой пирамидальной формы: в основании прямоугольник размерами примерно семь на пять миллиметров, выше он закругляется, но рёбра пирамиды сохранены и при взгляде сверху напоминают косой андреевский крест. Размер камня — с горошину. В нём при внимательном рассмотрении видны включения в виде мелких пузырьков» (34; 10).
Обычно МАБ носил его камнем вниз; в таком положении он был похож на простое обручальное кольцо. В особых случаях он поворачивал его на пальце камнем вверх — сапфир начинал излучать прану добра, магнетизируя лучом выбранный объект.
Когда Сергей Ермолинский, отсидев за общение с Булгаковым срок, снова оказался в Москве и попытался пристроить свою пьесу «Грибоедов» во МХАТ, Елена Сергеевна дала ему на счастье Булгаковский перстень, проинструктировав, как им пользоваться.
И что же? — Успех был оглушительный! Как во время читки «Дней Турбиных». И успех, и карьера. И никто на радостях не заметил, что — дело было в «Грибоедове», а Ермолинский в перстне Мастера — это ермолка с буквой М на межбровье. Инструментарий мага «выстрелил» ещё раз, тем более что у Ермолинского были такие же, как у Булгакова, василькового цвета глаза. — И стрела полетела в цель.
Идя по Козихинскому и вспоминая кокетливую Зину, Булгаков наверняка повторял сакраментальную Моцартовскую формулу: Кози фан тутти! — стрекозиное верхнее до... А что же после? — «Позор, тоска... О жалкий жребий мой!»
Это уже рифмуется со скрипом трамвая. И с подсолнечным маслом. Не подлунным, обратите внимание, не подлунным. Ничто не подло под луной. «... И в аравийском урагане, и в дуновении...» — Аннушка уже разлила масло.
Итак, переходим от акварели к маслу.
Примечания
1. Всего лишь калька с Кармазинова Достоевского (анаграмма Карамзина).
2. Маяковский застрелился 14 апреля 1930 г., 1/IV по старому стилю; это была своего рода прощальная первоапрельская шутка.
3. В первом томе разбираются только ранние варианты Романа.
4. Многократно воспетая хозяином дома «царица Таиах» оказалась на поверку изображением совсем другого персонажа египетской истории. Но название за коктебельской головой сохранили прежнее, уже как «цитату из Волошина».
5. По: Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина. СПб., 1996; 396.
6. Не от этого ли название чаши на ножке — кубок?
7. Старшие арканы — наподобие музыкальных тональностей (C-dur и a-moll) — мы пишем с заглавной буквы, младшие — со строчной.
8. Об этом же свидетельствует и тезис православников: «Господь спасает нас наказанием» — при додумывании кто именно осуществляет последнее.
9. М. Булл — так Булгаков подписывал свои фельетоны.
10. Крым. Путеводитель // Под общей редакцией проф. И.М. Саркизова-Серазини. М.—Л.: ЗИФ, 1925. В булгаковской библиотеке находился экземпляр этого сочинения с пометами самого М.А.
11. Булгаковский вариант Вхутемаса.
12. Это, конечно, не только игрек, но и первая буква фамилии.
13. Заяицкий приглашал Ляминых: «Приходите — у меня будет читать молодой писатель, приехавший из Киева».
14. Т.е. Заяиц.
15. 12-й аркан Повешенный.
16. Вторым был А.И. Венедиктов (1896—1970), бывший колчаковский офицер, с 1922 года живший в Москве (3; 174—175). Кроме того, в 1933 году вышла очень важная для контрклерикальной направленности МиМ книга Д. Венедиктова «Палачи в рясах (Прошлое русского духовенства)», которая вряд ли прошла мимо внимания Булгакова.
17. Какой контраст к мнению Волошина! Учитель к Достоевскому приплюсовал еще и Толстого.
18. Подробнее см. 2; 120—121.
19. «В последний год Е.С. связывали с А.А. Фадеевым короткие отношения» etc. (8; 392).
20. Написание слова Мастер с большой буквы, в отличие от внутрироманного его употребления, указывает у нас на прямое включение личности Булгакова в это понятие.
21. Название, являющееся вроде бы традиционным определением слова «Церковь», на самом деле претендует считать Столпом и Утверждением Истины сам этот трактат, потому-то и дерзновенно посвященный самой Богоматери.
22. «История одной перековки» (Беломоро-Балтийский канал им. Сталина. История строительства. ОГИЗ, 1934; гл. 12).
23. Левидов М.Ю. (1891—1942). «Разносторонний» и шустрый литературный поденщик. Приобрел известность книгой о Свифте: «Путешествие в некоторые страны...» (1939). В дальнейшем — завистник и гонитель Булгакова. Как и многие другие ругатели, не сносил головы.
24. Это сведение особенно ценно, ибо добыто ГПУшным сексотом и обладает протокольной точностью.
25. Вспомним Шарикова: «Так свезло мне, так свезло, ...просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка...» (23, III; 136).
26. Достаточно сказать, что в этот же день застрелился на Тверском бульваре известный московский литератор Андрей Соболь, бывший в течение нескольких лет председателем Всероссийского союза писателей.
27. Во время обыска Булгаков с женой позволили себе еще хохмить (24; 106—107).
28. Мороча профанное сознание Катаева, он говорил ему важно: «Монокль — это очень хорошо!» — играя вызывающим семерным О. — «Но Анатоль не понимал».
29. Образчик такого отзыва приводится в 22; 3.
30. М.С. — писатель Дмитрий Стонов.
31. Рифмованный донос вышеозначенного биллиардиста выглядел так: Название опуса «Лицо классового врага. Буржуй-Нуво» (1928). Этот самый Нуво в нем «...На ложу в окно театральных касс тыкая ногтем лаковым, он даёт социальный заказ на «Дни Турбиных» — Булгаковым».
32. Любопытно, что составитель данной книжонки поименовал её «Диалог сатириков». До какой мозговой патологии надо дойти, чтобы назвать сложившуюся ситуацию «диалогом»!
33. «Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был «Фауст». Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал: «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счёт» (27; 73).
34. Катаев не знал, что это — фамилия бабушки Булгакова по матери (прим. М. Чудаковой)
35. Вот как это отразил Булгаков в записках «Тайному другу»: «В редакции встретил я развязного и выпившего поэта Вову Баргузина. Вова сказал: Читал, Мишенька, ваш роман в журнале «Страна». Плохонький роман, Мишун...»
36. Справедливости ради отметим, что летом 1916 года Булгаков подрабатывал контролёром на дачных поездах (см. 28; 39), и у него одного было бы алиби при обвинении купца Алексеева в злостной дезинформации комначальства.
37. Странно звучит это определение, высказанное по поводу человека, приехавшего из Матери городов русских одним из наглецов, столь же недавно мигрировавшим из Одессы.
38. Говорят, что картотека произведений Шкловского в РНБ превосходит объемом даже картотеку Льва Толстого.
39. См. 8; 171.
40. Даем это слово, как и Булгаков, без перевода, ибо в переводе оно сильно теряет.
41. Слезкин Ю. Повести и рассказы. Собр. соч. том второй. Пг., 1915; 189.
42. Г. Чулкову принадлежит один из лучших романов русской беллетристической демонологии — «Сатана» (М., 1915), наверняка известный Булгакову.
43. А вот булгаковский след в воспоминаниях Вересаева: «Однажды собралось у меня несколько знакомых, это не было собранием нашего кружка. За ужином Цявловский почти час говорил о найденном им ex libris на одной книге XVIII столетия, и узенькой темой этой сумел захватить людей, даже совершенно такими вещами не интересовавшихся, как К.А. Тренев, М.А. Булгаков, да и я». — Вересаев В.В. Собр. соч. в 4-х т., М., 1985; т. 4; 314.
44. Традиционно существует мнение, что гений — демоничен; в этой связи вспоминается даймон Сократа. Выстраивается следующий ряд: солнечный гений — даймон — демон — дьявол, упирающийся в Воланда и членов его свиты. Но человеческий гений является лучом солнечного гения. Тогда Пушкинская формула отводит понятие зла от Сатаны еще более категорично, чем Гетевское «вечно творит благо».
45. Катаев в эссе «Алмазный мой венец» прозрачно зашифровал Маяковского под выспренним псевдонимом Командор. Не говоря уже о забавных аллюзиях из Пушкинского «Дон Жуана», следует напомнить, что в Булгаковском скетче «Самооборона» действует председатель домового комитета Командоров (см. 31; 213).
46. Булгаков А.И. Современное франкмасонство. — Труды КДА, 1903 г.
47. Подобное суждение безусловно заслуживало суровой кары; и лишь снисходя к заслугам старшего брата, Высшие Силы ограничились высылкой в Париж «брата Ивана» с пожизненным балалаечным пустозвонством.
48. Впервые Пушкин был посвящен в 1818—20 гг. в Петербурге при принятии в ложу «Три добродетели».
49. Попов П.С. Я и Оно в творчестве Достоевского. М., 1928.
50. Введённое в гностический оборот Михаилом Бахтиным производное от имени знаменитого античного комедиографа. Для нас особенно важно, что первым из великих оценил, понял и воздал должное Мениппу Веласкес, создав концептуальное его изображение в рост («исторический портрет»), парное ко второму полотну «Эзоп».
51. Из великих произведений, написанных в этой тональности, назовём 6-ю симфонию Малера и фортепьянный концерт Грига. В русской музыке почти единственный пример — 3-я симфония Рахманинова.
Если создаются панорамные произведения («Хорошо темперированный клавир» Баха, 24 прелюдии Шопена или 24 прелюдии и фуги Шостаковича), то именно ля-минорные части представляют наибольшую сложность для написания.
52. Примечание публикатора Л. Паршина.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |